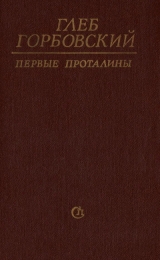
Текст книги "Первые проталины"
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Спасение к Рыбкину пришло неожиданно, как гибель от упавшей с крыши сосульки. Выходя из конторы на Невский проспект, Аполлон столкнулся с душистой красавицей в расписной дубленке, так и овеявшей Рыбкина с головы до ног французскими ароматами. А произошло следующее: в момент, когда композитор из сырой петербургской парадной на проспект, словно из склепа могильного, вылезал, с крыши дома и впрямь небольшая, этак граммов на полтораста, молодая сосулечка оборвалась и где-то в метре от парадной о грязный, посыпанный солью с песком асфальт разбилась, напугав ароматную дамочку, так и запрыгнувшую на каменнолицего Аполлона, едва не свалив его с ног.
– Бар-рнаульский! – исторгла из себя дамочка и бесформенной массой рухнула в его рассеянные, однако моментально отвердевшие объятия.
Дамочка Аполлону подвернулась тогда не простая, а, можно сказать, золотая, давнишняя знакомая, с которой он лет десять тому назад обошелся не очень внимательно, не подарив ей, тогдашней девчонке, хотя бы улыбку (правда, улыбок-то у Барнаульского как раз и не водилось). Ирочка эта душистая понятия не имела тогда, что улыбка из Аполлона добывается так же непросто, как, скажем, натуральные алмазы из унылого суглинка Псковской области. Аполлон и сейчас не расщедрился на улыбку, хотя повзрослевшая и, можно сказать, похорошевшая, помощневшая как-то и одновременно помодневшая, приобретшая некую дьявольщинку в контурах и в телесных изгибах Ирочка узнала его моментально и в грусть его беломраморную, благодаря наметанному глазу, проникла незамедлительно.
– Все такой же! – зашептала ему в кожаное пальто. – Ангел писаный… Нет, Архангел! Архистратиг! Серафим шестикрылый! Демон падший! Угадала? Хочешь, верну тебе улыбку? Знаю, знаю… Наслышана о твоих бедах. Есть идея. Только обожди меня здесь минуток несколько.
Аполлон взял Ирочку за верхнюю пуговицу дубленки и хотел было уже легонько отпихнуть от себя, как букет пахучих цветов, случайно сунутых кем-то ему под нос (Аполлон недолюбливал парфюмерные «веяния»), но почему-то передумал, заколебался в последний момент, в нерешительность впал…
– Что еще?! Какая у тебя, Ирочка, может идея появиться кроме одной, самой древней?
– Самая немудреная, а значит, гениальная. Пора тебе, Аполлончик, самим собой, прежним Барнаульским сделаться. Прости, конечно, за фамильярный тон, только ведь я тебя не в шпионы вербую, а всего лишь в друзья. Иными словами, добра тебе желаю. Подождешь меня десять минуток? Да или нет?
– Ступай себе… Обожду.
– А ты умничка! – нырнула в промозглую парадную Ирочка, на мгновение перебив там лестничный кошачий запах запахом дорогих заморских духов.
Так было положено начало вызволению из небытия популярного некогда песенного композитора Аполлона Барнаульского. Лично сама Ирочка песен этого автора в эфир не запускала, на экраны телевизоров шуструю продукцию Аполлона за руку не выводила, но и в Ленинграде, и в Москве были у нее (не под началом, отнюдь, всего лишь в обиходе бытия – как принято сейчас говорить, в «сфере ее влияния», на орбите ее вращения) несколько десятков нужных ей деловых людей, лишенных так называемых розовых очков, а также поэтических восторгов и прочих, с точки зрения Ирочки, архаизмов, мешающих всматриваться в дождливо-туманную даль повседневности.
Проживала Ирочка в столице, и, когда ее ленинградская командировка подошла к концу, одержимая идеей возжечь на устах Аполлона угасший пламень, уговорила она его съездить в Москву с тем, чтобы возродить некоторые знакомства, повращаться среди новых «нужных» людей, преимущественно женщин, что-то редактирующих, чем-то заведующих, а также что-то одобряющих или запрещающих вовсе.
За три дня, оставшиеся до отъезда Ирочки в Москву, сочинил Барнаульский десяток бойких песнюшек на стихи безымянных поэтов, зарабатывающих деньги главным образом на «рыбе», на так называемых подтекстовках: кто-нибудь, скажем композитор или редактор, задает им нужную тему, а то и размер будущего стихотворения; и эти бойкие ребятишки на другой день приносят товар лицом. Оправдывая этих ребят, нужно сказать, что трудились они всегда в поте лица и даже самозабвенно, были в своем деле профессионалами неоспоримыми. К тому же многие из них писали и для себя, нечто весьма недурственное.
Продукция этих мальчиков отыскалась в нужный момент для Барнаульского буквально под боком – в шишигинском дупле. Лежали эти стихи, скомканные, полуистерзанные, в глубине спального мешка философа, ранее дававшего робким авторам свои глубокомысленные отзывы на их опусы. Во дни своей холостяцкой жизни, особливо зимой, когда у Шишигина зябли ноги, обкладывал он свои заскорузлые ступни стихами молодых поэтов, заворачивал в омытую поэтическими слезами бумагу мозоли свои изнывающие. С приходом в дупло экстравагантной Инги спальный мешок скатали в трубочку и, безжалостно вытряхнув из него стихи, поместили дряхлый инвентарь в кладовку, а под спанье приспособили великолепное ложе – в полкомнаты нестандартную тахту, купленную возле комиссионного мебельного магазина «с рук» у одной обреченной на прозябание старушки, дремавшей, а скорей всего, замерзавшей на этой тахте под открытым небом.
Две или три песенки Барнаульский сочинил на стихи тогда еще не исчезнувшего поэта Тминного. Особенно удачной и, как показалось Барнаульскому, обещающей ресторанный успех, а значит, и «карася» (так музыканты общепитовских оркестров именуют денежки, плывущие к ним из карманов подгулявших посетителей), получилась песенка на стихи Герасима Тминного под названием «Столики»:
Смотрит в душу пристально
Глаз луны таинственный.
Здравствуй, друг единственный,
Посидим рядком…
Навалясь на столики,
Пусть шумят соколики,
А мы с тобой, как встарь, вдвоем
Про эти столики споем:
«Столики нарядные,
Круглые, квадратные.
Сколько разных видели
Вы чудес-проказ!
С бирюзой небесною,
С тишиной любезною,
С непроглядной бездною
Распрекрасных глаз!»
Наспех, как курица лапой, нанес Барнаульский на толстые листы нотной бумаги развеселые закорючки, уложил клавиры новорожденных песенок в плоский чемоданчик-дипломат и, пообещав Даше вернуться из Москвы победителем, поехал на вокзал. Даша почему-то не обняла его, как прежде, провожая куда-нибудь, не поцеловала на дорогу: не нравились Даше музыкальные Аполлоновы марионетки, песенки прыгающие, не ласкали они ей душу. Скорее наоборот: чем-то они ее обижали, оскорбляли чем-то…
Билет Барнаульскому еще накануне отъезда купила деловитая Ирочка («У меня в городских кассах родная сестра первого мужа сидит: я ей Омара Хайяма, она мне билет на „стрелку“. Зачем тебе волноваться, любезный, по таким пустякам? Твое дело попевку ловить за хвост, шлягер к полету готовить. У тебя, Аполлончик, не голова, а Монетный двор! Сочиняй, чекань презренный металл. Тебе, маэстро, отвлекаться никак нельзя. Твое дело – капуста, „мони-мони“. Сиди, шинкуй. А я тебе помогу с коленей на ноги встать. Подаришь мне поцелуй воздушный или духи французские. Обож-жаю! У меня из них приличная коллекция составилась. Приходи, дам понюхать – обалдеешь!»).
По обоюдной договоренности Ирочка из Ленинграда двумя днями раньше Аполлона отбыла. Почву подготовить и все такое прочее… Каково же было изумление Барнаульского, когда он, прижимая к ногам дипломат, протиснувшись в двери двухместного покоя, обнаружил там… Ирочку! Или, по крайней мере, ее двойняшку. Выпуклую, в каком-то заморском кожаном комбинезоне, мощную, порывистую, проголодавшуюся по всем приметам, разложившую на полотенце по столику аппетитные бутерброды с балыковой колбасой, семгой, красной икрой и еще с чем-то, веселящим одновременно мозг и желудок. Мандарины марокканские из прорванной пластиковой сеточки разбрелись по пододеяльнику на постели. Бутылка коньяка лежала на откидной полочке для полотенца, как ребенок в люльке, мерцая в полутьме золотым глазом пробки.
Барнаульский, погруженный в завораживающее магнетическое поле уюта, интима, распространявшееся по купе вместе с отталкивающим запахом духов, в нерешительности топтался на пороге, лихорадочно прикидывая все «за» и «против» своей поездки на пару с Ирочкой (если это она).
Мадам, конечно, попытается штурмовать… А ведь он в этом плане далеко не Шлиссельбургская крепость, не Орешек, то есть не твердый орешек… Но главное: он совершенно не знает Дашиной реакции на такие его возможные просчеты. Угадать бы, как поведет она себя, оступись он по этой части? Может, и отмахнется? Она ведь у него святая, блаженная… Подумаешь, грех: с малознакомой, а то и вовсе чужой женщиной в двухместном купе прокатиться! Да и что с ним случится особенного? От одних Ирочкиных духов так бы и вылетел в вентилятор, под ясные звезды!
Аполлон решительно забросил чемоданчик наверх, в багажную нишу и, не поздоровавшись, подвесил на плечиках свое кожаное, подбитое ламой пальто. В зеркале, расположенном в купе напротив другого зеркала, там, в уходящей в беспредельность перспективе, куда посмотрел он краем глаза, сидела к нему спиной молодая нарядная женщина, размноженная отражениями, сидела, облокотившись о столик, курила, пуская дым на шикарные закуски.
Но почему, черт возьми, решил он, что это – Ирочка?! Похожа? Только отчасти. Ростом, конфигурацией, приметами типа, не личности. Но прежде всего – запахом духов. Ну, еще цветом волос, что ли. А вот лицом – не того. Расхождение неуловимое. Разнобой, разнотык с лицом. Правда, он ведь с Ирочкой лет десять до теперешней, ленинградской встречи не виделся. Отвык. Так что и бог ее знает: она ли это или еще какой человек, в сторону Москвы перемещающийся?
Они тихонько просидели напротив друг друга часов до трех Ночи, сопровождая возникающие мысли мелкими, крошечными, словно снежинка в рот влетела, глотками армянского коньяка.
– Представляете… Мы ведь никогда больше с вами не увидимся, – затягивалась очередной порцией дыма владелица коньяка. – Никогда! Миллиарды миллиардов лет разлуки «до» и не менее того «после». После этой вот ночи. Разлука длиною в вечность. И ради чего жили до сих пор – так и не сумеем друг другу объяснить. Через пять часов расстанемся навсегда. Только представьте себе это «навсегда»… Неужели не страшно? «Навсегда-а-а… Никогда-а-а…» Помните, как там у Эдгара По ворон каркает, этот птичий Мефистофель. Неверморр! Неужели не боязно, не зябко?
– Нисколько. Даже весело, – Аполлон капал себе на язык из стакана и бережно, как в старину хлеб на лопате в печь сажали, вносил эту каплю вместе с языком в рот. – Что ни говори, а повезло нам с вами: такая ночь! Другие-то кто где… Кто у станка в ночную, кто по шпалам пешком, а кто и в могиле. Радоваться нужно… Благодарить если не бога, так… кассиршу. Сколько людей, идеально пригодных друг для друга, несутся в данный момент в направлениях противоположных или параллельно, и никогда, права пташка, никогда пути их не пересекутся, не дотянутся они друг до друга рукой… Да что там рукой – мысленно и то не дотянутся! За ваше здоровье, мадам, за ваше тело, душу и что там еще… За вашу несбыточную химеру, то бишь Любовь. И за мою железную волю! К победе…
Темное декабрьское утро Москвы намекало на предстоящий день едва уловимым рассветом, таким робким и слабеньким, словно дыхание умирающего – хоть зеркало к губам подноси. На оцарапанном стальными скребками бесснежном бетоне платформы Аполлон и его попутчица сперва вежливо попрощались с проводницей, затаившей на лице ироническую, себе на уме, улыбку. Затем стали прощаться друг с другом.
– Кто вы? – поинтересовался протрезвевший Аполлон, выпуская ее из своего взгляда, как из клетки – на все четыре стороны.
– Зачем это вам? – она подвинула на плече, поближе к шее, кожаный ремешок сумки. – Вот видите… Сами не знаете – зачем? А все потому, что мы уже врозь. Инцидент исчерпан. Как тот коньячок славный.
– И все же… – скрипнул кожей пальто Аполлон.
– Меня встречают. Прощайте.
На другой день состоялась запланированная еще в Ленинграде встреча Аполлона с Ирочкой и какой-то эфирно-телевизионно-музыкальной дамой, жгучей брюнеткой, до того жгучей, что временами она казалась прожженной насквозь.
В довершение Аполлон так и не понял: с кем же он все-таки ехал в поезде? Духами пахло одинаково и от сегодняшней Ирочки, и от дамы в комбинезоне, с которой он вкусно поужинал в купе и о которой теперь старался не вспоминать; да, собственно, и от музыкальной брюнетки с такими сверхнапомаженными красными губами, словно их кто-то недавно наполовину откусил, пахло теми же французскими «Фиджи» или «Луиджи».
Однако, помимо духов и некоторого крена к последовательности в выборе нарядов (гладкая кожа в соседстве с замшей, джинсы с вельветом, «сафари», бархат, хлопчатка военного образца цвета хаки), вряд ли что роднило этих современных женщин, следящих за модой пуще, нежели за спасением души, чего не скажешь о встревоженной любовью Даше, по-старушечьи перекрестившей его однажды в темном дворе возле такси перед отправкой на концерт, как на фронт, с виноватой и в то же время беспомощной улыбкой на лице.
Подумав о Даше, Аполлон немедленно ощутил в себе мощное желание плюнуть на все затеянное Ирочкой, взорваться, нахамить, изваляться в еще большей грязи, но только не с Ирочкой, не в ее парфюмерной среде и сфере, а где-нибудь намного ниже, хотя бы и в привокзальном буфете, среди очумевших от дороги, вразнос пошедших милых, забавных людей, всплывших здесь, на столичной площади трех вокзалов, придя по темным коридорам, а то и трубам судеб своих откуда-то издалека, из бездонных глубин России, смешаться с ними на момент, а там и – домой, на покаяние к Дарье.
Но перед глазами Аполлона моментально возникла жалкая сумма в двадцать девять рублей тринадцать копеек. Причем тринадцать копеек мелочи сияли в разгоряченном мозгу Барнаульского, как табло электронных часов, мерцая въедливым, болотным, молчаливым светом крушения надежд… И Аполлон, передергивая плечами, словно стряхивая с себя угарное томление неизбежности, неотвратимости падения в зеленую яму греха, шел следом за Ирочкой по каким-то казенным коридорам, залам, кабинетам и галереям, совершая сакраментальные круги, после чего, по истечении определенного количества времени, на его лицевой счет вновь, со все возрастающей упругостью начнет ниспадать золотая животворящая денежная струйка.
Вернулся Аполлон победителем; к весне, когда родился Платоша, с финансами и впрямь наладилось, причем, продолжая «запускать голубей» (метафора Шишигина), то есть сочинять и тиражировать новые песенки, Аполлон надеялся, что со временем дела его пойдут все лучше и лучше, если и вовсе не достигнут прежних высот, когда он, подгулявший, сидя в каком-нибудь «неприступном» ресторане-крепости, посылал руководителю ансамбля, исполнявшего очередной его шлягер, солидного «карася» – зеленого, полусотенного колорита, с просьбой повторить!
Но вот чудо: после тогдашней его поездки в Москву, сумбурной и пряной, появилась в Дашиных глазах не печаль (она там и прежде ночевала, никем не замеченная), появилось в них как бы по облачку студеному, предзимнему, дождливому, холода близкие обещающему… Что-то непоправимое в них назрело. И главный знак беды проявлялся в постепенном исчезновении с Дашиного лица знаменитой ее негасимой улыбки, способной исцелять завзятых нытиков, возжигать огонь надежды в сердцах отпетых угрюмцев. Дашина улыбка меркла, но приобретенная Барнаульским в Москве прощелыжная ухмылка, якобы беззаботная, к физиономии его смазливой не приставала, отклеивалась постоянно, сползала подтаявшим гримом прочь, покуда на лице Барнаульского вновь ничего, кроме мраморного бездушья, не осталось…
И вот странно: никто Даше про обстоятельства тогдашней поездки ее мужа поведать не мог, исключалась такая возможность. «Тогда почему же она загрустила?» – спрашивал себя Аполлон. Не было ни анонимных писем пока что, ни звонков телефонных с придыханиями и умолчанием имени позвонившего, не было случайных обмолвок или определенных стечений фактов, когда что-то проясняется как бы само собой… Ничего такого не было, да и быть не могло. Аполлон искренне сомневался в происшедшем с ним падении: была поездка, была ночь, отдельное купе, а вот… был ли «нокаут», или просто потерял он равновесие, зашатался, одурманенный, не ясно.
Тогда почему, словно шагреневая кожа, уменьшалась, таяла Дашина улыбка? Нет, ее не смазало единым махом, не сорвало с лица, словно ветром шляпку с головы, она стала потихоньку убывать, истончаться, гаснуть, как бы выцветать на солнцепеке.
– Скажи, Аполлон… Про «вишенку» песенка, под твоей прежней фамилией Барнаульский, она что – давнишняя?
– Нет, новенькая.
– Ты что же, опять для ресторана стараешься?
– Нет, для народа. И для тебя в том числе. Ради вот этой курточки фирменной, антрекотика парного… Ради молочишка Платошинова из-под живой коровки, которых здесь в поселке на всю округу две штуки осталось. Реликтовое молочко…
– Понимаю…
Ко времени цветения сирени в дачном саду Барнаульского, то есть к моменту, с которого начиналась эта наша предпоследняя в повести глава, на лице Даши оставалось так мало улыбки, что впору было вызывать врача.
Исчезала с Дашиного лица улыбка, а вместе с ней исчезала помаленьку и сама Даша: знакомые ей люди все реже встречали ее на улицах города, домашние все чаще замечали ее отсутствующий взгляд. Потом в ее облике для них стали как бы пропадать отдельные черточки и штришки: ослаб румянец, один из уголков рта опустился, загустела, прежде почти прозрачная, воздушная синева ее глаз, нарушилась плавность и округлость движений, голосок пламенный, ясный, першащим как бы дымком подернулся, да и слов в ее копилке как бы поубавилось, молчаливее стала. И наметился весь этот ее ущерб по возвращении Аполлона из его тогдашней поездки в Москву.
Вернулся он в тот раз с глазами мутными, взъярившимися от реанимированного успеха на композиторском поприще, от столичной, вокзально-поездной суеты, полуослепший от множества сиятельных лиц и событий, от которых он не успел отойти, как сомлевшая нога, отсиженная в момент захватывающей беседы и не успевшая оттаять от сладкой, пузырьками нарзанными покалывающей боли.
Он долго пил тогда ключевую воду из красивого кувшина, стенки которого напоминали заиндевелое, морозное стекло, пил, словно помимо жажды старался заглушить, погасить в себе тревогу, вызревавшую в нем впрок, заранее до предстоящего общения с Дашей, перед которой чувствовал себя не столько виноватым, сколько неумытым.
С тех пор, с поездки этой курьезной, сто дней миновало, а хихикающий нервозно, без признаков улыбки, невпопад с настроением окружающих его людей, воспрянувший в денежном отношении Аполлон так и не распрямился полностью, ходил мимо Даши пригнувшись как бы, словно в ожидании чего-то неотвратимого.
Когда сегодня Даша кормила его зажаренным в чесноке и каких-то индийских травках цыпленком, когда она пирогом яблочным его потчевала, он и глаза-то на нее поднять побоялся, якобы трапезой увлекшись, и только отрывисто похваливал пищу, а также пышную, «сдобную» сирень, как бы пеной исходящую, выкипающую из вазы, умилялся ворчанием (или пением?) своего сына Платоши за стеной – и все это с прежним каменным лицом.
Потом они говорили недолго, но больше молчали. И Аполлон потерял на какое-то мгновение Дашу из виду, забившуюся в самый затененный угол спальни, и создалось впечатление, что Даша… исчезла. И деловой, алчный мозг Аполлона содрогнулся от мимолетного испуга, связанного с потерей опоры… В проводах и проводочках его сознания тревожным гудением неслась, волчьей вьюгой стенала паника, навеянная приближением одиночества.
Аполлон зоологическим своим чутьем догадывался, что теряет Дашу. И проистекала сия потеря буднично, на глазах, как время, как погода за окном, как отцветание трав, как осознание бренности всего материального…
– Даша, – подсел он к ней, осмелев от страха. – Что у тебя на уме? Откройся. Я ведь чую. Что ты надумала?
– Я полюбила другого.
Аполлон не упал в обморок. Не задохнулся от удушья, не побежал на рельсы под электричку ложиться и даже не побелел, как бумага, не закричал зайцем, не схватился за сердце, не затрясся в гневе, не бросился на Дашу с кулаками, глаза его не остервенели от бешенства, речь не отнялась. У него был опыт, который порождал бесстрашие.
– Кого? Летчика, что ли, штурмана долговязого? Или кого? Имя? Как зовут?
– Платошей его зовут.
– Кто это?! Смеешься?
– Нет, миленький… Не смеюсь уже. Кого теперь и любить, как не его?
– Сына?! Так и люби на здоровье! Я что, против, что ли? Я тебя о другом… О нас с тобой…
Даша медленно, с неподдельным усилием подняла руку, тихо погладила Аполлона по ухоженной, женственной голове.
– Бедненький… А ведь ничего теперь не поделать. Не до тебя мне теперь будет. Справишься? С музычкой своей? Один на один? Тебе ведь ее не из сердца добывать… Она у тебя всегда под рукой – музычка твоя дурашливая, веселенькая. А Платоша – не музычка. Платоша – душа. Его необходимо внимательно любить. Не вслушиваться, а любить. Постоянно, без антрактов. Любить, чтобы он без любви не остался, как ты…
– Заговариваешься, глупенькая. А ведь что, собственно, я тебе сделал? За песенки опять взялся. Ну и что? Это моя профессия – лудить песенки! И ради кого стараюсь-то? Да ради вас: ради тебя и Платоши. Я знаю, ты из-за Москвы! А кто попутал-то? Бес, что ли? Баба и попутала! Ваша сестра! Евино отродье! Из того же ребра содеянное, от которого и ты, миленькая, начало берешь!
– Ошибаешься. Я не от Евы. Я от Лилит. Я – прежде.








