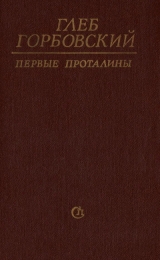
Текст книги "Первые проталины"
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
Под музыку дождя
(Повесть)
Посвящается Светлане Вишневской
Что предание говорит?
Прежде Евы была Лилит.
Прежде Евы Лилит была,
Та, что яблока не рвала.
Не женой была, не женой,
Стороной прошла, стороной.
………………………………………
Улыбнулась из тростника
И пропала на все века.
Вадим Шефнер

Глава первая. Даша
 на оторвалась от холодного облака и теперь падала на землю. Тоненько посвистывал воздух, обтекая прозрачное податливое тело. Сверху и ниже ее, а также с боков уносились к земле похожие на нее создания. Но это были другие создания.
на оторвалась от холодного облака и теперь падала на землю. Тоненько посвистывал воздух, обтекая прозрачное податливое тело. Сверху и ниже ее, а также с боков уносились к земле похожие на нее создания. Но это были другие создания.
Капля ударилась о Дворцовую площадь, оставив на брусчатке забавную кляксу.
На лице женщины, возле которой упала капля, очнулась тихая улыбка, наверняка не исчезавшая с этого лица даже во сне.
Улыбка брала свое начало в глазах. Далеко оттолкнувшиеся друг от друга, глаза эти, на первый взгляд несерьезные, простодушные, налитые нерастраченной синевой детства, обладали изрядной живостью и даже властью.
К примеру, стоило Даше войти в полупустой трамвайный вагон, как ее сразу начинали видеть все. Одновременно. А ведь рост ее, вместе с каблуками, не превышал ста шестидесяти пяти сантиметров. Возвышали глаза. Чистые, утренние, спокойные. Резко в них почти никогда не вспыхивало, но как бы все время рассветало.
Свет излучали даже ее зубы – сильные, здоровые, сбереженные. На прямом, хотя и не очень заметном носу во время улыбки возникали веселые бороздки, как бы ставленные лучами света, исходившего от ее глаз.
За модой она следила, но рассеянно, не пристально, как, скажем, следят за поведением неба обыкновенные граждане: луну, повисшую над городом, заметят или дождевые облака – не больше.
Официально замужем еще не была, но имела, как говорили прежде, этаких воздыхателей, этаких стойких, но грустных и жалких нахлебников по «чувствительной части», этаких цепких, надежно за нее ухватившихся невеселых молодых людей. И надлежало их не любить, но как бы все время выхаживать, спасать от немочи духовной. И обошлась бы она без них, да прочно, видать, застряли в ее характере замашки «сестрицы милосердной».
С одним из таких одуванчиков познакомилась она год назад при следующих обстоятельствах. Выйдя наружу из прохладного храма, где работала экскурсоводом, возвращалась домой по территории Петропавловской крепости, как вдруг почувствовала неясное беспокойство. Как будто призыв чей-то, вялый, о помощи уловила. Откуда-то из-за стены, то есть снаружи крепости исходящий. И она побежала туда, на этот призыв.
Сперва за ворота вырвалась, затем по берегу вдоль воды устремилась. Какие-то типы пригнувшиеся кинулись от нее врассыпную. И вдруг под самой стеной, в каменном, сыром холодке наткнулась на поверженного человека неопределенных лет, во всяком случае не старика еще. Помогла ему очнуться, брызнув под нос духами, извлеченными из сумочки.
Когда они затем на проспект вышли, многие на них оглядываться стали. Оглядывались скорей всего потому, что в сравнении с ним была она неуместна. Опрятно одетая во что-то светлое, воздушное, прикасалась к нему бесстрашно, не замечая безобразия его теперешнего, не ощущая на себе посторонних взглядов.
У него по измятому, в свежих ссадинах лицу еще минуту назад текла кровь. Мышиного цвета вельветовый пиджак изрядно выпачкан, швы местами, и прежде всего под мышками, разъехались, на спине отпечатался огромный след чужого ботинка.
– За что они вас? – Даша сделала попытку удержать пошатнувшегося незнакомца и вместе с ним едва не упала на подстриженную траву сквера.
– За что, спрашиваете? – сплюнул он, нисколько не стесняясь девушки. – А за то, что деру не дал. Не отвалил в сторонку. Как это принято у граждан по вечерам. Пили там подонки одни. Распоясались. Три рубля спрашивать стали у всех. Бутылки о стену! Пляж загадили. Никто ни словечка шутникам. Я только хмыкнул иронически. В их сторону. И за это…
– Вы знаете… – потянулась к нему голосом. – Я их, кажется, видела! Так что, если понадобится, я и в свидетели пойду.
– Спасибо. Да вы не подумайте: я им тоже насовал будь здоров.
– Главное, вовремя подоспела! От таких жестоких людей всего можно ожидать. Когда они убегали, в руках одного что-то сверкнуло! Наверняка не зеркальце. Хотите на себя взглянуть? – протянула раскрытую пудреницу, от которой он вяло отмахнулся. – Дайте-ка я оботру вам лицо. Царапины припудрю…
Незнакомец разлепил заплывшие, заголубевшие от побоев веки, вытаращил на Дашу неудачного землистого цвета жиденькие глаза и вдруг нерешительно и как-то некрасиво улыбнулся, неясно догадываясь, что женщина эта молодая, неизвестно откуда взявшаяся ни в малейшей степени унизить его не собирается и ведет себя так придурковато – непонятно почему. Скорей всего, познакомиться хочет. Наверняка хромая или еще с каким изъяном…
И тут они с размаху на лавочку сели. Под деревом.
– Эдик, – протянул он ей грубую, неопрятную пятерню. – Геолог. Вот уволился. Отдыхаю.
Даша руку геолога приняла, пожала, не придав значения аромату, исходившему от слов подвыпившего Эдика.
– Повернитесь ко мне… – осторожно коснулась грязных ссадин душистым платком.
– Теперь от меня, как от парикмахерской, будет… – вяло сопротивлялся геолог, торопливо рассматривая женщину, словно боясь, что глаза его побитые вот-вот полностью закроются оранжево-голубыми складками опухоли.
Когда попробовали со скамьи приподняться, Эдик громко застонал и покачнулся, шевельнув маской лица.
– Мы, кажется, окрасились, – прошептал, ощупывая штаны и одновременно теряя сознание.
Потом было такси, которое кричащим, беспомощным, а в итоге удачливым движением руки выловила Даша на вечереющем проспекте. Потом она повезла его туда, где он проживал, но по дороге шофер такси посоветовал ей отвезти геолога в травматологический пункт.
Когда геолог, нюхнув нашатыря, очухался, поехала к нему домой – сопровождающей. Жил он возле самого Смоленского кладбища на одной из последних по счету линий Васильевского острова в огромной коммунальной квартире. В комнате у него отчетливо пахло одиночеством. Явно прослеживалась тропинка, проложенная в застарелой пыли от дверей к мутному оконцу, под которым сонной облезлой дворнягой лежала дряхлая, с ввалившимся животом тахта. На подоконнике в граненых стаканах – букетики из окурков. На стене, сорвавшиеся с одного гвоздя и чудом державшиеся на втором, огромные лосиные рога.
Эдик, как только вошли в комнату, сразу же уселся под эти рога и стал пристально, с нескрываемым изумлением рассматривать Дашу, раздвигая веки опухших глаз при помощи рук – поочередно.
– Ладно, хорошо… Но кто вы? Откуда взялись? – спросил невесело, видимо стесняясь своей расслабленности, запустения комнатного.
В ответ она только утешающе улыбнулась ему. Затем прошла по тропинке через всю комнату к тахте, неуверенно положила ему на голову, на неприбранные волосы свою легкую ладонь.
И тут геолог сплоховал, приняв это ее движение за обыкновенное согласие побыть наедине. Он стремительно перехватил ее прохладную руку своей правой, а левой попытался обнять Дашу пониже пояса.
Даша вздрогнула от неожиданности, но вырываться из глупых рук не стала, потому что думала сейчас о другом, а именно о мужской неловкости, которая неприглядней неловкости женской, детской и даже инвалидной.
И тогда геолог в лицо Даше посмотрел. И то, что он там увидел, остановило его. В глазах ее добродушных обнаружил он вовсе не страх, но всего лишь обволакивающее тепло милосердия.
– Нет, нет… вы меня неправильно поняли… – причитал он в жидкой, слезливой истерике, раскисший от всего с ним происшедшего, от каждодневных бессмысленных возлияний, от потерянности своей во времени и пространстве, причитал, размазывая тяжелые, злые, похабные слезы по небритому лицу.
Потом Даша ушла, оставив на стекле, на пыльной поверхности замурзанного оконца номер своего телефона. Подушечка пальца, которым она писала, сделалась черной, и девушка долго еще потом оттирала многолетнюю копоть с пальца, спускаясь по вонючей лестнице навстречу светлому, переходящему в белую ночь вечеру.
Работала Даша экскурсоводом в Петропавловской крепости. Попутно, обучаясь на заочном отделении института имени Репина, приобрела искусствоведческое образование, а на интуристских курсах упрочила знание английского, дававшегося ей легко еще со школьной скамьи. Иногда позировала друзьям живописцам, мечтала написать роман из эпохи Возрождения и поэму о своем любимом композиторе Антонио Вивальди. Еще умела испечь в газовой духовке «моментальный» пирог с яблоками, сама себя обстирывала, обшивала. Жила не одна, а в обширной семье: мать, отец, братья и еще полный дом каких-то странников – не то родственников, не то бессемейных, одиноких людей.
И вот еще особенность: с ее-то лишенной отчетливых дефектов внешностью, с ее добромыслием в огромных глазах – до сих пор не сумела она выйти замуж… Не то чтобы не смогла, но как бы не догадалась.
Человек, родственный ее помыслам, проживал пока что в облаках ее воображения. Два-три реальных Эдика, за которыми ходила, как нянька, и которых молчаливо терпела, были при ней всегда. Но отнюдь не из их среды появлялся в ее мечтах тот в меру таинственный, а подчас и конкретный облик, боготворимый ею. Он был сам по себе, Эдики – сами по себе. Вечерами ходила она тайком от всех на воображаемое свидание со своим Героем… Но обо всем этом чуть позже.
Сначала о выражении ее глаз. Потому что именно выражением глаз останавливала она встречных людей. Глаза ее излучали радость. Это их главное свойство срабатывало моментально. Недаром собаки запросто подбегали к ней на полусогнутых и, склонив набок головы, начинали задумчиво помахивать хвостами. Присутствие в окраске глаз синевы небесной в сочетании с синевой душевной, пожалуй, и порождало этот магнетический эффект добра, эффект, исключающий всякий намек на сокрытие чувств. Благодаря глазам на лице Даши ни когда не было маски.
А ведь посмотрите-ка в глаза толпе, взгляните на ее неуправляемое лицо-муравейник: сколько там, особенно в городе, где-нибудь на Невском в летний, «обнаженный» период, сколько там высокомерных прищуров, напускной меланхолии, откровенных позывов, «таинственной» сомнамбулии, бесшабашной залихватчинки, наигранной, лжесчастливой умиротворенности и напускного равнодушия. Недаром прежде шляпы, плаща или зонтика, выходя на улицу, запасаемся мы сподручного выражения личиной, и под ее опекой живем весь день, не срывая ее с лица даже в столовых, даже в уборных, даже, отходя на сон.
Даша любила свой город непринужденно, не задумываясь над этим движением души. Любила – весь, целиком. Дружила со многими местами, но чаще – с открытыми, не зажатыми в каменные объятия домов. Нева с ее набережными, Василеостровская стрелка, мосты и даже кладбища с незабвенными могилами Тютчева, Достоевского, Блока. Мощенный булыжником двор Петропавловки, Марсово поле… А вот Невского проспекта стеснялась, предпочитая любоваться им со стороны, а то и вовсе по памяти, не вторгаясь без надобности в его многострунную копошащуюся стремнину.
Но почему-то лишь на Дворцовой площади, возле которой родилась, как возле озера детства, охватывали ее приливы редчайшего восторга и благодарности перед жизнью, перед летящей в бескрайнем пространстве Землей – за возможность дышать, видеть, впитывать, преклоняться и верить в многомерность, неслучайность, многозначимость бытия. Иногда ей хотелось тихонько лечь на брусчатку, как где-нибудь на лесной поляне в изумруд-траву, свернуться клубочком и слушать, слушать город… Город, в котором она возникла, который познакомил ее с солнцем и городскими птицами воробьями, музыкальными дождями, листвой парков, стриженой, послушной травой, с дворовыми кошками и бродячими собаками, с глазами матери и улыбкой отца, с богами и богинями, которые, позеленев от времени (не от злости!), разбрелись по крыше Зимнего дворца, с громоздкими, но такими ручными Атлантами, безропотно подпирающими своды небесные, а точнее – тяжкие своды эрмитажного крыльца, с крылатым ангелом на вершине столпа, склонившимся к земле в изящном полупоклоне…
С этим металлическим или каменным, достаточно прочным, неизменным, а стало быть, основательным народцем, там и тут возвышающимся на улицах прекрасного города, завелась в Дашином воображении как бы некая торжественная игра. Еще в школьные времена, наглядевшись досыта на сопливых, пропахших табаком горлопанов, а позднее соприкоснувшись и с более взрослыми разгильдяями мужского пола, Даша, не оскорбляя суетливых достоинств взъерошенных сверстников, в тайне от них, в «свободное от работы время», не долго думая выбирала себе скульптурного кавалера или рыцаря, приглашала его спуститься на грешную землю и так вот, поддерживаемая металлической или каменной рукой под локоток, передвигалась по городу, навещая свои любимые места, молча разговаривая с тем или иным спутником-идолом на темы вечные, лишенные признаков суеты, а также безнадежности.
И совершенно ей было тогда все равно, как на нее посмотрят со стороны, не усмехнутся ли ехидно, застав ее фланирующей с очередным красавцем, скажем с каким-нибудь бронзовым юношей, оставившим крылья на дворцовой крыше, на лице которого якобы произрастала шелковистая опрятная бородка с малахитовым медным отливом, а длинные иконописные кудри на голове, до блеска и хруста промытые благозвучными дождями, отшлифованные там, в вышине, шуршащими снегами и свистящими ветрами, ласково позванивали… Случалось, что спутника себе на сказочную вечернюю прогулку выбирала она из фигур весьма примечательных, таких, как закованный в доспехи Марс, смотрящий за Неву с пьедестала на Суворовской площади и призванный скульптором изображать величие и славу замечательного русского полководца, не отличавшегося в своем натуральном виде богатырским сложением. А как-то в одну из белых ночей попросилась она бесстрашно к самому Петру Великому – на лошадь. И царь-плотник, отличавшийся при своей жизни не только жестокостью и деловитостью, но и фантазией нрава, не отказал девушке: протянув ей руку, помог усесться впереди себя на коня, а затем прокатил Дашу по городу достаточно резво и неповторимо…
Приступов своей душевной восторженности Даша от посторонних глаз не скрывала: могла вдруг совершенно бесстрашно что-нибудь учудить, нашалить с удовольствием, но беззлобно, не причиняя кому-либо вреда. Звонила же она Александру Блоку! Не испугалась.
Дома огромный в красном коленкоре адресный справочник «Весь Петроград» за 1916 год на антресоли пылился. И вдруг Федя, младший брат, девятиклассник, книжной горячкой заболевает. В смысле собирательства. Шкаф за десятку в мебельной комиссионке приобрел, такой древесный одер, едва живой, в блокадные времена осколком от снаряда пробитый навылет. Принялся его книгами заполнять. Учебу запустил. Бутылки усиленно в приемные пункты сдавать взялся, макулатуру всевозможную, дающую право на приобретение ходовых книг, на помойках квартала выуживал. По книжным букинистическим магазинам обходы стал совершать. С «жучками» книжными стакнулся. Портфель громоздкий завел. Ходит по городу, как грузовик с кузовом. Что-то обменивает, с кем-то шепчется. От отца родного подзатыльник отрезвляющий не так давно схлопотал, не повлияло. У себя дома Федя ревизию всем закуткам учинил. И однажды до антресоли добрался и справочный тот фолиант осторожно, как вазу хрустальную, дымчатую (от пыли), с верхотуры снял и в ванную комнату отнес – влажной тряпкой обрабатывать. А на другой день Даша в справочник этот заглянула и сразу же адрес любимого поэта разыскала. И, не откладывая, позвонила Александру Блоку на Офицерскую, ныне улицу Декабристов. Впереди старинного пятизначного номера двойку набрала, в конце – ноль. Ответили печальным женским голосом: «Миленькая, сегодня он поздно вернется. У него лекция в Сосновом Бору. На атомной электростанции. Что передать Сашеньке?» – «Передайте, – сказала, – что я люблю его». Печальный голос сразу повеселел и забавно так в трубку булькнул: то ли смешок проглотили, то ли затяжку дыма сигаретного. А потом: «Вот это я понимаю…» И все. Даша трубку на аппарат положила.
Дворцовую площадь Даша пересекала как минимум дважды за день, потому что жила неподалеку от нее и на работу в Петропавловку ходила пешком.
Сегодня Даша возвращалась со службы раньше обычного, так как в соборе, где она проводила экскурсии, какой-то ненормальный, а попросту хулиган облил один из царских мраморных саркофагов ярко-красной жидкостью, скорей всего нитрокраской, из химического баллончика с распылителем. В общем, испакостил, осквернил. Его моментально отловили, потому что и сам он весь в краске той перемазался с ног до головы. При царе бы с него за такое шкуру с живого чулком сняли. И нынче, конечно, не похвалят. Даже запросто остричь могут и в колонию на годик запихнуть.
Во всяком случае, доступ в храм на сегодня пришлось раньше обычного прекратить, иначе приезжие старушки иностранные такого после наговорят – святых выноси.
В момент, когда хулиган баллончиком своим зашипел, Даша обслуживала немногочисленную группу англоязычных интуристов. (Одна старушка, такая чашечка фарфоровая, вся в трещинах-морщинах и с девическими зубами, вживленными в челюсть, поинтересовалась, каким размером обуви Петр Великий пользовался и какой западной фирмы того времени ботфорты предпочитал.)
Интуристы и фарфоровая старушка в том числе, когда негодяй по белому мрамору красной струей прошелся, сразу же на него осуждающе по-английски залопотали, а потом, когда нарушителя милиция повязала, стали, в свою очередь, на милицию осуждающе посматривать. Но уже молча.
Даша, выходя из крепости, в зоопарк решила заглянуть, на бессловесных тварей для поднятия настроения посмотреть. Перед этим, как всегда, в продуктовый магазин забежала, курицу мертвую купила, хлеба, сыру, и так вот, нагруженная, почему-то не домой устремилась, а к зверюшкам в гости. Подошла к большущей клетке, где тигр у самой решетки дремал или делал вид, что дремлет: глаза полузакрыты (или полуоткрыты?), морда на лапе, как на подушке, лежит. Протянула руку (кто-то сразу ахнул!), пощекотала у тигра в ноздре. Зверь глаза полностью открыл, однако не отпрянул. Позволил Даше поиграть неприкосновенным носом. Тут же ее примеру, когда она от клетки с тигром отошла, последовал один какой-то подвыпивший интеллигент в очках, разговаривающий на эстонском языке; потом уже про него рассказывали в толпе, будто он писатель, пишущий для детей, наивный такой человек в шортах, незагорелый и возомнивший, что теперь-де как бы все несколько изменилось в доступную сторону и что даже полосатых бенгальских тигров запросто можно руками трогать. Ну, тигр его и ударил. Челюстью. По указательному пальцу. Которым писатель на машинке стучал.
Затем Даша у себя на Дворцовой очутилась. Неминуемо. Как воды Невы – в Финском заливе. Жила Даша позади площади, сразу же за мостом через Мойку, возле Капеллы – в большом проходном дворе, которым люди с улицы Желябова на Дворцовую к Эрмитажу пробираются.
К вечеру заметно похолодало. Приплывшие с запада серобокие облака пометили веснушками дождинок недавно обновленный асфальт площади и ее заново вымощенные брусчаткой подступы к колонне. Прохожие, напуганные коготками дождя, поспешили убраться.
Навстречу Даше неожиданно, как колонна из-за колонны, вышел баскетбольного роста мужчина, одетый в форму гражданского авиатора. Они благополучно разминулись, а затем, обойдя монумент, повстречались вторично, уже по другую сторону столпа.
При ближайшем рассмотрении мужчина оказался молодым и на лицо приятным, но уж очень высоким! Даша, на него глядя, голову до отказа вверх задрала, так что повлажневший на мимолетном дожде узел ее тяжелых волос уперся ей чуть ли не в спину.
Помолчали немного. И Даша не выдержала:
– Если хотите… давайте познакомимся. Не караул же кричать? – пролепетала под нависшим над ней, как фонарный столб, незнакомцем. – Меня Дашей зовут.
– Не страшно? – спросил он, сведя брови. – Одной-то? Во чистом поле?
– А я не одна. Почему вы так решили? – улыбнулась отчетливей.
– Не одна? А с кем же? С мешочком полиэтиленовым? Имя-то какое позавчерашнее: Да-ша… Ну, так с кем вы? Колечко на пальце отсутствует…
И тут Даша, старательно изображая экскурсовода, дрогнувшим голосом принялась знакомить летчика с обступившими их строениями, как с живыми людьми.
– Вот, рада представить: синьор Растрелли, – указала на Зимний дворец. – А это… – оборотилась к колонне, – это господин, а точнее – мсье Монферран! А вот мастер с фамилией попроще. Всего лишь Захаров. А посмотрите, как изящно выглядит, – ткнулась ее рука в сторону Адмиралтейства. – А там, слышите?.. Оттуда, от Капеллы, приближается маэстро Вивальди. Хотите, я вас представлю ему? Правда, он несколько замкнут…
– Не озябли? – опрометчиво дотронулся летчик до ее светлой кофточки, совсем как тот, в зоопарке, которому тигр указательный палец испортил.
Даша поежилась. Тогда летчик вскинул свои брови, как бы изумляясь.
– Посмотрите на себя: вы же синяя!
– Это не от холода. Мне тепло.
– Понимаю… Это от глаз, они у вас заоблачного цвета. Верьте очевидцу: треть жизни – за облаками. В мае тепло коварное… Можно вокруг колонны побегать. Или потанцевать: такая шикарная танцплощадка! Вот только без музыки…
Даша засмеялась. Открыто, непринужденно. Будто ребенок, которому понравилась новая игра.
– Ой, да знали бы вы, сколько на эту площадь музыки пролилось за три-то столетия! Здесь все музыкой пропиталось… Недавно я флакончик на антресоли нашла. При помощи младшего братца. Прабабушкин. Из-под духов. Конец прошлого века. Париж. Фирма.
– Неужели с духами флакон? – поинтересовался ради приличия летчик.
– Понимаете… порожний флакончик…
– Не понимаю.
– Представляете, пахнет из него! Не заткнуто вовсе, а доносится аромат из другого столетия. Я это к чему? Ощущение такое, будто музыка с этой площади тоже полностью не испарилась. Только флакончик других размеров. Почему вы так посмотрели на меня? Все правильно. Мне уже двадцать шесть. Старая дева.
– Нынче девушкин возраст до сорока растянулся. Косметика, тряпки модные… Послушайте, давайте представимся наконец друг другу. Зовут меня Стасиком. Штурман. Летаю. Иногда очень далеко. Приглашаю вас… ну, хотя бы в мороженицу. Такая встреча… Сколько можно вокруг колонны ходить?
– Всю жизнь. Все двадцать шесть. Правда, первый год – в коляске. Иногда я смутно припоминаю самое начало, свой первый день на планете. Мама подобрала меня здесь, на ступенях возле монумента. Завернутую в красную бархатную скатерть. В такой обрывок зари. Непременно – утренней!
– Красиво. И все-таки – меня Стасиком зовут. Запомнили?
– А я думала Эдиком.
– Не понимаю. В загадочную играете?
– Не обижайтесь… Мы ведь так неожиданно с вами столкнулись. Как две эпохи. Или два стиля… Скажем, Ренессанс и Модерн. И я, конечно, волнуюсь, понимаете, Стасик? Нет, лучше – Стас. Мужественнее. Не обижайтесь, просто я уже знаю двух Эдиков.
– Всего лишь двух?
– Зато каких! Совершенно необыкновенных…
– Каких-нибудь гениев тихих, засекреченных? Или космонавтов будущих? Суперменов? Чем еще удивить можно, какими экземплярами?
– Подумаешь, супермены! Это что… У меня один Эдик, который на гитаре играет, геолог по образованию, пить бросил! Во… Разве не чудо? Полгода капли в рот не брал, представляете? Правда, на большее его не хватило…
– Ну а другой Эдик? Он что же, небось кушать прекратил? Один не пьет, другой пищи не приемлет. Теперь это модно – чего-нибудь не делать: не работать, не рожать, не любить, не ладить…
– А второй Эдик у меня самоубийца. Наполовину. Так что не отгадали.
– Жить не желает? Оригинал, тоже мне… Перегрелся? И почему только наполовину?
– Второй Эдик, который художник, из настоящего ружья стрелялся. У себя в мастерской, в башне. Правда, не до смерти. А всего лишь до полусмерти.
– Из-за вас, конечно?
– Вовсе нет! Господь с вами… Да как бы я жила после этого? Вы что, сомневаетесь в моей нравственности? А вы представьте… Может, я неплохая вовсе. Клянусь – совпадение то, что мы с вами столкнулись. Случай. Берите в его величество Случай? Просто я устала немного. Зима такая длинная, серая… И вдруг май! И потом я ужасно люблю это место. Вот эту брусчатку. Свернуться, прикорнуть на этих камешках… и растаять на дожде. Под этот панцирь просочиться. Чтобы остаться там навсегда, под этой площадью.
– Пугаете? А живете далеко?
– Рядом! Во-он в том дворе за мостом. У меня идея: хотите в гости? Ко мне, к нам?
– А как же ваши эти… ну, Эдики? Они ведь заворчат при виде меня. Интересно, которого из них вы предпочитаете? Трезвенника или того, что рисует неудачно?
– Мне их обоих жалко. Не смейтесь над ними: они страдают. А художнику я даже намекала, сулила как бы, обнадеживала. В смысле женитьбы. Лишь бы он не стрелялся повторно. Не грозил…
– Тоже мне! Нашли кому обещать! Самоубийце… Да еще липовому, не до конца дело доведшему.
– Вы знаете, он серьезно стрелялся. Хотя и дробью. Легкие были задеты. И теперь он кашляет. Не оставлять же в беде…
– Оставлять! Какой это человек? Какая это беда? Небось горячка белая, вот и стрелялся?
– Стрелялся из-за того, что не гений. Не Тициан. Один ядовитый искусствовед растолковал ему. А разве так можно? Ну не Тициан… Ну Потемкин. Тоже звучит. Все равно он настоящий художник: страдать может. И я его так не оставлю. Не успокоюсь, пока на талант свой, богом данный, покушаться не перестанет.
– Какая-то вы, извиняюсь, не тутошняя. Со своими сказочками.
Даша испуганно посмотрела на сомневающегося Стасика и вдруг откровенно залюбовалась мощью его тела.
Миновали площадь, направляясь к набережной Мойки. Летчик послушно плелся следом. В его руках белел Дашин мешочек, в котором оттаивала курица, черствел хлеб, мрачнел сыр, бродило в дремотном состоянии купленное в «Кулинарии» тесто для пирога с яблоками и постепенно приходила в себя, в мягкое рыбье состояние, безголовая мороженая рыбка путассу.
От Мойки до улицы Желябова дом а образовывали целую связку проходных дворов, соединенных арками. Даша проживала во втором по счету из тех дворов, до поздней ночи многолюдных, журчащих говором и шуршащих подошвами ног. Правда, люди во дворе не задерживались, все время наружу вытекали, исключая замечтавшихся влюбленных…
В своем дворе Даша подошла к серенькому автомобильчику, от которого веяло зноем недавнего пробега. Вставила ключ в замок, отворила дверцу.
– Моего старшего брата «Жигули»… У меня опять идея! Поехали за город. Нюхнем кислороду на заливе. Горючки полбака. Предлагаю по Приморке. Не все ли вам равно? Я же вижу: гуляете, на часы ни разу не взглянули… Ну так как? Считайте, что меня понесло! И еще интересно: поместитесь в машине или нет? Если поместитесь и голова из машины торчать не будет, познакомлю вас со своим табором. Вы, конечно, допускаете, что табор может быть и не цыганским? Скажем, японский табор или шведский, якутский? Согласны?
– Допустим.
– У нас – русский табор. Самый угрюмый. Нет, самый серьезный! Разговоры только о мировых проблемах, о смысле жизни, вечности. И, конечно, о судьбе России. Ниже этого уровня ни-ни! Даже за игрой в лото. Я их очень всех люблю. И смеяться над ними не позволю. А теперь согнитесь быстренько и полезайте в машину.
Сняв с головы фуражку, Стас подобрался, как перед прыжком, и довольно сноровисто проник в машину. Обосновавшись на переднем сиденье, нашарил возле пола рычажок, откатил сиденье назад – до отказа. Колени его все равно торчали высоко. Стас послушно и как-то по-собачьи грустно положил голову себе на ноги, стал ждать развития событий.
Даша взяла у него фуражку, метнула ее к заднему стеклу на полочку, свернула вдвое, постелив на сиденье, чтобы не измялся, летчицкий пиджак.
– Ждите меня, я мигом! Отнесу им продукты.
…Возвратясь, неумело принялась сдавать машину, пятилась рывками, наконец поставив машину лицом к воротам, рискованно разогналась, проскочила меж двух кирпичных столбов, на которых чугунные створки ворог подвешены, и, выехав на Дворцовую, повернула направо.
– У вас, что же, и водительские права имеются? – смиренно поинтересовался молодой человек.
– Понимаю вас. Привыкли в небе безо всяких препятствий. А здесь, в городе, столько всякого: выступы, углы, люди, собаки, кошки. Над головой провода… Документы у меня в порядке, не липовые. Только я время от времени засыпаю за рулем. Специально чтобы сына увидеть.
– Сколько вашему сыну? – машинально поинтересовался Стас.
– Нисколько. То есть – немного. Самая малость. Его Платошей зовут.
– Ну, а… папаша у Платоши, кто он? Имеются сведения?
– Отец у Платоши, конечно, воображаемый, не материальный. Из сна. Я его толком и разглядеть-то не успеваю – такой короткий сон. Короткий и всегда один и тот же. Иными словами, навязчивый. Правда, яркий и вместительный. Вся моя жизнь в нем, как желток в яйце, умещается. Да и не сон это никакой, а… музыка!
Даша резко вильнула на дороге, объезжая что-то мизерное, то ли яблоко, то ли зеленоватую лягушку: давить колесом нечто цельное, еще не разрушенное, она так и не научилась.
Ездила Даша рисково. Правда, реакцию имела отменную. И все же талон ее был дважды проколот компостером инспектора. От преждевременной смерти, помимо бронзовых архангелов и веры в удачу, хранило ее одно немаловажное обстоятельство: ездила она трезвой. Всегда.
За рулем свободно разговаривала, как пела. Оценив обстановку впрок, могла посмотреть в сторону, не теряя нити…
Миновав пост ГАИ, Даша въехала в предзакатную синеву, выжимая из «жигуленка» не менее сотни километров в час. В районе Репино после парковочного знака свернула с дороги к асфальтированному углублению стоянки – невдалеке от успокоительно вздыхающего накатом волн берега Финского залива. Опустила стекла сразу с двух сторон. Ворвавшийся в машину ветерок донес запахи большой воды, беспокойного морского пространства.
– Я про сон не досказала. Будете слушать?
Стас распахнул дверцу, выпустил наружу слегка затекшие ноги, уперся ими в асфальт, развернулся на сиденье лицом к Даше.
Постепенно воздух вокруг как бы загустевал. Высокие взрослые сосны, огораживающие шоссе от водного простора, способствовали набуханию в машине сумерек.
– Сон длится одно мгновение. Он – как вспышка! Но за время той вспышки я успеваю родиться и умереть. Условно. И не только это: успеваю как бы всю дальнейшую биографию свою разглядеть. Сына… Ожидаемого в мечтах. Потому что я уверена, я знаю: он уже есть! Есть где-то там, в пространстве и времени. Обитает уже. В конце видения, как бы под занавес, и мужа вижу. Или нечто его напоминающее… Символ. Сон этот проникает в меня с такой скоростью, что иногда пятидесяти метров дороги хватает на его просмотр. Во всяком случае, дорожный знак, возникающий по ходу движения, не успевает промелькнуть, а я уже сон посмотрела и знак этот глазами проводила…








