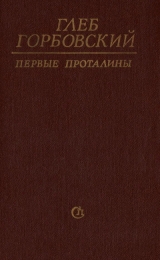
Текст книги "Первые проталины"
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
С Шишигиным Игнатием этой зимой произошло неприятное событие: его приняли за ненормального. В полупустом зимнем вагоне трамвая, не обращаясь, собственно, ни к кому в отдельности, начал он довольно громко развивать свою теорию «дуплизма», призывая граждан уходить в себя, отказываясь от всего суетного. Кто-то, естественно, возразил, не разделяя доктрины дуплиста, посоветовав философу закрыть «курятник». Шишигин с трамвая сошел обиженный. И тут же, как говорится, полез в бутылку. В ближайшей пивной принял «ерша» на троих. Руками стал размахивать, бородой своей неприятной о «третьего» тереться. В результате – скандал. Собутыльники разбежались, а философа в отделение пригласили, а там и в вытрезвитель. На учет к наркологу поставили. Обязав не менее двух раз в год на обследование отмечаться приходить. А кто виноват? Сам виноват. Тайком от сопровождавшего тогда Шишигина дружинника, пока его от пивной в милицию вели, сбросил он обувь с ног, оставшись в носках, и так шел по мокрому декабрьскому снегу. Сопровождающий вначале внимания не обратил на эту Шишигина выходку, а когда обратил, было уже поздно: обувь задержанного осталась где-то в вечерних извивах проходных дворов Петроградской стороны. Шишигин обувь с ног не случайно сковырнул, так как вместо прежней, разношенной и, можно сказать, дырявой и дурно пахнущей пары ботинок надеялся получить нечто серьезное, пусть казенное, однако прочное, основательное, такое, в чем регулировщики на морозе по нескольку часов подряд за милую душу простаивают. Однако мечты Шишигина не сбылись: ему выделили огромные резиновые сапоги-бахилы, да и то ненадолго, в которых и доставили в медвытрезвитель. А там – душ, клеймение ног чернилами, чистая постель и сладкий сон нагишом, как в далеком детстве.
Еще один одуванчик (или подснежник?) из списка пострадавших в зимнее время, то есть в период, отсутствующий в нашем повествовании, – Эдик-второй, или художник Потемкин, обладатель выдающегося носа и не менее выдающегося живописного дара, обремененный слабостью придавать далеким, давно отшумевшим историческим лицам выражения лиц современных. Собственно, пострадал он, если так можно выразиться, чисто символически, ибо пострадавшим себя не счел, оставшись при своем мнении, а также интересах.
Пострадавшим предстал он в глазах своих друзей, благожелателей и благоволителей, и прежде всего в глазах Даши, которая, желая утвердить искусство Потемкина в глазах общественности, сосватала его с очень влиятельным старичком Поцелуевым, способным производить определенные сдвиги в той или иной менее влиятельной, чем его собственная, художественной судьбе. У Потемкина под наблюдением академика был произведен тщательный отбор работ с «дальнобойным» прицелом: кому-то эти работы показать, кого-то в чем-то убедить, всколыхнуть в ком-то эмоции или хотя бы произвести задумчивость, а то и наметить оттенок некой заинтересованности. И все для того, чтобы приобщить Потемкина к профессиональному братству, объединившемуся в Союзе художников. Две небольшие выставки (одна в рабочем клубе, другая в Союзе журналистов) прошли у него с негромким, но основательным успехом, за портретистом признали «свою манеру», «свой глаз» и еще что-то свое, как будто все остальное взял он на прокат в соответствующем пункте.
И вот предстояло теперь Потемкину выставиться непосредственно в Союзе художников, в тесноватом, не главном, однако уютном зальце. Работы были отобраны так, что гарантировали если не сам успех, то, во всяком случае, факт выставки, отобраны «с учетом и во избежание» возможного раздражения «ведущих мастеров жанра». Несколько ранних портретов без обозначения, кто именно на данном полотне изображен, в том числе и портрет Даши. «Исторических» портретов, своими чертами напоминающих современных общественных деятелей, а также популярных актеров кино и телевидения, решено было ни в коем случае не выставлять, ибо прием подобный, по мнению академика Поцелуева, не что иное, как хулиганство, если не юродство.
Но, как говорится, кому на роду написано согнувшись ходить, того только могила выпрямить может, да и то неизвестно, сможет ли? Кто проверял? Накануне злополучного утра, когда Потемкину выставляться предстояло, художник почти всю ночь провел в казенном помещении, самостоятельно развешивая картины, тасуя их, меняя местами, ловя эффект освещения, подстраховывая лишним гвоздем крепления бечевок в рамах и подрамниках. Словом, нервничал, необычно суетился, разослал по стране ряд истошных телеграмм, не забыл попугать администратора применением крайних мер, вплоть до выстрела из берданки, естественно в себя, и даже запамятовал временно про свой неотвязно досаждающий, как бы живущий отдельно от лица нос, разбухший как на дрожжах и постоянно претерпевающий незначительные изменения.
Примерно в час ночи измаявшийся художник, насыщенный сомнениями, пришел к выводу, что подбор полотен к эксплуатации несколько односторонен и не отражает объема авторской сути. Позвонив на окраину города в обитель, то есть в башню, еще не полностью погруженную в предстоящую ночь, Потемкин извинился и попросил подошедшего к телефону муравья-монументалиста Фиолетова подняться в его, Потемкина, келью, дабы подозвать оттуда к аппарату Герасима Тминного, буде он там живой окажется. К счастью, а может, к полному отсутствию такового, Тминный ночевал в безногом кресле абсолютно живой, свернувшись эмбрионом и таким преспокойным образом дожидаясь своего друга. Потемкин Христом-богом упросил Геру взять определенную связку работ художника, обмотанную зеленым проводом, бежать с нею на стоянку такси, за расходы не беспокоиться.
А сизым, тусклым, как бы еще непроснувшимся декабрьским утром, когда первые посетители выставки, а именно – уборщица и старичок вахтер, дремавший в определенном закутке, неторопливо прошлись через зал, где выставился Потемкин, в воздухе, помимо аромата красок, олифы и еще чего-то сугубо казенного, запахло сенсацией. На свой страх и риск добавил Потемкин несколько «синтезированных» портретов, рассовав их по темным углам зальца, и оттого проступавших из основной толпы работ еще более неожиданно, если не вызывающе. Портрет протопопа Аввакума с лицом, похожим на комического киноактера, затем Петр Великий, изображенный в полный рост, в малинового отлива галифе. Пожалуй, только портрет Даши, написанный совсем недавно и весьма пронзительно действовавший на зрителя бездонностью изображенных глаз, этот бесспорный шедевр, никого, кроме модели, не напоминавший (если не считать прародительницы Евы), ничего предосудительного в эмоциях зрителя не вызывал. Но даже этот портрет исполнен был в такой странной выпукло-откровенной манере, что, глядя на него, начинаешь незамедлительно ощущать весьма определенное волнение в крови. Потемкин изобразил Дашу, словно вырезанную из кости или драгоценного камня, словно увеличенный во много раз барельефчик камеи перенес на полотно. И только. Всего лишь одна голова женщины, да шея, да самая верхушка бюста, но было это все таким теплым, плотским цветом подано, что первой мыслью при взгляде на портрет была мысль: а что дальше? За гранью портрета? И мгновенное ощущение: перед вами обнаженная. И все же, несмотря на отсутствие посторонних атрибутов, художник и здесь остался верен идее синтеза, обозвав Дашу легендарным, если не мифическим именем: под портретом значилось «Лилит». Там же, в углу зальца, только на другой стене, образующей этот угол, – портрет старинного авантюриста с лицом, как две капли похожим на лицо известного ныне поэта Пречистенского. На лбу бородавка. На щеке – другая. И все бы ничего: подумаешь, сходство! Ну, забавляется малый, резвится таким образом, себя ищет. Подвел Потемкина портрет одного стародавнего царского вельможи, синтезированного на полотне с обличьем влиятельного в художнических кругах академика живописи, с конца тридцатых годов ничего не писавшего, но в приемной комиссии игравшего определенную, весьма ощутительную роль.
В итоге кандидатура Потемкина с обсуждения была временно снята, а вторично подавать документы Потемкин расхотел. Забравшись после приемных треволнений в безногое кресло обители, Потемкин почувствовал себя вновь счастливым: слава богу, все позади, а главное, остался самим собой, хотя и с носом, зато с каким! Неповторимым!
Зарабатывать на жизнь ему стало чуть легче, так как добрые, сильные ребята, «муравьи» с нижних этажей башни, узнав о фиаско художника с приемом в Союз, стали регулярно подкидывать Потемкину заказик-другой.
Последний свой визит к Потемкину Даша нанесла, зимой.
Потемкин, заметно отощавший, вставленный в какие-то брезентовые негнущиеся штаны, держался возле окна, глядя на нечто на мольберте. Лицо Эдуарда, после недавно сбритой бороды, вновь поросло колючей растительностью, как скошенное поле травой-отавой. На щеках под скулами наметились морщинистые впадины, бугорчатый пористый нос набрякнул и набухнул до такой уродливой степени, что казался мертворожденным камнем, будто все мыслимые и немыслимые соли, кремни, глины организма сконцентрировались в нем.
Потемкин писал автопортрет. И получалось, что смотрел он опять, как в тот давнишний Дашин к нему приход, не куда-нибудь, а все в то же зеркало, не переставая исследовать свою персону и как бы со все возрастающим удивлением поражаясь увиденным. Зеркало, в которое смотрелся нынче Потемкин, отражало его незаурядную личность в несколько искаженном варианте. Потемкин воспроизвел себя в «идеальном» состоянии. Нет, он не омолодился на портрете и даже не облагородил некоторые черты, он нарисовал себя таким, каким хотел видеть в жизни, а именно – удовлетворенным. Не успокоенным раз и навсегда, но ублаготворенным. Процессом бытия. То есть не свершившимся, а свершаемым. Лицо его на полотне, израненное временем, искаженное непогодами и всевозможными подкожными реакциями, несло на себе печать победы! Достаточно было бегло взглянуть на изображаемый, лик, чтобы сразу и уяснить: ого, а ведь человек-то сей непременно чего-то достиг! Что-то этакое наверняка совершил. Его разум, отразившийся в едва сквозящей улыбке глаз, имеет право гордиться собой, а вся конструкция души, воссоздаваемая красками, пропитана токами, соками, а также веяниями добра, умащена милостью и удобрена снисхождениями. Короче говоря, Потемкин рисовал мечту. Спешил довершить на мольберте то, чего уже не чаял успеть внутри себя самого.
– Эдик, родненький! Как я рада, что ты работаешь. Но, по-моему, ты перестарался, – сказала ему Даша. – Это, прости меня, сказка…
– Ошибаешься, искусствоведка, – ответил Потемкин. – Это прощание с собой. Прежним. Я закрываю лавочку. Беру себе псевдоним Светозаров и начинаю новую жизнь. Разумеется, в живописи. Новую полосу. Буду творить. Как ты говоришь, сказку творить, потому что людей необходимо приучать к сказке, и тогда они, перестав дичиться ее, будут жить с ней в ладу и сами сделаются красивее, сказочнее. В этом заключена созидательная миссия, как сказал бы поэт… Кстати, о Тминном. Мне передали, что он вторично попытался совершить полет Икара, на этот раз с малоизвестной сельской колокольни на каком-то заросшем дремучей растительностью кладбище Новгородской области.
С закадычным дружком Потемкина Герасимом Тминным этой же зимой, только уже в новом году, в январе месяце случилось непонятное: горе к нему пришло… от счастья. Если Потемкина куда-то там не приняли, то он и успокоился сразу, во всяком случае, хуже ему не стало. С Тминным же все несколько иначе содеялось. Все знали, что Геру вот-вот напечатают, издадут его стихи отдельной книжечкой. Все настолько привыкли к этому утомительному ожиданию Гериной книги, что как бы и не ждали уже ее, словно эта самая книга за время ожидания ее гражданами устарела, обесценилась еще до своего рождения, и что говорить о ней, а тем более ожидать ее – дело бесполезное, как если бы граждане безо всякого на то основания принялись поджидать какой-нибудь свершившийся факт, скажем прошлогодний снег.
И вот тут-то вдруг у Герасима Тминного, у сего типичного представителя «неудачников (читай: одуванчиков) великолепных» в январе месяце, зимой, когда поощрители его таланта думали уже, скорей всего, о другом, как тарелочка летающая, инопланетная появляется в свет книга стихов «Брусничная вода». Появляется и… тут же исчезает, словно и не было ее никогда. И ее ожиданий бесконечных тоже. Произошла в итоге печаль там, где должно было произойти веселие, а также сенсация. Стихи прочли до половины, а кое-кто и на первой странице загрустил. Все, все без исключения, кто знал Тминного – прежним, «докнижиым», привыкли знать его в другом ореоле и по другим, более разнузданным и как бы нелепым стихам, а на страницах «Брусничной воды» зарифмованная пища подавалась как бы уже изжеванной. Этакие бульонные кубики о березках, полянках, рыбалках, грибной поре, о столбовых и проселочных дорогах и других атрибутах географии, этнографии, биологии, а также ботаники, приправленные вялыми позывами и призывами делать добро, идти только вперед, смело смотря в будущее и не отвлекаясь на несущественные пустяки, на всевозможные бытовизмы, прозаизмы и прочие «имажинизмы» и вдохновизмы, из чего, собственно, и прядется поэтическая ткань стиха подлинного, а не синтетического.
В Тминном мгновенно разочаровались. Гора, по мнению большинства, родила мышь. Забыли «Брусничную воду», забыли самого Тминного, словно и не было его вовсе. А где-то весной, по прошествии, то бишь истаивании неугодного нам времени года, исчез и сам автор «Брусничной воды», словно истек вместе с этой водой в неизвестном направлении, ибо даже деловитые, но щедрые на ласку «муравьи» из башни искусств потеряли его из виду, так и не успев нарисовать с него портрет Карлсона, который живет на крыше.
Этой же зимой умерла мать рыжего Володьки – Нюша Мокеева. «Сгорела», как говорили о ней впоследствии скамеечные бабушки, вышедшие с весной на солнышко, чтобы обсудить происшедшее за зиму. Володька Мокеев продолжал существовать как ни в чем не бывало, потому что жил и прежде, не беря мать в расчет, и теперь, после ее исчезновения, даже как бы вздохнул облегченно. Весной перешел он в десятый класс и серьезно подумывал о философском факультете университета. Ему помогали, и прежде всего Шишигин – советами определенного свойства и направленности. Оба рыжие, оба вздорные. Старушки даже поговаривали о потаенном отцовстве Шишигина применительно к Мокееву, но это была уже сказочка. Время от времени на имя Володьки продолжали поступать денежные переводы за подписью «Л» и – поросячий хвостик, закорючка. Помогали ему, как ни странно, и родители Ларика: одеждой, обувью, консервами.
И еще одно «зимнее» исчезновение. В таборе на традиционные игры в «философическое» лото перестал приходить непременный его участник Лахно.
И вообще, кто он – этот Лахно? Знали о нем крайне немного. Да и то с чисто внешней стороны. Понятно, что военная косточка, да, в свое время командовал каким-то количеством людей, среди которых рядовым, а затем старшиной роты состоял и Дашин отец Афанасий Кузьмич; да, угрюмый он, этот Лахно, неразговорчивый, как бы сдавший дела и отошедший в сторону покурить, но без иронической ухмылки отошедший, а так, по-военному, в приказном порядке, беспрекословно. Что еще? Бессемейный, одинокий. Молодая жена Лахно попала под трамвай еще на заре их брачного союза. Стало быть, в сердце Лахно имелась тщательно маскируемая, словно в бутылку запечатанная и в море брошенная тайна, трагедия, берущая свое начало в довоенных годах. А что еще? Какие истины исповедовал? Чему поклонялся? Никого эти вопросы в отношении Лахно не интересовали. Был он добрым, молчаливым человеком. Несколько неуклюжий на паркете. И всех этих сведений о нем хватало за глаза. Знали, правда, и кое-какие прозаические нюансы из его биографии: выйдя в отставку, собирался он якобы купить дачу и заняться разведением пчел, но вдруг, отыскав однополчанина, то есть фонарщика, крепко к нему привязался, молчаливо полюбил семью Афанасия Кузьмича, и душа генерала как бы целиком переселилась в этот мирок, насыщенный любовью и мыслями добрыми, а это уже кое-что, а не что-то… Конечно же, и в этом мирке имелись свои «диавольские» струи в жизнетечении – скажем, скрежет зубовный, исходивший от Дашиного братца Георгия, от его самоутверждения, – но все эти шумовые эффекты ни в коей мере не могли повлиять на душевную улыбку Лахно, которую он прятал под генеральской оболочкой и которой неимоверно стеснялся, словно юношеской татуировки на своем старческом теле. Было ему уже никак не меньше семидесяти лет, но крепок и строен, хотя и громоздок несколько, оставался до последних мгновений. Играть в лото перестал ходить в конце зимы, когда в судьбе Даши назрели глобальные перемены и пора ее неизбежного материнства приблизилась. А вскоре после исчезновения Лахно на Дашино имя поступили солидные денежки, помеченные все той же таинственной буквой «Л».
Глава девятая. Усекновение мечты
Мокрая сирень. Грозди ароматные, пышные, почти съедобные на вид, только что принесенные из-под дождя и поставленные в вазу Дашиной дачной комнатушки. Приходит вздорная мысль: «А не сварить ли сиреневое варенье? Наверняка будет вкусно, а главное – красиво».
Вечером Даша накроет на стол на веранде. С настоящим угольным самоваром чай у них будет на столе. С дымком и утробным самоварным пением-сопением. В розетках варенье необычного цвета. Аполлон скажет: «Какое странное варенье». А Даша ему ответит: «Весеннее. Сиреневое. Из роз – летнее. А это весеннее. Специально для не очень серьезных композиторов».
Где-то снаружи, в залихватских, мускулистых небесах погромыхивал гром, набегали скоростные, подгоняемые высотным воздушным потоком тучи, словно из пульверизатора посыпавшие дачный сад, крышу островерхого дома, умытые, набрякшие по концам ветвей молодыми побегами сосны, окружавшие дом, темно-зеленым гривастым караваном уходившие вдоль берега залива и прятавшие под своей ароматной сенью целые дачные поселки.
За стеной Дашиной комнаты, а точнее за матерчатой занавеской, заменявшей дверь в перегородке, послышалось старческое покряхтывание, нашпигованное искрами смеха, переходящего в деловое гугнивое бормотание. Это проснулся Платоша, Дашин сынок, мальчонка весьма забавный, которого Даша наблюдала еще в девических снах много лет подряд, к которому давно привыкла заочно и повадки которого предсказала заранее.
Даша поспешила в детскую. Платоша сидел за решеткой кровати-качалки и сам себя полегоньку, вместе с клеткой своей, раскачивал плавными движениями крохотного тельца. Правда, тельце его, если внимательно к нему приглядеться, было в сравнении с другими подобными тельцами не такое уж и крошечное; большинство существ в возрасте теперешнего Платоши (на третьем месяце жизни) в лежку лежат, запеленутые мамашами в кокон, а этот уже сидит, раскачивается и розовыми мизерными пальчиками время от времени кукиш людям, его наблюдающим, показывает. Недавно приезжал с поздравлениями Шишигин (Инга в дом почему-то не пошла, поджидала дуплиста на берегу залива, раздевшись до положения загорающей дачницы), так на Шишигина этот проказник Платоша самым натуральным образом взял да и плюнул! Прямо на рыжую бороду философа. Пришлось Игнашке деланно улыбнуться и бороду свою бумажной салфеткой обтереть.
Родных и знакомых Даша уверяла, что Платоша как бы даже разговаривает уже. Какие-то там одной ей понятные слова произносит. Но пока что эти слова якобы не из привычного нам словарного запаса, а как бы совсем из другого ряда, но что язык этот Платошин, хотя и не русского будто бы происхождения, однако земного, и он ей понятен, потому что она ему кто – мать, и оба они плоть от плоти, мысль от мысли. И, действительно, паренек голубоглазый, ангелочек розовощекий что-то там такое издавал, в смысле звуков нечленораздельных, хотя и весьма отчетливых. Последние две недели, обращаясь к матери, завидев ее перед собой, Платоша неизменно одно и то же кудрявое словечко изрекал: «Дарадуша!» И тут же пальчиком пухлым возле своего пушистого височка вращать начинал, как бы почесывая мягкий височек и одновременно голубым, как бы только что нарисованным, непросохшим еще глазом подмигивал.
Проголодавшись, Платоша, как и положено детям его возраста, начинал подавать голос, но отнюдь не плакал, а как бы ругался, бубнил, бормотал глухо журчащим, нутряным голоском и неизменно произносил другое (от «Дарадуша») слово: «Дурадаша!» Чем разительно напоминал говорящего попугая или скворца, вообще птицу.
Теперь о даче. Где-то сразу после войны Аполлона Рыбкина подобрали подброшенным на крыльцо одной из лучших дач Карельского перешейка, принадлежавшей некогда известному песенному композитору Анатолию Рыбкину. Правда, подбросили Аполлона композитору не в грудном, молочном состоянии, не в одеяльце, не в свертке с трогательными кружевами вокруг младенческой головки, как это принято в святочных рассказах преподносить, а чуть ли уже не в школьной форме, связанного по рукам и ногам, с кляпом во рту. Вместе а кляпом торчала свернутая в трубочку записка, документ, типа акта или накладной, написанный печатными буквами и вкратце излагавший биографию будущего автора песенки «Стара Адель моя, стара». Всего вероятнее, пятилетний Аполлон являлся плодом любви, не оформленной официально, не зарегистрированной в виде законного брака. Отсюда и все несообразности. За «лица необщее выраженье» необходимо расплачиваться. И прежде всего – сиротством. Буквальным или же символическим, скажем духовным сиротством, не менее тягостным, нежели сиротство элементарное, обставленное государственными благотворительными заведениями.
Солидный песенный композитор, кстати бездетный (знали, кому подбрасывать!), круглый год безвыездно отдыхающий у себя на даче, черноглазого подброска ногой с крыльца, как котенка приблудного, не отшвырнул, более того, с помощью домработницы нагрел в ванной комнате воды, как следует мальчика вымыл, продезинфицировал тройным одеколоном и положил, душистого, на чистое белье в своем кабинете на старый, покойный диван, нежно позванивавший дореволюционными пружинами. В ближайшем промтоварном магазине приобрела домработница необходимые носильные вещи для спящего сном праведника нежданчика, и стал бездетный композитор сперва негласно, а затем, спустя пару лет, и вполне законным образом воспитывать приемыша в духе времени, а также в музыкальном духе.
Может, и не расщедрился бы в такой изрядной мере композитор, тогда уже пожилой и довольно-таки скучный человек, не случись сразу после отмытия Аполлоши события, повлекшего за собой полнейшее изумление хозяина дачи. Сиротка (а в сопроводительном «реестре» помимо всего значилось, что «данное дитя есть круглый сирота армянского происхождения, имени-фамилии не имеет, обладает музыкальными способностями, знает несколько слов на русском языке, привезен сюда из глухой сибирской тайги»), когда он, отмытый и едва пришедший в себя после сна, шагнул в чем мать родила с поющего, органом грянувшего дивана, то не жрать первым делом попросил, а прямиком, сверкая босыми розовыми пятками, к ослепительно белым клавишам рояля последовал. С трудом, но как-то привычно забрался на вращающийся табурет и довольно бойко заиграл нехитрую пьеску Чайковского «Мой Лизочек так уж мал». Старый холостяк, подкарауливавший пробуждение подкидыша, вместе с домработницей стоял в дверях кабинета и широко открытыми глазами, ртом и ушами внимал, ловя происходящее, словно недостающий организму воздух. И все бы ничего (мало ли чудес на свете?), но когда после классического опуса приблудный музыкант старательно, хотя и несколько примитивно наиграл, как бы пунктиром обозначил, известную тогда песенку хозяина дачи «Полюбил ее, каналью», – сердце одинокого сочинителя дрогнуло. И судьба юного обладателя музыкальных способностей была решена. Усыновленный стариком, получил он, помимо фамилии Рыбкин, великолепное имя Аполлон, а в придачу все права наследника.
Рыбкин-старший умер лет десять тому назад под аккомпанемент собственного рояля, на котором Рыбкин-младший сочинял тогда «Судорогу познания», ту самую, ультрасовременную и архисерьезную, эмоционально-интеллектуальную вещь из допесенного периода Аполлонова творчества, которую он в Дашином таборе выдал за свое новейшее сочинение…
Явись Дашина душа миру в заурядном варианте, можно было бы и точку в рассказе о ней ставить: все у нее хорошо сделалось, все в удобоваримое состояние пришло. Муж, дите, дача, машина под окном, та самая, что, заброшенная, ржавела на стоянке Васильевского острова, а теперь, подлатанная, подкрашенная, всем своим видом так и подбивала на быстробегущую, бездумную жизнь. Многие так и живут, благодарные судьбе за свершившееся, прежде лишь в мечтах намечавшееся. Живут, прощая себе и своим близким ошибки, просчеты, усталость чувств и вялость духовную. Но Даша! Этот подснежник великолепный, необыкновенный, разве могла она смириться, пристроившись к обману, притулившись к праху надежд?
Случился обман. И не столько супружеский, сколько обман упований, веры, чаяний, обрыв нерва, связующего обоих, перелом столба позвоночного, на котором вся их конструкция любовная, трепетная держалась. Крах чтимого кумира ударил по Дашиному сердцу беспощадно. Тщетность приносимой жертвы оскорбила и попутно в панику ввергла. Но сама Даша с иссяканием ореола над ее кумиром не иссякла. Так что и последний сюжетный зигзаг в нашем рассказе, необходимый нам по ряду причин, на самом деле далеко не последний. И за пределами нашей повести Даше предстоит еще долго жить. Может, всегда.
Из событий, свершившихся в тусклое, пронизывающее ознобом зимнее время, самое грустное и самое, пожалуй, непоправимое событие произошло с самим Аполлоном Рыбкиным.
«Каждый умирает в одиночку» – сказано кем-то, но ведь сразу же и добавить необходимо, развить сей безрадостный постулат: умирает-то в одиночку, но и бессмертен каждый в отдельности, а не огулом. По делам к награда. Не всякая душа долговечна. Иную еще в молодости червяк себялюбия съест или моль озлобления побьет до полной непригодности.
В одни из дней той самой зимы, в разгар печали, осыпавшейся с беспросветных небес в виде мокрого мелкого снега, вновь, как и до встречи с Дашей, перестал улыбаться Аполлон. Лицо его свела судорога озабоченности. В бархате глаз вместо недавнего шелковистого блеска появилась собачья взъерошенность и как бы неприкаянность; в движениях вместо плавных победных жестов и повадок вибрирующая сумятица: прыжки, швырки, сование рук беспорядочное и даже нежданные пробежки с места в карьер. Как говорится, человека понесло. А причина самая тривиальная: денежки. Денежки, которые, исчезая, перекрывают нам как бы кислород, жизненно необходимый, – денежки, которые неизменно текли на Аполлонов лицевой счет, те самые авторские, гонорарные «мони-мони» неожиданно из тугой стабильной струйки переродились в вялую, тягомотную капель, а затем и вовсе как бы иссякли.
Беря в руки серенькую сберегательную книжечку, вынутую оператором из мозговитого аппарата, из бескомпромиссной счетно-электронной машины, которая бесстрастно и четко печатала такую прежде развеселую цифирь, Аполлон с замиранием сердца прочел: двадцать девять рублей тринадцать копеек. И это вместо прежних двух-трех тысяч месячных, вместо не столь уж далеких восьмисот и совсем недавних трехсот… Двадцать девять! Особенно жутко и как-то дьявольски бесстрастно подействовали на внезапно вспотевшего Аполлона именно эти вот проклятые тринадцать копеек… Откуда они-то, черт побери, взялись?!
Перестав улыбаться, Аполлон заозирался вокруг себя и нервной трусцой понесся в контору, занимавшуюся охраной авторских прав.
Несмотря на падение его акций, то есть денежного престижа, объективные бухгалтерийные девушки вежливо ответили ему на его робкое, подобострастное «здравствуйте». Он уже хотел, как всегда прежде, продолжить приветствие словом «девушки», однако предусмотрительно не продолжил. Не из чего было продолжать. Не из тринадцати же копеек?
И все же вежливость «девушек» ободрила. «Слава богу, – умилялся Рыбкин, – значит, помнят еще. Значит, на меня еще наверняка рассчитывают… А мистические тринадцать копеек – не в счет! С кем не бывает? Если этот денежный спад или перебой, как хочешь называй, если его, к примеру, с человеческими недугами сравнивать, то элементарная, скажем, пневмония или понос, во всяком случае не инфаркт миокарда». Мрачно пошутив сам с собой таким образом, Рыбкин двинулся по закоулкам конторы.
А по нешумному, задумчивому заведению довольно бодрым ветерком уже неслось полузабытое: «Барнаульский, Барнаульский…»
Оказывается, прежде, когда на лице Аполлона отсутствовала улыбка, ее при желании можно было вернуть, натолкнувшись на матерински-милостивые глаза Даши. Прежде Аполлон спокойно мог экспериментировать с улыбкой, то безжалостно прогоняя ее, то снисходительно возвращая на место, ибо твердо знал: с денежкой у него все тип-топ, то есть порядок. За несколько лет безбедной жизни привык Барнаульский ощущать монотонное истекание золотой струйки, да так привык, что в конце концов, лишившись элементарной бдительности, потерял над этой живительной струйкой контроль. И вот расплата: улыбка ушла, как вода в песок. Не потребовалось даже посторонних стимуляторов, таких, как игра в непризнанного гения, в осиротевший талант, в музыкальный айсберг, плывущий по воле волн среди моря непосвященных, скрывая две трети гениальности под водой равнодушия толпы… Улыбка ушла твердо, ощутимо, неумолимо, растаяв в наступившей тишине кошелька, словно монументальные шаги Командора в тишине фамильного замка.
Нельзя сказать, чтобы Рыбкин с истончением денежной струйки переменился моментально по отношению к Даше в худшую сторону. Наоборот, в разговорах с ней делался он час от часу ласковей, слова произносил трепетней, рукой по голове гладил ее осторожнее прежнего, потому что, теряя деньги, а с ними и улыбку свою призрачную, еще пуще боялся потерять улыбку Дашину, воистину для него спасительную, за которую держался инстинктивно, особливо теперь, по испарении «тельца хрустящего».
Да, собственно, и разлюбить-то он Дашу как следует за такой короткий срок просто еще не успел. Для этого подлого процесса определенный период времени требуется, даже когда любишь односторонне, то бишь не любишь как бы вовсе, а только тянешься, стремишься безрассудно, словно обуянная инстинктом рыбина, мчащаяся ввысь по горной реке к бессознательному блаженству. А тот факт, что блаженство может быть осознанным, одухотворенным, вдвойне действенным, отрицать во вдумчивой читательской среде не принято.








