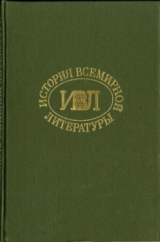
Текст книги "История всемирной литературы Т.1"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 70 (всего у книги 78 страниц)
Ты мила, это так, и ты богата;
Дева ты, – и об этом мы не спорим;
Но коль слишком себя, Фабулла, хвалишь, —
Не мила, не богата и не дева.
(1, 64. Перевод Ф. А. Петровского)
Этот мир внутренних противоречий Марциал принимает целиком, как должное: он не прославляет одну только благополучную видимость (как, например, Стаций, кроме мифологических поэм писавший и льстивые стихотворения на случаи, часто совпадавшие по теме с марциаловскими) и не бичует одну только неприглядную сущность (как в предшествующем поколении Персий, а в последующем – Ювенал); то и другое существует для него только в непрерывном взаимодействии. Как Овидий и как Петроний, он не утверждает и не отрицает: он иронизирует. В своей эпохе он стоит на перепутье между официальной и оппозиционной литературой. Официальная литература эпохи – это Плиний и Стаций, оппозиционная – это Ювенал и Тацит.
Децим Юний Ювенал (ок. 60—140), родом из Италии, до середины жизни был профессиональным ритором-декламатором; когда в 96 г. погиб император Домициан и общество было одушевлено ненавистью к недавнему прошлому и чаяньем светлого будущего, Ювенал начинает писать жестокие стихотворные сатиры, обозначая их персонажей именами злодеев минувшего царствования; по преданию, эта маскировка успеха не имела, и умер Ювенал в почетной ссылке.
От него осталось шестнадцать гексаметрических сатир (последняя недописанная), собранных в пяти книгах. Сатиры первых трех книг имеют резко обличительный характер (против мужчин, против женщин, против угнетения клиентов, против положения поэтов и риторов, против домициановского двора), сатиры последних двух книг представляют собой по большей части отвлеченные рассуждения на моральные темы, адресованные кому-нибудь из друзей (об истинном счастье, о твердости мудреца, о воспитании и пр.). Отношение этих двух групп сатир напоминает отношение между «Сатирами» и «Посланиями» Горация.
Как Марциал канонизировал на века обличительное содержание для жанра эпиграммы, так Ювенал канонизировал его для жанра сатиры. Первоначально сатира была «смесью» рассуждений и зарисовок разного содержания, объединенных личностью автора и тоном рассказа; уже у Горация из сатиры уходит (в оды) лирический элемент и остается лишь добродушное морализаторство; у Персия и Ювенала оно перестает быть добродушным и перерождается в тяжелый и грозный обвинительный пафос. Разница между Персием и Ювеналом в том, что кабинетный философ Персий в своих сатирах ограничивается общими рассуждениями, а уличный ритор Ювенал густо пересыпает их образами римской жизни, запечатленными с жестокой наглядностью. Автобиографические ноты, столь сильные у Горация, исчезают из его сатир – остается только безличное негодование. «Коль дарования нет – рождает стихи возмущенье», – гласит его программное изречение (I, 77).
Круг тем и лиц у Ювенала тот же, что и у Марциала: римское общество, от подонков до аристократов, изображенное с точки зрения небогатого клиента-литератора. Но в отличие от Марциала Ювенал все время видит в изображаемых явлениях их социально-политический аспект. Его герои – не просто развратники, бездельники и лицемеры, как у Марциала: это и доносчики, и взяточники, и разорители провинций. Говоря об отношениях патронов и клиентов, он с небывалой в римской литературе резкостью показывает контраст бедности и богатства: обед, на котором хозяин ест изысканные яства, а клиентов потчует отбросами, у Марциала был предметом нескольких изящных колкостей, у Ювенала же перерастает в грандиозную сатирическую картину (сатира 5). Говоря о власти, он рисует торжественное заседание государственного совета при Домициане, посвященное важному вопросу: как готовить огромную рыбу для императорского пира, целиком или разрезав? (сатира 4). Говоря о народе, он показывает жадную и ветреную толпу, с одинаковой страстью раболепствующую перед вельможей в силе и измывающуюся над вельможей в опале (сатира 10). Ни в сенате, ни в народе он не видит надежды на возрождение; республиканское прошлое для его героев – лишь «время, когда нам еще платили за наши голоса» (10, 77—78). Эта безнадежность придает особенную силу его горькому озлоблению. Ювенал – современник Плиния Младшего и пишет о том же обществе, что и тот; но розовому оптимизму сенатора Плиния, славящего воцарение доброго Траяна после злого Домициана, Ювенал противопоставляет черный пессимизм маленького человека, который по опыту знает, что и при добром и при злом правителе бедняку живется одинаково плохо.
И круг приемов у Ювенала тот же, что и у Марциала: гиперболизм и сентенциозность, воспитанная «новым стилем» риторики. Однако то, что придавало цельность маленькой эпиграмме, разрушает цельность большой сатиры. По существу, сатиры Ювенала – это вереница эпиграмм, каждую из которых он стремится заключить неожиданной колкостью, чем неожиданнее, тем эффектнее: например, желая сделать выпад против неведомого поэта Клувиена, Ювенал к уже приведенному торжественному стиху: «Коль дарования нет – рождает стихи возмущенье» – присовокупляет неожиданное саркастическое добавление: «Будь он хорош или плох, как мой, так и стих Клувиена». Непрерывный ряд таких неожиданных поворотов мысли, переходов, отступлений приводит к видимой бессвязности сатирического повествования: поэт вводит фигуру собеседника, а потом забывает о нем, начинает описывать день римской женщины, но, описав ее утро, отвлекается на другие темы.
Единство мысли подменяется единством чувства, всегда приподнятым и напряженным пафосом. По существу, это декламация в стихах, только черпающая материал не из условного мира школьной риторики, а из римской современности, прикрытой именами недавнего прошлого. Техника декламационного «нового стиля» чувствуется у Ювенала всюду. Он такой же мастер сжатой и броской сентенции, как и Сенека: такие ставшие пословицами сентенции, как «хлеба и зрелищ!», «в здоровом теле здоровый дух», «так хочу, так велю: будь вместо довода воля!» – принадлежат именно ему. Однако он не ищет легкости и гладкости, а предпочитает громоздкие, нарочито сбивчивые фразы, как бы показывая, что чудовищность содержания не позволяет ему отглаживать форму.
Так оппозиция против официальной идеологии влечет за собой оппозицию против официального стиля: возрождению классицизма у Квинтилиана и Стация Ювенал противополагает развитие «нового стиля» Сенеки, Персия и Лукана.
Если творчество Ювенала – это оппозиция маленького человека, который смотрит на политические события со стороны, то творчество Тацита – это оппозиция сенатора, человека, который сам принадлежит к тем, кто «делает политику»; поэтому пессимизм Тацита столь же глубок, но более серьезен и менее риторичен. Публий Корнелий Тацит (ок. 54—123) принадлежал к поколению Плиния и Ювенала, был видным судебным оратором, достиг высшей государственной должности – консульства, а затем обратился к занятиям историей. Около 100 г. появились его первые небольшие сочинения – «Агрикола» (жизнеописание тестя Тацита, полководца времен Домициана), «Германия» (географический и этнографический очерк) и «Разговор об ораторах» (на популярную тему о причинах упадка красноречия). За этим последовали два монументальных исторических сочинения: «История» (в 12 книгах, о времени Флавиев, 69—96 гг.; сохранились книги 1—5) и «Анналы» (в 18 книгах, о времени Юлиев-Клавдиев, 14—68 гг.; сохранились книги 1—4, 6 и 11—16).
Ключом к творчеству Тацита – к его темам и его стилю – является «Разговор об ораторах». И по предмету, и по диалогической композиции он напоминает трактат Цицерона «Об ораторе». Проблема та же: как может мыслящий человек лучше всего служить государству? Для Цицерона ответ был ясен: красноречием. Тацит этого ответа уже не принимает; в эпоху республики, действительно, красноречие было лучшим орудием поддержания порядка в государстве, но в эпоху империи порядок поддерживается иными средствами, красноречие теряет смысл, и полезнее быть поэтом (как герой «Разговора», драматург Матерн) или историком (как сам Тацит). Вторая проблема: каков должен быть стиль современного красноречия? Для официального квинтилиановского направления ответ был ясен: старинный, цицероновский. Тацит с этим не согласен: как естественно изменилась роль красноречия в государстве, так естественно изменился и стиль его; «новый стиль» имеет много недостатков, он манерен и не соответствует высоким темам, но он жизнеспособен, а стиль Цицерона уже искусствен. Поэтому Тацит избирает для себя исторический жанр и строит свой стиль на основе «нового стиля».
Тацит был не первым историком времени, описанного в «Истории» и «Анналах»: о нем уже писали историки-современники, чьи труды, до нас не дошедшие, были основными источниками Тацита. Задачей Тацита было не рассказать, а осмыслить прошлые события на основе нового исторического опыта. Важнейшим в этом новом опыте был пережитый деспотизм Домициана, показавший, что официальный «золотой век» – по-прежнему лишь маска, из-под которой в любой момент может показаться истинное лицо деспотической монархии. В отличие от Плиния и других современников Тацит не пытается слагать вину за все жестокости Домициана только на самого императора: он чувствует ее на себе и на всем своем сословии. «Это наши руки тащили Гельвидия в темницу, нашим предстали глазам Маврик и Рустик, на нас запеклась невинная кровь Сенециона», – писал он в «Агриколе» (45, 1), перечисляя благороднейшие жертвы Домициана. История столетия представлялась ему трагедией, и он хотел изобразить ее как трагедию; отсюда два его важнейших художественных качества, через голову Тита Ливия воскрешающие историографическую манеру Саллюстия – драматизм и психологизм.
Тацит описывает события в летописной форме, год за годом, продолжая традицию республиканских анналистов. По если для республиканских анналистов связь и смысл описываемых событий были раскрыты в материале сенатских обсуждений, то при империи дела все более решались в императорском кабинете, а сенатские обсуждения оставались лишь декорацией; соответственно перед историком были два плана развертывания событий: видимый, официальный – и действительный, о котором он мог лишь догадываться. Задача Тацита была в том, чтобы изложить видимую связь событий и дать почувствовать за ней подлинную. Для этого у него было два средства: группировка фактов и мотивировка фактов. Группировка фактов – это членение эпизодов, выход действующих лиц, расположение общих картин и частных явлений, нагнетание и разрешение напряженности; именно этим Тацит достигает драматизма изложения, не имеющего равных во всей античной историографии. Мотивировка фактов – это изображение чувств и настроений действующих лиц, как отдельных персонажей, так и масс, передача душевных движений, иррациональных, но могущественных, лишь в сложной опосредованности выступающих на поверхности явлений; именно в этом раскрывается психологизм Тацита. Сплошь и рядом Тацит не располагает фактами, чтобы подтвердить свое осмысление событий, но средствами настроения, стиля, незаметных намеков он безошибочно вызывает у читателя нужное ему впечатление. Это – искусство ритора, привыкшего ценить эмоциональную убедительность больше, чем логическую доказательность, но это и мастерство замечательного художника-психолога. В результате в сознании читателя все время остается ощущение двух контрастных планов действия, видимого и подлинного, атмосфера двуличия проникает все повествование и находит высшее выражение в мрачном образе, которым открывается эпоха, описанная Тацитом, – в загадочно сложной и противоречивой фигуре Тиберия, первого преемника Августа.
Стиль Тацита индивидуален и неповторим. Как и Ювенал, он берет за основу «новый стиль» оппозиционной риторики, но его направление разработки этого стиля противоположное. Он отказывается от всякого мгновенного эффекта, безжалостно разрушает дешевую складность симметричных параллелизмов и антитез, отвергает всякий предугадываемый оборот, ищет напряженности и сжатости; образцом его и здесь оказывается Саллюстий. Его фразы – такое же единство противоречий, как и изображаемая им действительность: «Частным человеком казался он выше частного, и мог бы править, не будь правителем», – в этой фразе каждое понятие противоречит соседнему, и все же именно они лучше всего характеризуют в одной строке образ императора-неудачника Гальбы.
Мощные фигуры Тацита и Ювенала замыкают развитие идейных и стилистических исканий I в. н. э. Ювенал – декламатор, Тацит – оратор; Ювенал безудержен, Тацит монументально спокоен; Ювеналом движет негодование, Тацит стремится осмыслить мир «без гнева и пристрастия»; и все же между ними есть сходство. Оба они пишут о прошлом, думая о настоящем, оба сознают безотрадность будущего и тщетность каких бы то ни было положительных идеалов. Их творчество подводит итог горькому опыту первого столетия империи.
*ГЛАВА 8.*
ГРЕЧЕСКАЯ И РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА II—III ВВ. Н. Э.(М.Л.Гаспаров)
ЭПОХА И КУЛЬТУРА
II век н. э. по традиции считается периодом последнего расцвета Римской империи. В действительности это была пора ее недолгой стабилизации и быстро начинающегося упадка.
Внешнее благоденствие империи в середине II в. было бесспорным. Царил «римский мир»: завоевательные войны приостановились, а оборонительные еще не начались. В гражданской жизни тоже царил мир: мятежи и перевороты, сопровождавшие смену императоров в I в., прекратились. Был найден новый порядок поддержания императорской власти: каждый император, принимая правление, с одобрения сената выбирал себе молодого соправителя, который потом становился его преемником. Новым был и сенат: теперь он пополнялся преимущественно выходцами из провинций, сперва главным образом из западных, латинских, потом из восточных, греческих; представители италийской знати занимали там все меньшее место, и их оппозиция, столь сильная в I в. н. э., теперь сходит на нет. Социальной опорой императора и сената прочно становится слой зажиточной провинциальной аристократии, всеми интересами связанный с Римом. Таким образом, внутреннее единство средиземноморской империи окончательно достигнуто: первенствующая роль в хозяйственной и общественной жизни принадлежит провинциям, Италия отходит на второй план. Император Каракалла, правивший в начале III в., завершает фактическое объединение империи, официально распространив право римского гражданства на всех провинциалов.
Это перемещение центра общественной жизни из Италии в провинции имело важные последствия и для культурной жизни. Италия и Рим стремительно теряют свое ведущее положение в средиземноморской культуре: во II—III вв. они не дают ни одного сколько-нибудь значительного писателя или мыслителя. На первый план и здесь выходят провинции, в первую очередь грекоязычные Малая Азия и Сирия, охватываемые бурным культурным подъемом – так называемым «эллинским возрождением», и Африка. Основой «эллинского возрождения» было экономическое благосостояние и богатые культурные традиции восточных провинций: до II в. оно сковывалось сопротивлением римских ценителей, заметным и у Сенеки, и у Тацита, и у Ювенала; теперь оно быстро расцветает и становится центральным явлением культурной жизни всей империи. Эллинофильство делается модой: африканцы Фронтон и Апулей декламируют на обоих языках, галл Фаворин и италик Элиан гордятся чистотой греческого слога, даже император Марк Аврелий пишет свои философские размышления по-гречески. Синтез греческой и римской культур, не встречая преграды уже ни в политическом сопротивлении Рима, ни в культурном высокомерии Греции, находит теперь свое окончательное выражение.
Однако сквозь внешнее благоденствие империи уже во II в. н. э. отчетливо начинают проступать признаки внутреннего упадка. Производительность рабского труда, достигнув своего невысокого предела, замирает. Мелкое и среднее землевладение, преимущественно державшееся на рабском труде, начинает отступать перед крупным землевладением, использующим труд посаженных на землю рабов и свободных арендаторов (колонов), хозяйство натурализуется, города беднеют, экономическая связь между отдельными областями империи слабеет, потребность в единой императорской власти тоже слабеет. Императоры все больше переносят свою опору на армию, пока наконец в III в. под одновременным давлением волнений угнетенного населения, партикуляризма провинциальной знати и натиска варваров из-за рубежа не становится очевидной необходимостью реорганизации империи на новой экономической, социальной и духовной основе.
Этот внутренний кризис рабовладельческой империи находит отклик и в духовном самосознании общества. Всеобщим становится чувство старости, исчерпанности, завершенности цивилизации. Представление о четырех возрастах цивилизации, из которых Рим уже находится в последнем, ложится в основу периодизации римской истории даже у благонамеренного Флора. Усиливается потребность оглянуться на прошлое, подвести итоги пройденному пути. В начале принципата такая потребность вылилась, как мы видели, в латинской «Истории» Тита Ливия, теперь она выливается в греческой «Истории» Диона Кассия; оба эти труда стали основой всех позднейших знаний об античной истории. Отсутствие перспективы в будущем заставляло идеализировать прошлое: Павсаний пишет проникнутый благочестием путеводитель по религиозным древностям Греции, Плутарх в «Жизнеописаниях» создает идеальную картину, ставшую канонической, исторической древности Греции и Рима, бесчисленные авторы словарей и грамматик облегчают современникам доступ к культурной древности Греции и Рима. Идеализация прошлого сама собой переходит в реставрацию прошлого: философы пытаются возродить в первоначальном виде учения сократических школ, риторы стараются воспроизвести в своих сочинениях язык и стиль аттической классики. Культура образованного общества II—III вв. н. э. – это культура духовных рантье: она сосредоточена на комбинациях и переработке наследия прошлых веков.
Этим духом архаизма и реставраторства проникнуты все сознательные тенденции культуры II—III вв. Если же говорить о бессознательных тенденциях, то они продолжают направление, наметившееся уже в прошлом веке. Обострение социальных противоречий разрушает сознание единства личности и общества, усиливает разочарование в привычных жизненных ценностях, заставляет искать утешение не в рассудочной философии, а в иррациональной религии. Мистические восточные религии, до того распространявшиеся преимущественно в низах общества, охватывают теперь и образованные круги. Даже авантюрный сюжет Апулея осмысляется как символическая апология религии Исиды. Соответственно усиливается религиозный, иррациональный элемент и в философских учениях, подготавливая идущую на смену философии разума философию откровения – неоплатонизм. В этом переплетении народных суеверий, мистической философии и восточных религий постепенно набирает силу христианство. Из незаметной секты оно становится развитой религиозной системой, опирающейся на хорошо организованную церковь.
Сочетание сознательной реставрации культурных форм прошлого расцвета и бессознательного тяготения к культурным формам наступающего упадка определяет своеобразие этой ступени развития античной литературы.
Реставраторские тенденции в философии начинаются, собственно, еще в I в. н. э. или даже раньше. Именно их имел в виду Сенека, когда негодовал, что «философия стала филологией», т. е. самостоятельная мысль сменилась толкованием и комментированием древних основоположников философских школ. Первыми на этот путь стали перипатетики: в I в. до н. э. были открыты и изданы эзотерические сочинения Аристотеля (те, которые дошли и до нас), и с этих пор все усилия школы сосредоточились на их интерпретации. В I в. н. э. за ними последовали платоники: придворный астролог Фрасилл выпустил новое издание сочинений Платона, впервые расположенных по тетралогиям, как и теперь, и с этих пор все усилия школы сосредоточились на том, чтобы очистить «подлинного» Платона от наслоений скептицизма и эклектизма академической традиции. Немного ранее, на рубеже нашей эры, александриец Энесидем провозгласил возрождение древнего скептицизма, вернувшись от позднейшей, карнеадовской, к ранней, пирроновской, его форме; в конце II в. н. э. жил и писал самый талантливый из его последователей, Секст Эмпирик, сочинения которого сохранились. Стоицизм не испытал столь декларативного обращения к прошлому, но и тут, в философии Эпиктета и Марка Аврелия, очевиден поворот от позднейших эклектических форм к более ранним, вплоть до истока стоической философии – кинизма: Эпиктет требует от истинного стоика безбрачия, аскетизма и отказа от всех жизненных благ, подобно киникам. Чистый кинизм тоже бурно возрождается в эту пору: Лукиан издевается над множеством высыпавших на свет нищих философов или лжефилософов. Конечно, кинизм, смешанный со стоицизмом, не переставал существовать и в предыдущие два века, но тогда он обслуживал лишь низы общества, а сейчас им интересуются и к нему обращаются такие высокообразованние лица, как Дион Хрисостом. Наконец, и эпикуреизм переживает в это время последний расцвет своей популярности, памятником которого осталась огромная надпись в городе Эноанде – целая стена, на которой некий Диоген в поучение современникам и потомкам приказал высечь изложение всего эпикуровского учения.
Однако реставраторские стремления не могли изменить общего направления развития античной философии в эпоху упадка античного общества к пессимизму, эсхатологии и мистике. Среди учений того периода это направление особенно заметно в стоицизме и платонизме.
Стоицизм II в. имел двух крупнейших представителей: вольноотпущенника Эпиктета (ок. 50 – ок. 130) и императора Марка Аврелия (121—180, правил с 161 г.). Эпиктет был профессиональным проповедником, сам ничего не писал, его поучения были записаны и изданы его учеником, историком Аррианом; Марк Аврелий, наоборот, ничего не проповедовал ни устно, ни письменно – его сочинение носит название «К самому себе», представляет собой род самовоспитательного дневника (оно было опубликовано лишь посмертно). Они дополняют друг друга как стоицизм преподаваемый и стоицизм усвояемый. Общая особенность их философии – сосредоточенность на этике и крайний пессимизм. Интерес к космологии, унаследованный Стоей от Посидония и еще Сенеке диктовавший его «Естественнонаучные вопросы», здесь уже совершенно иссяк; героический идеал духовного сопротивления бурям судьбы, вдохновлявший политическую оппозицию времен Сенеки, сменился пассивным идеалом немой покорности судьбе. Гуманистическое чувство братства людей и служения людям остается прежним, но приобретает трагический оттенок: миссия мудреца – нести людям разум, но он должен знать, что за это он будет людьми же осмеян и избит, «как осел», по энергическому выражению Эпиктета. Наконец, религиозный элемент стоицизма, еще сравнительно слабый у Сенеки, становится теперь ведущим: мудрец Эпиктета черпает утешение в том, что он избранник и апостол Зевса на земле, мудрец Марка Аврелия идет еще дальше и чает за свое служение награды в бессмертии души: он допускает мысль о том, что в космосе, кроме всепроникающей материальной огненной души, есть еще нематериальный дух, из которого истекает и к которому возвращается высшая, бессмертная часть души. Это – уже отступление от стоицизма во имя платонизма: противоположение пуха и тела становится все более притягательным для человеческого сознания.
Из этого понятно, в каком направлении совершалось во II в. и развитие платонизма как такового. Его возврат от «академического» к «подлинно платоновскому» учению означал прежде всего вытеснение стоических и аристотелевских элементов эклектического академизма элементами пифагорейскими. Платонизм и неопифагорейство срастаются с этих пор неразрывно. Божество и материя противопоставляются друг другу как единица и множественность, они настолько противоположны друг другу, что не могут даже соприкасаться: поэтому пропасть между богом и миром заполняется иерархией «демонов». Рассуждениями о роли демонов в мироздании с удовольствием занимается не только мистически настроенный Апулей, но и такой скромный традиционалист и поборник «здравого смысла», как Плутарх, который охотно признает три степени божественного управления миром: единому богу принадлежит верховная воля, особые боги, подобные олимпийцам, осуществляют ее каждый в особой области бытия, и, наконец, демоны следят за выполнением этой воли во всех повседневных мелочах. Познание истины и чистота жизни очищают душу философа от всего материального и возвышают ее до непосредственного общения с божеством: тогда он становится уже не мудрецом, а пророком, ему открыто будущее, и он способен творить чудеса. Такой идеальный образ божественно осененного философа рисуется в пространном сочинении Филострата (III в.) «Жизнеописание Аполлония Тианского»; сочинение носит настолько программный характер, что не раз высказывалось предположение, будто это сознательная попытка слабеющего язычества противопоставить образу христианского богочеловека образ языческого человекобога.
Так сочетались в философии II—III вв. реставраторский архаизм формы и неудержимая эволюция духовного содержания.
Реставраторские тенденции в риторике II—III вв. были еще более подготовлены предшествующим развитием, чем в философии. Почвой для них был аттицизм – стремление вернуться к языку классиков, минуя язык эллинистических писателей. Мы видели зарождение этого направления в I в. до н. э. и победу его в I в. н. э. Но тогда крайности его были смягчены, и понятие «подражание классикам» понималось достаточно широко. Теперь, когда уход в древность стал знамением времени, это понятие сузилось до его буквального значения. Идеалом красноречия было объявлено точное воспроизведение аттического диалекта древних классиков, т. е. языка 600-летней давности. Все слова, вошедшие в язык позднее, изгонялись из употребления в речах. Противоестественность такого языкового консерватизма очевидна; и все же аттицизм восторжествовал в литературе, по крайней мере в «высокой» литературе. Были мастера, которые даже импровизировали по-аттически. Отдельные виртуозы достигали такого совершенства, что их сочинения долго принимались за подлинные произведения V в. до н. э.; но большинство писателей довольствовались более отдаленным подражанием, оставлявшим больше места собственному вкусу. Играл роль также и выбор образца: одни предпочитали воспроизводить манеру Исократа, другие – манеру Демосфена; были такие, которые по желанию подражали то одному, то другому; были такие, которые при этом даже выходили за пределы аттического круга образцов и подражали, например, ионийской прозе Геродота (Арриан в «Индии», Лукиан в «Сирийской богине»). Это прощалось, потому что главное требование времени, реставрация старины, оставалось удовлетворенным.
Разумеется, искусственное возрождение диалекта 600-летней давности могло быть достигнуто только долгой кабинетной работой. Культура II в. н. э. – исключительно книжная культура. Старинные сочинения перерываются в поисках вышедших из употребления слов, и найденные слова к месту и не к месту вклеиваются в сочиняемые речи. О каждом слове должно быть известно, когда и где оно впервые употреблено в литературе. Один из собеседников в «Пире мудрецов» Афинея даже имел прозвище «Есть-или-нет» за то, что он не мог съесть куска за столом, не проверив, упоминается или нет название этой еды у аттических авторов. Составляются огромные словари аттического диалекта: одни – со стилистическими пояснениями, как словарь Фриниха, другие – с реальными, как словарь Полидевка. Собираются грамматические наблюдения: впервые в сферу внимания грамматиков попадает синтаксис (Аполлоний Дискол, II в.). Все это могло бы навести на мысль об историческом развитии языка и сделать подражание древним более осмысленным. Но этого не случилось: стареющая античная культура в своем обожествлении древности уже не могла отойти от нормативного подхода, и столь тщательно отмечаемые особенности аттического диалекта оставались предметом не изучения, а подражания.
Однако все это подражание аттическим классикам практически ограничивалось одной лишь областью – областью языка. Уже на уровне стиля, а тем более на уровне жанра, не говоря уже об уровне тем и идей, никакое следование аттическим образцам было невозможно. Пользуясь риторической терминологией, можно сказать, что риторы II в. подражали аттическим писателям в «отборе слов» и в «сочетании слов», но ни фигуры речи, ни ритм, ни тем более «нахождение», «расположение» и «произнесение» этим не затрагивались. Здесь оратор должен был исходить из условий не аттического, а своего собственного времени. А эти условия с момента установления монархии сперва в греческом мире, а потом – в римском не изменились, а разве что усугубились. По-прежнему политическое красноречие парализовано, парадное красноречие процветает, судебное – тянется за ним; по-прежнему из трех целей красноречия реальны лишь две: оратору не в чем убеждать, и он может лишь услаждать и волновать свою публику; по-прежнему главным для оратора остается внешний эффект, ради которого мобилизуются и пышные периоды, и звонкие созвучия, и броские образы, и четкие ритмы; по-прежнему питомником такого красноречия является риторическая школа с ее декламациями, темы которых или вымышлены, или заимствованы из далекой древности. Иными словами, аттицизм господствует лишь в уделе грамматика, а в уделе ритора продолжает царить тот эллинистический стиль, который когда-то назывался «азианством», а потом – «новым красноречием».
Вот Лукиан в юношеской декламации описывает ручей и дом: «Поток, в глубине своей безопасный, в быстроте своей ясный, для пловца прекрасный и среди зноя прохладный!.. Хоромы, пространством просторные, красой приукрашенные, светом сияющие, златом блистающие, художеством расцветающие [...]» («О доме», 1). А вот Апулей в подобной же речи описывает карфагенский театр: «Здесь поглядения достоин не пол многоузорный, не помост многоступенный, не сцена многоколонная, не кровли вознесенность, не потолка распестренность, не сидений рядоокруженность, не то, как в иные дни здесь мим дурака валяет, комик болтает, трагик завывает, канатобежец взбегает и сбегает, фокусник пыль в глаза пускает, актер слова жестом сопровождает и все прочие лицедеи показывают себя, кто как умеет, – нет, внимания здесь достойны более всего слушателей ум и речи оратора сладостный шум...» («Флориды», 18). До такой изысканной манерности модное красноречие докатывается впервые.








