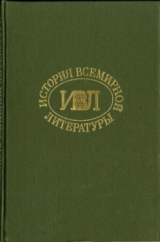
Текст книги "История всемирной литературы Т.1"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 78 страниц)
Таков политический символ веры Мэн-цзы. Не следует эту веру идеализировать. «Человечность» в понимании Мэн-цзы была не целью государственного управления, а лишь наилучшим инструментом, прагматическим средством в руках правителя, с помощью которого он должен «привлечь к себе сердце народа», заставить народ «чтить своего правителя и умирать за его начальников». В свою очередь, «человечный» правитель, объединив вокруг себя народ, более чем кто другой способен содействовать и объединению Китая в одном государстве – основной тенденции эпохи, чутко уловленной Мэн-цзы. Позднейшие конфуцианцы, когда объединение страны уже произошло и конфуцианство стало государственной идеологией (II—I вв. до н. э.), слегка изменили акценты в доктрине Мэн-цзы: уже не народ, а правитель был признан основой государства. И вместе с этим решительно поблекла та гуманистическая окраска, которая в свое время была свойственна учениям Мэн-цзы и отчасти самого Конфуция. Так рисовался ему путь объединения Китая в одном государстве. Так отразилась в книге «Мэн-цзы» основная тенденция истории.

Страж ворот. Ханьский рельеф на камне
Оттиск. II в. до н. э. – II в. н. э.
Даже чрезвычайно краткое изложение книги «Мэн-цзы» дает представление о ней как о литературном произведении. В известной нам редакции она распадается на семь больших разделов, каждый из которых состоит еще из двух частей, так сказать «глав». По этим разделам распределены беседы Мэн-цзы с определенными лицами или некоторым кругом лиц. Разумеется, главное в произведении – мысли на самые разные, но актуальные для своего времени темы. Но это все же не трактат: никакого систематического изложения каких-либо взглядов, никакого «академизма» в авторском отношении к ним. Мэн-цзы сказал, что каждому человеку свойственно чувство неравнодушия к другому, буквально даже не «чувство», а «сердце». Это в полной мере можно приложить к нему самому: все, о чем бы он ни говорил, проникнуто именно таким «чувством неравнодушия» к людям, их жизни, к своей стране, ее судьбам. Книга «Мэн-цзы» – страстная публицистика, и Мэн-цзы – ее герой, представленный мыслителем весьма широкого плана. Он, как бы мы сейчас сказали, и психолог, и социолог, и экономист, и политик, и общественный деятель, притом того типа, который был для его времени особенно характерен: проповедник, с одной стороны, и наставник, учитель – с другой.
Как он подан в этой книге? Через беседы, которые он ведет с разными лицами, преимущественно с правителями, через высказывания. Беседы эти и простые – обмен репликами, и полемические – наступление на собеседника. Высказывания – то краткие изречения, афоризмы, то пространные изложения определенных концепций с обширными ссылками на исторические факты.
Напомним, что книга начинается словами Мэн-цзы: «Царь! Зачем говорить о пользе? Ведь есть только человеческое и должное». Напомним, что «человеческое» в соединении с «должным» было самым дорогим для него. Всю жизнь он отдал разъяснению этого людям и считал, что принципы эти идут от самого Конфуция.
Сыма Цянь, о котором не раз упоминалось выше, оставил «жизнеописание» Мэн-цзы. Оно дано, однако, не изолированно, оно соединено с «жизнеописанием» другого деятеля Древности – Сюнь-цзы.
В разделе «Жизнеописания» («Лечжуань») своих «Исторических записок» Сыма Цянь как бы предваряет своего далекого собрата – Плутарха, давшего нам, как известно, не просто биографии выдающихся людей Древности, но биографии «сравнительные», сопоставляя одну биографию с другой. Сыма Цянь делает несколько иначе: он не сопоставляет, а противопоставляет. Биографию Мэн-цзы Сыма Цянь поместил рядом с биографией Сюнь-цзы. Это означает, что эти люди в чем-то противоположны друг другу.
И действительно, если главное, на чем основана вся система взглядов Мэн-цзы – а так как он был человеком дела, следовательно, и его деятельность, – состояло в убеждении, что человеческая природа добра, то Сюнь-цзы придерживался противоположного убеждения, а именно, что природа человеческая – зло.
Сюнь-цзы – мыслитель иного склада, чем Мэн-цзы, и книга «Сюнь-цзы», о которой далее пойдет речь, совсем иная, чем «Мэн-цзы».
Несколько слов о ее авторе – тут, пожалуй, допустимо сказать именно так, об авторе. Сюнь-цзы, разумеется, его почетное именование, в жизни он – Сюнь Куан. В источниках часто называют его и «Сюнь-цин» – «министр Сюнь», так как он одно время занимал высокий пост в Ланьлине, небольшом владении одного из царств. Известно также, что некоторое время он провел в столице Циского царства и принадлежал к ученому сообществу «Цзися». Уже из этого видно, что Сюнь-цзы был одним из тех «учителей мудрости», которые переходили от правителя к правителю в надежде привить кому-нибудь из них свои политические взгляды. О времени его жизни существуют различные версии, наиболее устойчивая – 298—238 гг. до н. э.
Книга «Сюнь-цзы», дошедшая до нас в редакции Лю Сяна, филолога I в. до н. э., состоит из 32 частей, распределенных по 20 разделам. Каждая часть представляет собой вполне законченное и самостоятельное целое. Приведем некоторые заголовки этих частей: «О занятии наукой» (8), «О царской власти» (9), «О богатстве государства» (10), «О пути правителя» (12), «Об общественных нормах» (19), «О музыке» (20), «О зле человеческой природы» (23) и т. д. Книга «Сюнь-цзы» представляет, в сущности, собрание трактатов на различные темы: тут и этика, и экономика, и политика, и даже эстетика (трактат «О музыке»), а в ряде трактатов (22, 27 и др.) излагаются некоторые положения логики.
Для историка литературы, разумеется, прежде всего важен факт появления новой литературной формы – тематического трактата. Это уже совсем другое, чем форма «Мэн-цзы»; тут нет особого «героя», вообще действующих лиц, нет ситуации, т. е. тех элементов, которые вносили бы человекоописательный и повествовательный элемент; нет эмоций, с которыми подаются те или иные суждения, т. е. нет того, что придает изложению публицистический пафос. Но, с другой стороны, тут нет и окончательного разрыва со столь характерной для дидактических произведений того времени формой вопрос – ответ. Впрочем, в ряде случаев вопрос – просто способ назвать тему трактата. Например, трактат «О царской власти» начинается так: «Позвольте спросить: как осуществляется правление государством?» Все последующее составляет как бы пространный ответ на этот вопрос.
Мы уже говорили, что одна из важнейших идей Сюнь-цзы – убеждение, что природа человеческая от рождения – зло. Добро существует, но оно не нечто прирожденное, а приобретенное, не естественное, а «сделанное самим человеком».
Сюнь-цзы считает, что человеку присуще острое чувство своего интереса, свойствен, так сказать, органический эгоизм, а такой эгоизм – источник зла: он рождает зависть, вражду, а они влекут за собой насилия, преступления. Конечно, примириться с этим Сюнь-цзы не может и поэтому ищет путей к преодолению зла в человеке, а затем и во всем обществе. Почву для борьбы со злом Сюнь-цзы видит в общественном качестве человеческой природы. Если бы Сюнь-цзы знал Аристотеля, кстати близкого ему по характеру учености мыслителя другой Древности, он мог бы тоже сказать: «Человек – животное общественное». И вот это общественное начало в человеке и ведет к преодолению присущего ему от природы зла.
Чем же общество, членом которого каждый человек является, влияет на него? Своими законами – теми, которые создаются самим общественным существованием. Сюнь-цзы обозначает такие законы словом ли, которое выше мы передавали словами «общественная норма», «норма обычного права». Однако, если бы только к этому сводилось все дело, Сюнь-цзы мало отличался бы от Конфуция и Мэн-цзы, у которых ли также носит признаки категорий обычного права, во многом идущих еще от времен родового, патриархального строя. У Сюнь-цзы, в отличие от его предшественников, в состав этих норм входят три вида общественных установлений: государственный строй, социальный статут, моральный кодекс. Эти установления, т. е. нечто «сделанное человеком», и сделанное при этом в силу необходимости в соответствии с требованиями его общественной природы, и создают условия для «превращения природы» (хуа син), как говорит Сюнь-цзы, иначе – для обращения присущего человеку зла в добро. Таким образом, получается, что человек, собственно, становится человеком лишь тогда, когда он выступает как существо общественное, без этого он просто один из видов животных. Остается последнее, что важно отметить. Откуда берется это самое «зло от рождения»? Сюнь-цзы отвечает на этот вопрос так: человек – часть природы вообще, одно из ее проявлений. Но в природе есть тайфуны, наводнения – всякого рода стихийные бедствия; это, безусловно, «зло». Следовательно, природа – отнюдь не «добро». И ничего с этим поделать нельзя: подобные бедствия бывали и при Яо, Шуне и других прославленных конфуцианцами идеальных правителях глубокой Древности.
Правда, есть в природе и другое: феникс, единорог, появление которых обозначает благо. Но, говорит Сюнь-цзы, они появлялись и во времена Цзе и Чжоу – этих «классических» тиранов Древности, т. е. не устранили зла. Может ли поэтому природа дать человеку при его рождении что-либо другое, как не зло? Поэтому добро не от природы, а от человека; нормы морали не даны человеку, а созданы им.
Некоторые из современных исследователей истории китайской философии считают возможным прилагать к этике Сюнь-цзы кантовскую категорию гетерономии.
«На Северном Океане есть рыба. Имя ей – Гунь. Величина Гунь-рыбы... Не знаю – сколько в ней тысяч ли! Превращается она – становится птицей. Имя ей Пэн. Спина птицы Пэн... Не знаю – сколько в ней тысяч ли! Грозно встрепенется она и взлетает. Ее крылья, как туча, нависшая с неба. Море бушует – она летит к Южному Океану. Южный Океан – ...это Небесный пруд!» – так начинается произведение, о котором пойдет речь ниже.
Через несколько строк читаем: «А цикада и горлица смеются и говорят: „Мы вот взлетаем и садимся на ильм, на сандаловое дерево. Иногда и не долетаем, опускаемся на землю. Чего нам подниматься на 90 тысяч ли и лететь на юг?“»
Несколько ниже идут слова: «Речь идет о большом и малом». Да, о большом и малом; вернее, о том, что следует считать «большим» и что «малым», в этой книге и говорится.
Книга эта – «Чжуан-цзы». Как мы уже знаем, если кого-либо называют по фамилии с приставкой цзы, это означает, что дело идет о мудреце, учителе, мыслителе. В данном случае имеется в виду некий мыслитель Чжуан Чжоу. Впрочем, сказать о нем «некий», пожалуй, нельзя: сведений о нем довольно много. Сыма Цянь, старавшийся сохранить для последующих времен все знаменитые в Древности имена, дал в «Исторических записках» биографию этого Чжуан Чжоу. Определяют и время, когда он жил: не то между 368—290 гг. до н. э., не то между 369—286 гг. Следовательно, книга, в которой говорится об этом человеке, могла появиться не ранее первой половины III в. до н. э.
Странный был человек этот Чжуан Чжоу! Вот что, например, рассказывается о нем в книге: «Чжуан-цзы сидел с удочкой на реке Бу. Чуский царь послал за ним двух своих сановников: „Хочу возложить на тебя бремя государственных дел“. Чжуан-цзы, держа удочку, даже не обернулся, только сказал: „Слышал я, что в Чу есть священная черепаха. Она мертва уже три тысячи лет. Царь облек ее в расшитые ткани, положил в драгоценный ларец и поместил в Святилище. Что лучше – умереть, оставить после себя кости, чтобы их почитали, или жить и влачить свой хвост по грязи?“ Сановники сказали: „Лучше жить и влачить свой хвост по грязи“. Чжуан-цзы тогда сказал: „Ступайте! Я буду влачить свой хвост по грязи“» (гл. 17).
Вот другой рассказ: «У Чжуан-цзы умерла жена. Хуэй-цзы стал оплакивать ее. Чжуан-цзы же уселся, протянул ноги и распевал, ударяя по глиняному тазу. Хуэй-цзы сказал: „Жили с женой вместе. Взрастили детей. Состарились. Умерла она – и ты не оплакиваешь ее. Ну, это еще так-сяк. Но бить в таз и распевать – уж не слишком ли?“ Чжуан-цзы на это сказал: „Нет! Сперва, когда она умерла, я, оставшись один, мог ли не горевать? Но потом я подумал о ее начале и понял, что жизни у ней, собственно, не было. И не только жизни не было, не было и внешней формы. И не только не было внешней формы, собственно, не было и самой материи. Произошло изменение – появилась материя. Произошло изменение материи – появилась внешняя форма. Произошло изменение внешней формы – появилась жизнь. Теперь произошло еще одно изменение, и она ушла в смерть. Она прошла путь вместе с весной и осенью, летом и зимой – с четырьмя обликами времени. Сейчас она мирно покоится в Великом Доме мира. Я и тут стенаю, плачу! И я подумал: это значит не понимать закона судьбы. Поэтому я и перестал“» (гл. 18).
В этих рассказах обрисованы наиболее общие черты, характерные и для самого человека, и для его умонастроения. Вместе с тем эти рассказы дают представление о характере произведения. Мысли, разбросанные по всей книге, в своей совокупности образуют целое философское учение, так что «Чжуан-цзы» обязательно изучается в плане истории философии. Однако сама форма, способ выражения этих мыслей заставляют рассматривать его в литературном плане.
Каково отношение Чжуан Чжоу к книге «Чжуан-цзы»? Видимо, такое же, как и в предыдущих случаях. Эта книга – свод того, что приписывалось обществом самому Чжуан Чжоу или считалось связанным с ним. Конечно, свод этот сделал кто-то из учеников и последователей мыслителя. Вероятно даже, что текст, которым мы располагаем, дело рук нескольких человек, живших в разное время. Уверенно можно только сказать, что произведение это по самому своему духу принадлежит именно той эпохе, к которой относят жизнь Чжуан Чжоу.
«Чжуан-цзы» – произведение не повествовательное. Если в книге «Мэн-цзы», излагающей концепции Мэн Кэ, все же присутствует повествование о делах, скитаниях этого неуемного спорщика, то в «Чжуан-цзы» такой основы нет; все сводится к изложению определенной системы идей. Но изложение это организуется разными средствами и весьма своеобразно.
Вот, например, как подается концепция – «полезное есть бесполезное» – одна из важнейших в учении Чжуан-цзы: «Пушистая лисица, пятнистый барс... Жить в лесу на горах, залегать в норах на склонах – таков их обычай. Ночью выходить, днем лежать – такова их заповедь. Чувствовать голод и жажду, пробираться к рекам и озерам, добывать себе пищу – так положено им. И все же им не избавиться от сетей и капканов. В чем их вина? Их беда – их шкуры» (гл. 20).
«Урод Шу... Подбородок у него закрывает пупок. Плечи поднимаются выше макушки. Пучок волос на голове торчит прямо в небо. Внутренние органы все собрались в груди. Ляжки идут прямо от ребер. Он работает иглой, стирает белье, и ему есть, чем набить себе рот; он провеивает и очищает зерно, и ему есть, чем накормить десять человек. Когда власти производят набор солдат, этот урод спокойно толкается среди них; когда объявляют общую повинность, его, калеку, на работу не берут. А когда раздают зерно немощным, он получает целых три меры, да еще – десять вязанок хвороста» (гл. 4).
Итак, служба в войске – бедствие; отбывание рабочей повинности – бедствие. И обрекает человека на такие бедствия то, что ценится: здоровье, сила. Это повторяется и в мире животных: причиной гибели лисиц и барсов служат их красивые шкуры. Словом, по-настоящему полезно бесполезное.
Эта мысль распространяется и на духовные качества человека, на общественные отношения. Вспомним рассказ, как отверг Чжуан-цзы предложение царя стать его министром; что побудило царя предложить Чжуан-цзы такой пост? Слава о его уме. Следовательно, к числу отрицательных явлений принадлежит и ум, знание: «Природные свойства человека идут в ход ради славы; знания приобретаются из-за соперничества. Они зло, и прибегать к ним нельзя» (гл. 4). Впрочем, по мнению Чжуан-цзы, ум, знание вообще не могут ничего человеку дать: «Кто хочет уберечься от грабителей, взламывающих сундуки, шарящих по мешкам, вскрывающих шкафы, тот обвязывает все веревками, запирает на засовы и замки. Такого человека в свете называют умным. Но вот приходит большой грабитель и взваливает шкаф на спину, сует сундук под мышку, вешает мешки на коромысло и уходит, боясь только того, как бы веревки и замки не оказались недостаточно надежными. Так и выходит, что тот, кого называли умным, только готовил добро для большого грабителя» (гл. 10).
Свое отношение к уму, знаниям человека Чжуан-цзы распространяет и на его моральные качества, в их числе более всего на то, что? Мэн-цзы ставил в основу всего, – на чувства человечности и должного. Чжуан-цзы так поясняет свою мысль: «Когда рыбы всячески стараются помочь друг другу? Когда речка, в которой они водятся, пересохла и они оказались на сухой земле. Тут они начинают дышать друг на друга, чтобы влагою своего дыхания поддержать жизнь в другом; начинают брызгать друг на друга слюною, чтобы дать необходимую влагу. Но если бы они были в воде, они и не помышляли бы друг о друге» (гл. 14). Следовательно, «человечность» и «долг» появляются лишь тогда, когда что-либо неблагополучно, но устранить это неблагополучие люди не в состоянии. Таким образом, неустанно говорить о них вредно, так как этим внимание людей направляется на то, на что направлять внимание не следует. Чжуан-цзы издевается над конфуцианскими проповедниками «человечности» и «долга». Он вспоминает про Чжэ, известного разбойника, грабителя. «У разбойника Чжэ спросили: „Есть ли свой Путь и у грабителей?“ Чжэ ответил: „Разве для того, чтобы идти, не должен существовать путь? Для того, чтобы сообразить, что в таком-то доме есть богатое имущество, нужен ум. Для того, чтобы понять, можно ли идти на грабеж или нет, нужно знание. Для того, чтобы войти в этот дом первым, нужно мужество. Для того, чтобы разделить добычу между всеми поровну, нужно чувство человечности. Никогда еще не бывало, чтобы кто-нибудь в Поднебесной мог совершить большой грабеж, не обладая этими пятью свойствами“» (гл. 10).
Отвергнув, таким образом, нравственные начала, столь прославляемые Конфуцием и Мэн-цзы, Чжуан-цзы ополчается и на так называемых «совершенных» (шэнжэнь), т. е. тех «совершенно мудрых» людей, которых Конфуций и его последователи возвели в ранг идеальных личностей. Если прогнать всех этих «совершенных», а разбойников оставить в покое, тогда в Поднебесной воцарится порядок. Когда «совершенные» перемрут, исчезнут и разбойники, и в Поднебесной водворится мир, не будет никаких бедствий. Пока «совершенные» не перемрут, не переведутся и большие грабители (гл. 10).
Что же Чжуан-цзы противопоставляет идеалу Конфуция? «Я называю богатым не того, кто обладает чувством человечности и долга, а того, у кого свободно действуют все его природные свойства. Я называю умеющим слышать не того, кто слышит другого, а того, кто слышит себя. Я называю умеющим видеть не того, кто видит другого, а того, кто видит себя. Кто не овладел собою, а овладел другими, тот владеет тем, что принадлежит другим, и не владеет тем, что принадлежит самому себе» (гл. 8).
Итак, всякого рода высоким моральным качествам Чжуан-цзы противопоставляет исконные свойства самой человеческой природы, вернее, ее саму, эту природу. Именно эту свою природу человек и должен всячески оберегать от всего «сделанного людьми», не естественного, а искусственного, не органического, а привнесенного извне. Поэтому идеал для него не «совершенный человек», а «истинный человек» (чжэньжэнь). Вот как он такого человека характеризует: «Истинный человек Древности не радовался жизни, не отвращался от смерти. Рождался и не радовался, умирал – не противился. Равнодушно уходил, равнодушно приходил. Не забывая о том, чем начинается, не стремился к тому, чем кончается, следовал естественному ходу вещей и не восставал против него. Не нарушал Путь (Дао) чувством любви или ненависти. Своими действиями не стремился помогать росту Неба. Вот таков и есть истинный человек» (гл. 6). В пояснение скажем, что выражение «помогать росту» в те времена было перифразой «ненужного дела». Оно хорошо объясняется в книге «Мэн-цзы»: один человек обрабатывал свое поле, с нетерпением ждал роста посеянных на нем злаков. Ему показалось, что они растут слишком медленно. Тогда он решил помочь их росту и немного подтянул ростки кверху. Когда встревоженные его рассказом сыновья прибежали на поле, было уже поздно: все всходы погибли. Чжуан-цзы сказал бы, что своим действием владелец поля нарушил «естественный ход» вещей.
В рассказе о поведении Чжуан-цзы после смерти его жены изложена центральная для него мысль: нет жизни, нет смерти, есть только вечный процесс изменений, столь же непреложный, как и ход времени. Нет ничего постоянного, ничего индивидуального: «Всякий предмет... Он то, он и это... То исходит из этого; это опирается на то. Говорят, что то и это рождаются. Но если они рождаются, они же и умирают. Если исходить из да, исходишь и из нет; если исходить из нет, исходишь и из да. Это и да, это и нет. Да есть ли то и это? Иль нет ни того ни этого?» (гл. 2). Единственное, что есть, по мнению Чжуан-цзы, это – Дао, Путь.
Многие с трудом воспринимали идеи Чжуан-цзы и досаждали ему разными вопросами, особенно об этом самом Дао. «Дунго-цзы спросил у Чжуан-цзы: В чем же находится то, что вы называете Дао? – Во всем, – ответил Чжуан-цзы. – И все же? – В букашке и муравье. – В таких ничтожествах? – В пустом колосе, в шелухе зернышка проса. – В таких еще больших ничтожествах? – В черепахе и обломке! – Еще в больших ничтожествах?! – В моче и кале, – последовал ответ» (гл. 22).
Ответ, конечно, ошарашивающий не только конфуцианца, но вполне выдержанный в стиле Чжуан-цзы и к тому же полностью вытекающий из всего его мировоззрения. Вытекает из него и его определение жизни. В разговоре с одним собеседником по имени Цюй Цяо-цзы, задавшим вопрос о жизни, Чжуан-цзы сказал так: «Глупец считает, что он бодрствует и, вникая во все, знает, кто царь, кто псарь. Как, Цюй, ты невежествен! Все мы видим только сон. Когда я говорю, что ты видел сон, я также вижу сон» (гл. 2).
Исчерпывающе эта мысль выражена в известном рассказе, как Чжуан Чжоу однажды заснул и увидел, что ои бабочка. Потом бабочка заснула и увидела во сне, что она Чжуан Чжоу. Что же верно? То ли, что он – бабочка, видящая себя во сне человеком? То ли он – человек, видящий себя во сне бабочкой? Это, однако, не следует понимать как утверждение, что «жизнь есть сон». Для Чжуан-цзы это было бы проявлением свойственного людям ошибочного стремления все как-то определять. Жизнь для него – лишь облик одного из мгновений в бесконечном процессе бытия; она поэтому одинаково и реальна, и иллюзорна; она такой же облик мгновения, как и все другое. Поэтому, по мнению Чжуан-цзы, нелепо какое-то особое отношение к жизни; видеть в ней какую-то ценность бессмысленно. Эта мысль обрисована в знаменитом разговоре Чжуан-цзы с черепом, который ои увидел на дороге. Ударив по нему хлыстом, Чжуан-цзы обратился к нему и сказал: «Ты, почтенный! Стал этим потому, что в жажде жизни утратил всякий разум? Иль стал этим потому, что служил погибшему царству и погиб под секирою? Стал этим потому, что творил недобрые дела и устыдился, что опозорил отца и мать, жену и детей? Стал этим потому, что голодал и холодал? Или дошел до этого, просто прожив много лет?» Закончив свою речь, Чжуан-цзы пододвинул к себе череп, положил себе под голову, улегся и заснул. Ночью череп явился ему во сне и сказал: «Ты говорил, как пустослов! То, о чем ты говорил, бремя живых. Для мертвых ничего этого не существует. Хочешь ли ты выслушать то, что тебе скажет мертвый?» – «Хочу!» – ответил Чжуан-цзы. Череп сказал: «Для мертвого нет наверху царя, внизу – слуг. Нет для него течения времени. Весна и осень для него – сами Небо – Земля. Поэтому радости самого царя, «обращенного к югу», не могут быть выше этих радостей». Чжуан-цзы недоверчиво спросил: «Ну, а если бы я сказал Ведающему судьбами, чтобы он создал для тебя вещественную форму, сделал бы для тебя кости и мясо, жилы и кожу, вернул бы тебе отца и мать, жену и детей, друзей по селению, захотел бы ты всего этого?» Череп скорчил гримасу и сказал: «Могу ли я отказаться от царственного счастья и снова взвалить на себя человеческие тяготы?» (гл. 18).
Так рисует Чжуан-цзы то, что считает подлинно «большим», и то, что считает «малым», – то, что он дал в образе могучей птицы Пэн, в безудержном полете стремящейся к беспредельности – к необъятному «Южному Океану», и в образе маленькой пичужки, могущей только взлетать на кустик. Но что такое этот полет птицы Пэн? Чжуан-цзы определяет его сложным выражением сяояою, которое в обиходном языке, возможно, применялось в смысле беззаботного скитания по белу свету, переносно – в смысле беззаботного легкого скольжения по жизни. У Чжуан-цзы оно приобретает смысл безудержной свободы человеческого духа, не отягченного ни заботами, ни печалями, ни радостью – ничем.
Мэн-цзы и Сюнь-цзы, с одной стороны, Ле-цзы и Чжуан-цзы, с другой – заканчивают оформление двух направлений общественной мысли древнего Китая. Одно из них обычно обозначается словом «конфуцианство», другое – «даосизм». Первое берет свое начало в «Луньюе», второе – в «Даодэцзине»; иначе говоря, первое исходит из Конфуция, другое – из Лао-цзы.
Эти два течения отразили две концепции отношения человека к миру природы, к обществу, к самому себе.
Если отбросить всякие ссылки на Древность и отнестись к этим ссылкам как к своеобразному подкреплению проводимых идей, первое направление, конфуцианство, видит в человеке создателя всех общественных институтов, регулирующих жизнь и деятельность как общества в целом, так и отдельного человека, мыслимого именно членом этого общества. Сами же институты рассматриваются как необходимые для существования общества и человека. Институты эти мыслились как выражение норм (ли) общественной и личной жизни человека. Такая концепция приводит к мысли о подчиненности человека подобным нормам, подчиненность же эта ведет к ограничению свободы человека; даже к подавлению его личности.
Вторая концепция, которую выставил даосизм, исходит из противоположной мысли. Даосизм утверждал автономность человеческой личности, стихийность ее природы, идущую от слияния личности со всем бытием. Такое утверждение влекло за собою отрицание норм как таковых. Оно привело и к отрицанию ценности того, что было так дорого Конфуцию и его последователям, – ценности общественных институтов – государства, организованного общества, общественной морали. Отрицалась и ценность самой основы этих институтов, мыслимой конфуцианцами как «добро». Для последователей даосизма эти институты, а также те принципы, которые лежат в их основе, – не более чем орудие подавления человеческой свободы, подавления личности. Подвергалась, следовательно, отрицанию и сама категория «ценности».
Если попробовать применить к этим двум направлениям некоторые определения, выработанные европейской философией, в конфуцианстве, особенно в его этике, можно увидеть принцип гетерономии, в даосизме – автономии; в конфуцианстве – мысль о необходимости для человека, живущего в обществе, известного отчуждения личности, в даосизме – протест против такого отчуждения. Таким образом, эти идеи родились еще в далекой Древности, хотя позже, конечно, развивались – каждый раз по-своему, в новом аспекте, в новой разработке, с новой мотивировкой. И это только подтверждает положение, что человечество ничего действительно важного из созданного им не теряет, но развивает и обогащает.
Обзор литературных памятников периода, когда возникли и оформились эти два направления общественной мысли, позволяет увидеть, что каждое из них вызвало к жизни свои собственные литературные жанры. Показательными образцами их являются «Луньюй» и «Мэн-цзы» для конфуцианского направления, «Лао-цзы» и «Чжуан-цзы» – для даосского. При этом каждая из этих пар свидетельствует не только о формировании определенного литературного жанра, но также и об историческом движении в нем.
Первые по времени памятники литературы конфуцианства и даосизма – «Луньюй» и «Лао-цзы» – свидетельствуют, что творческий импульс, приведший к созданию этих двух произведений, проявился в одном случае преимущественно в рациональной сфере, в другом – в эмоциональной. Первая сфера нашла средство своего выражения в языке прозы, вторая – поэзии. «Луньюй» – первая в истории китайской литературы художественная проза; «Лао-цзы» – первая поэма. Для обоих этих жанров понадобился «герой», через которого и выявилось творческое задание. Но для первого направления оказался нужным герой, поданный как вполне реальный персонаж, наделенный притом даже некоторыми чисто бытовыми чертами, «герой рассуждающий». Для второго нужен был «герой вещающий», которого не столько видят, сколько слышат. Поэтому в «Луньюе» «герой» присутствует прямо, в «Лао-цзы» же звучит его «закадровый голос».
«Мэн-цзы» и «Чжуан-цзы» сопоставляются иначе. Общее у них то, что по языку они – проза. Общее и то, что проза эта художественная. Это достигается прежде всего тем, что в обоих случаях содержание излагается не абстрактно, а как исходящее от определенных лиц, причем эти лица – не условные схематические фигуры, а живые люди с ярко выраженными индивидуальными чертами.
Эти люди и есть подлинные литературные герои, которых можно изучать и характеризовать. Создание героя – первый способ художественного выражения творческого замысла. Другой способ – такая обработка словесной ткани произведения, чтобы произведение не просто сообщало что-то, но и воздействовало. Однако приемы этой обработки оказались различны. В «Мэн-цзы», произведении по идейному содержанию конфуцианском, все внимание обращено на точность и ясность выражения как основного средства не только наиболее адекватной передачи содержания, но и эффективного воздействия на читателя. Отсюда – обращение к форме афоризма, изречения, когда необходима и возможна краткость, к форме трактата, когда необходимо развернутое изложение; обращение к форме диалога то как способа развертывания темы, то как способа убеждения. Произведения по содержанию, по духу даосские главное внимание обращают на яркость и силу выражения, что заставляет прибегать к образу, а при создании образа – к гиперболе, необычности, фантастике, в самом же изложении – к различным стилистическим фигурам, к вводу постороннего материала и т. д.
История китайской литературы не оставила нам каких-либо жанровых определений всех этих произведений. Изобретать какие-либо новые – затруднительно. Можно лишь указать на некоторые черты сходства с литературными памятниками другой Древности, греческой. Так, книгу «Мэн-цзы» можно сопоставить с «Диалогами» Платона, книгу «Чжуан-цзы» – с произведениями, возникшими в русле пифагорейской школы.








