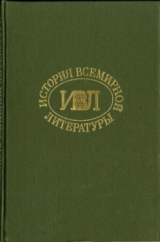
Текст книги "История всемирной литературы Т.1"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 78 страниц)
И по замыслу, и по объему это сочинение существенным образом отличается от хроник логографов; писатель не довольствуется простым наблюдением фактов, а стремится выяснить причины событий и их закономерности. Свой рассказ Геродот начинает словами: «Вот изложение исследования Геродота Галикарнасского, чтобы не забывалось со временем людское прошлое и не оставались неизвестны великие и дивные подвиги, свершенные эллинами и варварами, а также причина, по которой они воевали друг с другом».
Пользуясь данными ионийских хронистов, Гекатея прежде всего, а также собственными путевыми наблюдениями и сведениями, полученными от персов и египетских жрецов, Геродот описал царствования лидийских и персидских правителей VII—V вв. до н. э., их походы и завоевания, столкновения с греческими полисами и покорение народов, населяющих близлежащие земли. Основную часть своего труда Геродот посвятил греко-персидским войнам 490—478 гг. (кн. V—IX), предпослав ей «персидскую историю» (кн. I—IV), историю народов, с которыми воевали персы. Нить рассказа о четырех персидских царях – Кире, Камбизе, Дарии, Ксерксе – обросла самостоятельными историями Лидии, Скифии, Вавилона, Египта и греческих полисов, и хронологическое повествование о возвышении и падении могущества Персии превратилось в полотно всеобщей истории известного тогда грекам населенного мира. При этом заметки логографов не только были приведены в систему, но и получили особое истолкование. Экспансию персов, победу эллинов Геродот стал объяснять закономерным следствием их образа жизни: воинственность персов – их страхом перед властелином, свободолюбие греков – их подчинением закону. Победа афинян утверждала в его глазах превосходство эллинского образа жизни над восточной деспотией.
«История» Геродота – первое дошедшее до нас полностью произведение ионийской прозы, и оно дает нам возможность судить о той художественной традиции, которая легла в его основу. По типу восточных хроник Геродот ввел чуждый для грека хронологический счет по царствованиям. Его географические и этнографические отступления построены по плану, уже выработанному предшественникам: если Геродот заводит речь о той или иной местности, то упоминает о ее размерах, форме, климате, реках; если он дает этнографический экскурс, то рассматривает страну, народ, чудесные истории; говоря о народе, описывает его предысторию, образ жизни и нравы. Почерпнутые из хроник сведения о лидийских и персидских царях полны сказочных мотивов и сюжетов, и повествование ведется в двух стилях – сухой и точный стиль научного изложения чередуется с полуразговорным красочным стилем народных новелл и легенд. При обрисовке исторических персонажей используются фольклорные мотивы и приемы. По образцу сказки Геродот ставит рядом со своими главными героями фигуры их советников: недалекому лидийскому царю Крезу противопоставлен мудрец Солон, персидским царям Киру и Камбизу – Крез, обретший мудрость в своем несчастии. Описание их жизни украшено разнообразными сказочными мотивами. Так, например, в историю Креза включены три вопроса, которые задает царь мудрецу (Крез – Солону I, 30—32), рассказ об охоте на кабана (ср. «Одиссея», XIX, 428) и о нечаянном убийстве гостем сына своего хозяина (I, 35—45); в форме яркой новеллы, построенной на мотиве подкинутого царского внука, воспитанного пастухом и опознанного потом по детским пеленкам, показано детство Кира (I, 107—120); избрание Дария на царство связано с рассказом о хитром конюхе, который ловко заставляет заржать жеребца своего господина и тем обеспечивает своему хозяину победу (III, 84—86).
Влияние фольклора сказалось не только в этих законченных новеллах, но и в выборе подробностей, которые Геродот сообщает о своих героях. Очень часто встречаются у него излюбленные сказочные числа: три, семь, тысяча: три ответа дает Крезу Солон (I, 30), три посольства посылает Отан к своей дочери (III, 68), три брата приходят к Македонию (V, 17); семь персов держат совет о низложении самозванца (III, 71), тысячу, две тысячи и четыре тысячи персов убивает Зопир в Вавилоне (III, 157). Несколько раз упоминается о роскошном платье как царском подарке (Камбиз дарит пурпурное платье царю эфиопов, III, 20; жена Ксеркса дарит мужу сотканный ею прекрасный плащ, III, 109) – деталь, мало что говорящая греку, но обычная в восточном фольклоре (см. библейское сказание об Иосифе, кн. Быт., 41, 42, 45).
По широте охвата событий «История» Геродота была сопоставима лишь с эпосом, и именно у эпоса он заимствовал многие из своих композиционных приемов: как и в эпосе, его изложение сосредоточено вокруг одного главного лица, монотонное повествование оживляется прямыми речами персонажей, и ход рассказа замедляется пространными экскурсами. По образцу гомеровского каталога кораблей («Илиада», II, 494—760) он перечисляет народы, участвовавшие в походе Ксеркса (VII, 61—99), и, как эпические поэты, то и дело отходит от основной сюжетной линии и углубляется в побочные описания.
Вместе с тем автор создает целостную картину, части которой соотнесены друг с другом и находят в ней свою интерпретацию. Симметрично уравновешивая различные эпизоды в общем контексте своего рассказа, он устанавливает между ними структурную перекличку, а постоянным повторением одного мотива связывает все исторические звенья этой цепи в единую закопченную ситуацию. Вся описанная Геродотом эпопея предстает как одна многоактная драма, герой которой – персидская держава – совершает сначала величественные подвиги, подчиняя себе огромные пространства Азии, затем преступает положенный естественный предел, стремясь простереть свое владычество на Европу, и в наказание за это низвергается с достигнутых высот. «История» приобретает трагическое звучание, и Геродот достигает его нарочитым распределением материала и чисто драматическими приемами композиции, сталкивая в своем изложении ситуации полного благополучия и обрушивающейся беды, трагической иронии и прозрения. Примером одного из самых потрясающих мест геродотовской истории может служить царствование Креза (I, 26—91), когда в сплетении красочных эпизодов разыгрывается жизненная драма, герой которой от беспечного благополучия и гордой самоуверенности через беды и страдания приходит к познанию вечного, единого для всех людей закона возмездия, карающего человека за чрезмерное счастье и надменность.
«История» Геродота была осмыслением сложнейшего периода в историческом развитии Греции, периода, когда в жестоком столкновении с персами она отстояла свою независимость и господствующим социальным устройством стала рабовладельческая демократия. И это осмысление дано здесь с позиций крепнущего Афинского государства. Нравственные и идеологические представления, которыми жило афинское общество в период его расцвета, обусловили рождение исторического жанра и характер интерпретации мировых событий, отраженных в труде Геродота. Эсхиловские «Персы» определили общую этическую мысль его исследования, а вся атмосфера политической и духовной жизни Афин породила его идею эллинства как личной свободы и общей подчиненности всех людей только закону (VII, 103).
Если у Геродота действующий в природе закон причины и следствия распространялся на человеческие судьбы в истории, то в гиппократовской медицине тот же закон был приложен к анализу физических состояний человека. Из эмпирического искусства, связанного с культом бога Асклепия, греческая медицина превратилась в V в. в систематизированную науку. Подобно Геродоту, который объединил разрозненные сведения хронистов, Гиппократ впервые объединил все уже накопленные врачами сведения в одну общую картину и от простого описания болезней по их протеканию перешел к выяснению их причин и способов лечения.
Гиппократу приписывался так называемый «Гиппократов корпус» – собрание свыше 50 медицинских текстов, написанных в V—IV вв. на ионийском диалекте разными авторами. Часть этих текстов принадлежит, несомненно, самому Гиппократу и врачам его школы.
Гиппократова медицина предлагала новую трактовку физиологических состояний человека:
перестав объяснять болезни вмешательством божества, она устанавливала зависимость человека от мира природы и искала естественных причин его здоровья и заболеваний. Человеческий организм стал рассматриваться как микрокосмос, устроенный по аналогии с макрокосмосом природы, его здоровье – как равновесие «первоэлементов» (соков – крови, слизи, желчи и черной желчи) внутри него, болезнь – как нарушение равновесия и преобладание одного из элементов. Человеческое тело начали осмысливать как часть природы и причину недугов стали видеть в климате, полагая условием здоровья организма его равновесие с окружающей географической средой. В любопытном трактате гиппократова корпуса «О воздухе, водах и местностях» обобщены наблюдения над многими народами и впервые сделана попытка установить причинную связь между характером народа и географией местности. Анализ причин делал возможным предвидение хода болезни и ее лечения.
Значение гиппократовского метода выходило далеко за рамки чисто медицинской практики. Этот первый опыт рационалистического осмысления человека оказал огромное влияние на выработку новых методов в историографии и философии V—IV вв.
АТТИЧЕСКАЯ ПРОЗА V В. ДО Н Э.
Аттическая проза утратила многие черты своей предшественницы. Интерес к диковинному – к этнографии, географии, далекому прошлому – сменился интересом к настоящему моменту, к актуальной жизни полиса. С легендарных героев истории основное внимание сместилось на обычного человека, современника; с грандиозной исторической эпопеи, раскрывающей непреложный закон божественного возмездия, на драматические конфликты политической борьбы полисов с ее столкновением человеческих страстей и материальных факторов. Аттическая проза выработала новую концепцию человека. Изменились ее жанры: на первое место выступило ораторское искусство, повествовательная литература во многом подчинилась его влиянию. Философская проза перешла от сентенций и афоризмов к новым формам диалога и трактата. Формирование литературной прозы на аттическом диалекте определялось двумя факторами: проблематикой, рождаемой жизнью полиса, и новой словесной техникой, разработанной софистами. Система ее жанров и изобразительных средств развивалась в прямой связи с рационалистическими течениями века, и два периода в истории аттической прозы – начальный и зрелый – могут быть названы периодами влияния софистики (V в.) и школ Исократа и Платона (IV в.).
Наши сведения о первых «наставниках мудрости» отрывочны и неполны. Большая часть того, что они писали, сохранилась в виде кратких фрагментов. Самыми знаменитыми софистами V в. были Протагор из фракийских Абдер, Продик с острова Кеоса, Гиппий из Элиды и Горгий из сицилийских Леонтин. Они не составляли корпорации, учили независимо друг от друга и часто расходились во мнениях. Их объединяла, однако, общая профессиональная задача – по-новому воспитать человека, сделать его способным к участию в политической жизни. Если греческая наука VI в. разрушила эпическую картину космоса, то педагогика софистов нанесла не меньший урон эпическому представлению о человеке, отказавшись от аристократического понимания человеческого достоинства и доблести (arete) как природного и божественного дара, заменив его новым пониманием «доблести», достигаемой воспитанием, обучением, шлифовкой человеческой природы. Софисты напоминали рапсодов тем, что так же, как рапсоды, разъезжали по городам, очаровывали публику своими чтениями и учеников своих заставляли заучивать наизусть целые речи. Но то отношение к миру, человеку и словесному творчеству, которое софисты несли слушателям, опиралось не на эпос, а на знакомый уже Гераклиту релятивистский принцип: «О каждой вещи можно высказать два противоположных мнения». Отталкиваясь от него, софисты отказывались как от искания неизменной научной истины, так и от слепой веры религиозным авторитетам и направляли все свои усилия на то, чтобы научить человека пользоваться этим свойством амбивалентности суждения. Областью своих исследований они делали не объективную истину факта, а субъективную правильность мнений и для этого предлагали новые критерии ценности. Близкий к ионийским материалистам Протагор таким критерием считал чувственный опыт человека. Его знаменитое изречение гласило: «Человек есть мера всех вещей, существующих – в том, что они существуют, несуществующих – в том, что они не существуют». В отличие от него сицилиец Горгий настаивал, что не существует никаких внешних мерок в оценке человеческого поведения, кроме выгоды данного момента. Софистика опрокидывала привычное для грека представление о законе и традиции как о чем-то священном и неизменном и вводила новую концепцию человека, рассматривая в нем природу (physis) как постоянное, неизменное начало, а обычаи, привычки (nomos) – как изменчивую условность.
Деятельность софистов не была единственной формой возникшего в V в. нового обучения. Наряду с ней, а в известном смысле и в противовес ей в Афинах пользовался славой кружок Сократа (470—399 гг. до н. э.), претендовавший, как и софисты, на воспитание в людях гражданской доблести. В отличие от софистов Сократ не был странствующим учителем, а безвыездно жил в Афинах. Эта связь с родным полисом определяла и характер его бесед. Сократу был чужд прагматизм и релятивизм софистов, он не брал платы за уроки, и главной его целью была не дискредитация общественных представлений о морали, а попытка сохранить их с помощью новой аргументации. Как и у софистов, педагогика Сократа чуждалась религиозной традиции полиса, равно как и космологических занятий греческой науки. Подобно софистам, Сократ учил тому, как надо человеку жить, но внимание его направилось не на умение ловко пользоваться выгодами момента, а на поиски устойчивой основы человеческого поведения, поэтому его интерес сосредоточился на новом, рационалистическом обосновании норм полисной этики. Если для софистов сами эти нормы теряли свою ценность, то Сократ стремился найти мерило нравственности не во внешнем авторитете, а внутри человека, в его разуме, в его знании, в правильном понимании того, в чем состоит человеческое достоинство (arete – добродетель, доблесть) – то свойство, которое в глазах грека его времени объединяло в себе такие качества, как мужество, выдержка, благоразумие, верность дружбе, благочестие.
Соответственно несхожи были и методы обучения софистов и Сократа. Сократ не стремился подчинить себе эмоции слушателей, а прививал навык к диалектическим рассуждениям. На улицах, городской площади, в частных домах или гимнастическом зале он постоянно заводил беседы с согражданами, задавая им вопросы, опровергая их ответы, и снова ставил вопросы, раскрывая перед собеседниками противоречивость общепринятых мнений и толкая их на путь поисков истинного знания о предмете, о нравственных понятиях прежде всего.
Претензии Сократа на автономную нравственность, послушную не устоявшимся обычаям, а внутреннему голосу индивида, были восприняты полисом как угроза афинской государственности: по приговору суда присяжных Сократ в 399 г. до н. э. выпил смертельную чашу цикуты за то, что, по словам официального обвинения, не чтил богов и развращал юношей.
Софисты и Сократ создали философскую антропологию. Диалоги Сократа, искавшего истину в правильности рассуждений, открыли путь формальной логике. Лекции софистов учили мастерскому владению богатством языка и умению пользоваться им в нужный момент. Сократ ничего не писал, и его влияние на литературу сказалось лишь в IV в., софистика, напротив, уже в V в. определяла развитие аттической прозы.
Исходная релятивистская посылка, отрывавшая речь от непосредственного предмета высказывания, позволила софистам построить первую в эллинском мире формальную теорию словесного творчества, которая включила в себя две области – учение о правильном слововыражении (орфоэпию), будущую грамматику, и учение о составлении ораторских речей (риторику). Орфоэпией занимались преимущественно Протагор и Продик: Протагор упорядочил родовые окончания аттического диалекта и ввел классификацию предложений по четырем типам, Продик составил свод синонимов. В риторику же основной вклад внесли Горгий и Фрасимах.
Начало обучения ораторскому искусству и составления соответствующих пособий (руководств) античная традиция связывала с теми судебными процессами, которые сопутствовали падению тирании в Сицилии (467 г. до н. э.). В это же время два сицилийских ритора – Корак и Тисий – выпустили сборник «общих мест» – хрестоматию готовых примеров для заучивания, чтобы вставлять их в произносимую речь, и теоретическое руководство (techne), которое не содержало примеров, но давало рекомендацию относительно самой структуры ораторских выступлений. По всей видимости, образцы речей были подготовлены Кораком, а теоретическое пособие – Тисием.
Это первое обобщение ораторского опыта подчинило ораторскую речь обязательным для всякого художественного произведения требованиям цельности и законченности. Она должна была иметь начало и конец (вступление и заключение), и главная ее часть расчленялась на два четких раздела: повествование, в котором излагались события, и спор, где предлагалось доказательство своего мнения и опровержения противного. Для спора разработан был такой вид аргументации, как доказательство правдоподобия (eikos) поступка, с вероятностью вытекающего из обычных стимулов человеческого поведения – выгоды и природных склонностей.
Построенная таким способом речь могла трогать, убеждать, увлекать слушателей, вполне соответствуя обстановке суда, где не было ни прокурора, ни адвокатов, а исход тяжбы зависел от того, сколь умело говорили перед судьями истец и ответчик. Судей было несколько сот, и этот массовый характер аудитории определял основную линию развития красноречия как словесного искусства: оратор все время искал новые средства эмоциональной экспрессии и черпал их прежде всего в эпической поэзии, которую хорошо знал любой грек.
Поэтическими по своему происхождению были, например, такие ораторские приемы, как повторение общих мест (топосов), кочующих из речи в речь, или этопея (воспроизведение характера) – обрисовка типа, выделяющая лишь общие, характерные для целой категории людей штрихи и опускающая все частное, индивидуальное, – прием, знакомый, по-видимому, уже сицилийской риторике.
Софистическая педагогика превратила эти естественно сложившуюся тенденцию в нормативные правила и тем в огромной мере повысила выразительные возможности ораторской прозы. Горгий и Фрасимах не только продолжили дело Корака и Тисия, составив новый свод образцовых речей и новое руководство, но и существенным образом изменили само звучание ораторской речи, внеся в нее упорядоченную плавность и ритмичность. Существует рассказ, что в 427 г. до н. э. Горгий, выступая в афинском народном собрании как посол сицилийского города Леонтин, поверг своих слушателей в изумление неожиданным благозвучием своей речи, полной аллитераций, ассонансов, повторов, поэтических слов и фигур, антитез и аналогий. Нововведение Горгия заключалось не в придумывании этих приемов – они были хорошо известны задолго до него, – а в той организации словесной ткани, которой он достигал с их помощью. Противопоставление понятий и связанная с этим игра словами превращались у него в членение речи на симметричные отрезки с сознательно подобранной созвучной концовкой. Равновесие частей придавало речи в целом предельную ясность.
Если Горгий ввел фигуры речи (антитезу, равночленность – «исоколон» и созвучие окончаний – «гомойотелевтон»), то Фрасимах «изобрел» период, сложную синтаксическую конструкцию, известную в греческой прозе и до Фрасимаха, но превращенную им в художественное средство, придающее речи ясность, ритмичность и законченность. В софистической прозе период получил членение на отрезки (колоны), в которых естественное дробление речи на такты использовалось для смысловой дифференциации. Колонам придавалось ритмическое строение, они приобретали плавность стихотворной речи, не образуя, однако, в своей совокупности строгой метрической системы стиха. Таким путем вырабатывался особый стиль литературной аттической прозы, средний между выспренным языком поэзии и небрежностью обиходного разговора. Софисты, как никто другой, чувствовали эмоциональную силу искусно оформленной речи. Главным направлением их работы был стилистический эксперимент, проба разных словесных возможностей в обработке одной и той же темы, опыт игры со словом безотносительно к предмету речи. Их лозунгом стало «делать слабый довод сильным и сильный слабым».
Сознание софистов, что они открыли внутри языка новый источник убеждающей энергии, независимой от предмета, о котором говорится, но заключенной в самых словесных приемах, лучше всего выразил Горгий, поместивший в своей речи-образце «Елене» восторженное прославление «обманного слова»: «Слово – властитель великий, а телом малый и незаметный; творит оно божественные деяния, ибо способно бывает и страх пресечь, и горе унять, и радость вселить, и жалость умножить. Я покажу, как это бывает на деле. Видимость – вот что убеждает внемлющих. Поэзию всю я зову и считаю мерной речью. В тех, кто ее слушает, проникла страшная дрожь, многослезная жалость, щемящая тоска; удачи и несчастья чужие душа, подвигнутая словами, переживает как свои собственные. Скажу теперь еще и о другом. При помощи слов боговдохновенные песни – заклинания привлекают наслаждение и отвлекают огорчение. Сила заклинания, соединенная с мнением, душу прельщает, чары же преображают ее. Два дела у колдовства и волшебства: душу оплести, мнение обмануть. Сколькие скольких и во скольком убедили и убеждают лживыми речами! Если бы все обо всем прежнем помнили, о настоящем знали, о будущем догадывались, то не была бы подобна до такого подобия речь у тех, кому теперь трудно вспоминать прошлое, рассматривать настоящее и предрекать грядущее, поэтому большинство людей, рассуждая о большинстве вещей, в душе своей руководствуются мнением. И мнение, само обманчивое и неверное, окружает прибегающих к нему счастием столь же обманчивым и неверным» (8—14).
Софистика создала мастерскую технику использования словесных приемов выразительности – звучания и построения речи и не менее икусную технику объяснения человеческих поступков. Это новое искусство – умение изображать человеческую жизнь в ее жесткой обусловленности свойствами самой этой жизни и описывать ее при помощи специально разработанных приемов речи – определило путь, по которому дошло развитие аттической прозы в V в.
Первые дошедшие до пас прозаические сочинения на аттическом диалекте тесно связаны с событиями афинского полиса и принадлежат последней трети V в., т. е. периоду Пелопоннесской войны, потрясшего всю Грецию грандиозного столкновения Афин и Спарты, которое протекало в постоянном соперничестве демократии и олигархии почти во всех полисах эгейского бассейна, а в самих Афинах сопровождалось двумя олигархическими переворотами (в 411 г. и 404 г.) и завершилось, с одной стороны, утверждением демократии, просуществовавшей здесь вплоть до македонского завоевания, с другой – значительным ослаблением афинского морского могущества.
Самое архаичное из прозаических сочинений на аттическом диалекте – Псевдо-Ксенофонтова «Афинская полития»; политический памфлет неизвестного автора-олигарха (426 г. до н. э.) еще свободен от художественной обработки; связь мыслей выражается здесь еще простым повторением слов; ни выбор, ни расстановка слов не служат еще эстетическим целям. По контрасту с «Афинской политией» остальные произведения аттической прозы (сочинения ораторов Антифонта, Андокида, Лисия, «История» Фукидида) позволяют проследить использование в писательской практике тех новшеств, которые предлагались софистами.
Антифонт, софист и ритор, перенес в прозу традиционную поэтическую тематику печальных раздумий и наставлений по поводу человеческой жизни («О гармонии»); повторяемость одних и тех же слов в речи используется им как средство построения антитез и параллелизмов, при помощи которых создается софистическое противопоставление природных склонностей и установленных человеком обычаев («Об истине»). Антифонт приходит к отрицанию общепринятого разделения людей на народности, провозглашая природное равенство греков и варваров. Концепция постоянной, неизменной природы обусловливает обобщенное изображение человека в речах Антифонта. Принадлежность софистических сочинений и судебных речей, носящих имя Антифонта, одному автору вызывала сомнение. Бесспорной остается только их близкая хронологическая связь и общая софистическая основа. Ораторская деятельность Антифонта относится ко времени после 423 г. до н. э. Помимо подлинных судебных речей, ему принадлежат четыре тетралогии – сборники риторских упражнений, в которых тяжба по вымышленному поводу инсценируется в форме четырех речей – истца и ответчика, их ответных выступлений. Речи строятся по определенному плану: введение, обвинение, рассказ, доказательство, вторичное обвинение, послесловие. Доказательство ведется софистическим методом: раскрывается правдоподобие обвинения. В рассказе главное внимание уделяется обрисовке ситуации события. Описание происшествий приобретает сказочную увлекательность: то это путешествие двух товарищей и таинственная гибель одного из них в дороге, то это злодейское убийство мужа женой и мотив приворотного зелья.

Сократ
Римская копия нач. II в. греческой бронзовой статуи ок. 380 г. до н. э.
Неаполь. Музей. Собрание Фарнезе
Здесь нет еще портретного искусства: облик ответчика так же смутен, как и лицо обвинителя. Из речи в речь почти дословно переходят целые фразы. Вся картина несет черты обобщенного изображения. Приемы выразительности, к которым прибегает при этом Антифонт, показывают его знакомство с софистической техникой слова.
Андокид, знатный афинянин, замешанный в деле о тайных политических обществах (415 г. до н. э., процесс гермакопидов), пытавшийся ценой доноса купить себе безнаказанность и вынужденный уйти в изгнание, использовал уроки софистов главным образом в разработке защитительной аргументации. Две его речи – «О своем возвращении» (411) и «О мистериях» (399) – касались событий 415 г. и строились как самооправдание оратора. Они интересны той интерпретацией, какую получали в них мотивы поступков: донос изображен Андокидом как цена за спасение жизни отца и родственников. Гибель одних уравновешивалась в глазах Андокида сохранением жизни других, и все рассмотрение судебного дела переносилось в этический план. К словесным украшениям Андокид фактически не прибегал.
Намеченное у Антифонта и Андокида использование софистической техники для этического обоснования поступков и обрисовки ситуации действия было доведено до наибольшей полноты двумя другими авторами – Лисием и Фукидидом, которые впервые выступили не как политические деятели, а как профессиональные писатели (Лисий сочинял судебные речи по заказу клиентов, Фукидид составлял летопись Пелопоннесской войны, находясь в изгнании).
Лисий в своих речах дал блестящие образцы бытового повествования и не менее блестящий опыт софистического изображения человека по принципу этопеи. В поступках и высказываниях заурядного афинского обывателя он раскрывает черты гражданина. У Фукидида этот гражданский взгляд на вещи оказался примененным к исследованию судеб общества в целом. Его «История» представляет новую модель исторического процесса, построенную с помощью софистической аргументации и одинаково противостоящую как эпосу, так и геродотовской теодицее.
Лисий (ок. 459—380 гг. до н. э.), лишившийся имущества в период тирании Тридцати, после восстановления демократии вступил на ораторское поприще как обвинитель олигарха Эратосфена, повинного в гибели своего брата (речь XII), и после этого стал профессиональным логографом, составителем речей по заказам тяжущихся. В его речах проходит целая вереница истцов, весьма несходных по своему положению в обществе и по характеру возбуждаемых судебных дел, но имеющих, согласно требованиям этопеи, ряд однородных черт. Каждый выступающий, как правило, заявляет о себе, что он простодушен, неискусен в тяжбах, что он человек честный и порядочный и имеет заслуги перед государством. Этический момент, подчеркнутый в этом типе истца, делается главным предметом обсуждения в речах, посвященных обвинению бывших приверженцев олигархии (речи XII, XIII). Обстоятельства дела рассматриваются сквозь призму нравственных норм справедливости, нарушение которых кладется в основу конфликта обвинителя и подсудимого: «Когда у власти стала коллегия Тридцати (это были негодяи и сикофанты), то они начали толковать о том, что надо очистить государство от преступных элементов, а остальных граждан направить на путь добродетели и справедливости. Так говорили они, но сами так поступать не хотели [...] Феогнид и Писон говорили в совете коллегии Тридцати о метеках, что среди них есть некоторые недовольные конституцией: таким образом, имеется отличный предлог под видом наказания их на самом деле воспользоваться их деньгами [...] Без труда им удалось убедить своих слушателей, для которых убивать людей было нипочем, а грабить деньги было делом желанным [...] Ни малейшей доли нашего имущества они не пощадили, но так жестоко поступали с нами из-за денег, как другие не стали бы поступать в раздражении за обиды, несмотря на то, что мы за свои заслуги перед отечеством достойны были не такого обращения. Мы исполняли все свои обязанности по снаряжению хоров, делали много взносов на военные надобности [...] и вот чем наградили они нас, таких метеков, с которыми нельзя и сравнивать их, граждан» (речь XII, 5—7, 20. Перевод С. И. Соболевского).
Прием антитезы служит основным средством выразительности. Виновность ответчика подчеркивается сопоставлением с той воображаемой линией поведения, которой он должен был следовать. Произволу и доносам противопоставляется гражданское мужество: защита невинно обвиненных, умение предпочесть смерть и идти наперекор приказу властей, когда дело заходит о принципе справедливости. Столкновение истца и ответчика, их социальная вражда осмысливаются у Лисия как конфликт этического порядка, как антагонизм разных линий поведения. И требование приговора преступнику звучит как призыв к гражданам сделать выбор жизненных путей справедливости или насилия. Судебная речь делается формой, в рамках которой поднимаются вопросы жизни и смерти, вопросы ответственности человека за прожитую жизнь. Нравственная антитеза воплощается в контрастных образах доносчика, беспощадного к своим жертвам, не щадящего даже тех, кому он обязан жизнью, и честного гражданина, предпочитающего погибнуть самому, чем губить других (речь XIII). Повествовательная часть судебной речи (диэгеза) превращается в воссоздание всей ситуации событий. Облик персонажей очерчивается их отношением к другим людям, теми фактами, в которых оно проявляется. Впечатление от него усиливается создаваемым эффектом контраста. Факты поведения обобщаются в постоянную черту, рисующую положительный или отрицательный тип человека. Эта типизация толкает Лисия на прямую инвективу, на опорочение противника не просто за разбираемое в суде дело, а за его личную жизнь, за его происхождение. Блестящий пример этому находим в речи XIII («Против Агората»): «[...] люди, стоявшие тогда во главе правления, обращались к Аристофану с предложением оговорить других и через это самому спастись, вместо того, чтобы подвергаться опасности испытать страшные мучения после суда за присвоение гражданских прав. Но он отвечал, что этого никогда не сделает: так он был честен и по отношению к арестованным и по отношению к народу афинскому, что предпочел лучше сам погибнуть, чем своим доносом несправедливо кого-нибудь погубить. Так вот он был каков, хотя ему и грозила смерть от тебя, а ты, не зная никакой вины за теми людьми, но уверенный в том, что в случае их гибели ты будешь иметь участие в учреждавшемся тогда правлении, своим доносом довел до казни многих добрых граждан афинских. Я хочу показать вам, господа судьи, каких людей лишил вас Агорат. Если бы их было немного, то я стал бы говорить о каждом из них в отдельности; теперь же я скажу о них всех зараз. Одни из них были у вас по многу раз стратегами и каждый раз передавали своим преемникам государство увеличенным; другие занимали другие важные должности, были много раз триерархами и никогда не подвергались от вас никакому позорному обвинению. Некоторые из них спаслись и остались живы, хотя их Агорат также хотел погубить и они были осуждены на казнь, но судьба и воля божества сохранила их: они бежали из Афин и, вернувшись из Филы, теперь пользуются вашим уважением как хорошие граждане. Вот каковы эти люди, которых Агорат частью довел до смертной казни, частью заставил бежать из отечества, а кто таков сам он? Надо вам сказать, что раб и происходит от рабов, чтобы вы знали, какой человек вам принес такой вред. У него отец был Евмар, а этот Евмар был рабом Никокла и Антикла [...] Далее, несмотря на такое происхождение свое, он решился заводить незаконные связи и соблазнять свободных жен граждан и был пойман на месте преступления, а за это полагается наказание – смертная казнь» (речь XIII, 60—64. Перевод С. И. Соболевского).








