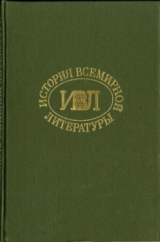
Текст книги "История всемирной литературы Т.1"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 78 страниц)
До нас дошли тексты исполнявшихся тогда песен. Разумеется, это только тексты, т. е. слова песен, поэтому можно судить только об их содержании, да еще, может быть, о метре; что же касается ритмики, то она всецело определялась музыкальной мелодией. Все же, поскольку им затем стали подражать поэты, причем подражать именно словесно-поэтически, их словесная форма имела, видимо, самостоятельное значение. Недаром впоследствии название «Юэфу» стало термином юэфу, обозначавшим определенный вид поэтических произведений.
Известные нам тексты песен юэфу открывают целый мир народной поэзии и имеют значение не меньшее, чем «Шицзин»; тот раскрыл нам древнее народно-поэтическое творчество, этот сборник – творчество более позднее, частично, возможно, и ханьское. Необходимо, конечно, учитывать, что Сыма Сян-жу, записывавший и обрабатывавший тексты песен, тем самым несколько менял их облик; возможно, кое-что он сочинял и сам, но и в этом случае, несомненно, придерживался народных образцов.
В этой поздней народной поэзии очень многое напоминает песни «Шицзина». Так, например, вполне в духе «Шицзина» такая песня:
В пятнадцать лет ушел в поход с войсками,
Лишь в восемьдесят смог домой вернуться.
Крестьянина спросил, войдя в деревню:
«Скажи, кто жив в семье моей остался?» —
«Смотрите сами – дом ваш виден вам».
Могильный холм с рядами кипарисов.
Из лаза пса выскакивает заяц,
Фазан взлетает со стропил прогнивших.
Несеяный горох в подворье вьется,
И овощи колодец оплетают.
Толку горох я, чтобы сделать кашу,
И овощи срываю для приправы.
Отвар и кашу быстро приготовил,
Но для кого? Кто сядет есть со мною?
Из дома выйду, обращусь к востоку,
И слезы горькие с одежды пыль смывают. (Здесь и далее песни юэфу даны в переводе Б. Вахтина)
Но есть и много нового, особенно в области поэзии повествовательной, эпической. Такова, например, прославленная песня «Туты на меже», в которой воспевается Ло-фу, простая девушка из народа, сумевшая отбиться от знатного вельможи, пожелавшего сделать ее своей наложницей. Вот как описывается сама девушка:
Ло-фу искусна в шелководстве
И листья рвет
На тутах, что растут на юге
От городских ворот.
Тесьмою связана корзина —
Шелк голубой.
Надежно сколота корзина
Акации иглой.
На голове узлом прическа
Так хороша!
И серьги жемчугом сияют
В ее ушах...
Увидевший Ло-фу прохожий
Бросает груз,
Глядит и теребит рукою
Колючий ус.
И юноша мечтает с нею
Узнать любовь,
Рисуется, снимая шапку
И надевая вновь...
И вот ее ответ посланцу от вельможи:
Как глуп, хотя богат и знатен,
Вельможа твой!
Есть у богатого вельможи
Своя жена,
Есть у Ло-фу супруг желанный —
Я не одна.
В краю восточном много войска,
И муж мой там.
Он скачет первый, беспощаден
Ко всем врагам.
Как сможете узнать супруга
Среди других?
Его скакун заметен белый
Средь вороных.
Столь же прославлена поэма «Павлины летят на юго-восток», возможно основанная на вполне реальном событии. По крайней мере, так представлено в «предисловии» к ней, вероятно составленном позднее: «В конце Ханьской династии, в годы правления «Созидания мира», госпожа Лю, жена Цзяо Чжун-цина, мелкого чиновника из округа Луцзян, была изгнана его матерью. Она поклялась, что не выйдет замуж, но домашние силой принудили ее к новому браку. Тогда она утопилась в озере. Чжун-цин, услыхав об этом, тоже покончил с собой, повесившись на дереве в саду».
Из этой поэмы приведем только ее конечную строфу:
И обе семьи их хоронят бок о бок...
У Пика Цветов зарыты два гроба.
С востока и с запада – хвойные тени,
А справа и слева – дерево феникс.
Вверху над могилами ветви сошлись,
А листья и хвоя друг с другом сплелись.
В ветвях неразлучные птицы летают,
Что сами себя юань-ян называют.
И друг перед другом поют они даже
Всю ночь напролет до пятой стражи.
Прохожие здесь замедляют шаг,
У бедной вдовы затоскует душа.
Вот нашим потомкам завет непреложный:
Пусть будут они всегда осторожны!
(Перевод Ю. Щуцкого)
Перед нами прошли создатели «золотого века» У-ди – ученый филолог Дун Чжун-шу, поэт Сыма Сян-жу, музыкант Ли Янь-нянь. Несомненную роль в подготовке этого «золотого века» сыграл и принадлежащий к предшествующему поколению поэт и публицист Цзя И. Завершителем же их общего дела является Сыма Цянь.
Сыма Цянь считается историком. Более того – создателем исторической науки в Китае, «китайским Геродотом», как часто именуют его европейские синологи. И действительно, ни один исследователь истории китайской Древности не может обойтись без его труда. Кто же такой этот Сыма Цянь?
Сыма Цянь (145 – ок. 87) был тайши (или тайшилин). Компонент тай в этом названии соответствует нашему понятию «старший», «главный», компонент ши имеет смысл, близкий к слову «писец» в том смысле, в котором историки древнего Египта применяют это слово для обозначения подобных чиновников в правительственном аппарате фараонов. В Китае тайши, главный «писец», если употребить здесь обозначение египтологов, был чем-то вроде хранителя правительственного архива древних актов и всякого рода документов и бумаг. На обязанности тайши лежало и составление календаря, т. е. определение времени с указанием дней счастливых и несчастливых, сроков совершения обрядов и т. п. Тайши и собирал разного рода материалы, и сам вел записи событий и дел.
Такой пост занимал и отец Сыма Цяня – Сыма Тань, начавший тот труд, который закончил его сын. Труд этот назывался тогда «Тай-шицзи» («Записи тайши»); существовали и другие названия, но все они лишь варианты приведенного. Под таким названием он просуществовал до III в. н. э., когда его стали называть короче – «Шицзи», т. е. отбросив в должностном наименовании тайши компонент тай – «старший». Но это было связано с переосмыслением самого слова ши: оно получило значение «история» в нашем смысле этого понятия. С присоединением слова цзи («запись», «записки») оно стало уже значить «история» в смысле исторического труда.
«Исторические записки» Сыма Цяня распадаются на пять больших разделов. Первый (бэньцзи) – «основной», как обозначил его Сыма Цянь, – представляет схематическое изложение царствований от глубокой Древности до Ханьского Гао-цзу; второй (бяо) состоит из хронологических таблиц, относящихся к правлению отдельных правителей со времен Чжоу до начала Империи; третий (шу) перечисляет всякого рода установления, в том числе и календарные, сообщает и о некоторых обычаях, особенно относящихся к культу, а также приводит кое-какие географические и хозяйственные данные; четвертый (шицзя) излагает биографии владетельных особ, к которым приравнен и Конфуций; пятый (лечжуань) – жизнеописания отдельных лиц; в этот же раздел включены и очерки, посвященные народам, обитавшим по границам Китая.
Разумеется, все это материал для историка, и притом поистине драгоценный, так как об очень многом мы не можем судить по другим источникам. И все же, если это и история, то изложенная весьма своеобразно.
Форму, в которую облек свою «историю» Сыма Цянь, впоследствии определили как «хронологически-биографическую», и такое определение хорошо передает сущность этого весьма своеобразного произведения.
Несомненно, что в этом определении основное содержание «Исторических записок» Сыма Цяня связывается с его жизнеописаниями, или биографиями. Таких жизнеописаний у него семьдесят. Но чьи же это жизнеописания? О жизни каких людей Сыма Цянь счел нужным рассказать? О чиновниках, следующих законам, и о жестоких чиновниках, о конфуцианцах, о героях-храбрецах и о льстецах-подхалимах, об острословах-софистах, о гадателях по черепашьим панцирям, о гадателях по стеблям трилистника, о стяжателях-богачах. По таким общим рубрикам и группируются отдельные биографии.
Впрочем, сказать «отдельные» тут нельзя: в «Шицзи» есть действительно жизнеописания отдельных лиц: таковы, например, биографии Шан Яна, упомянутого выше государственного деятеля в царстве Цинь, Ли Сы, министра империи, Цинь Ши-хуанди, Сыма Сян-жу. Кстати говоря, биография Сыма Сян-жу, поэта времен У-ди, т. е. современника Сыма Цяня, свидетельствует, что Сыма Цянь считал необходимым говорить не только о прошлом, но и о настоящем. Однако в большинстве случаев жизнеописания отдельных лиц изложены в групповых очерках, таких, например, как «Бродячие рыцари», «Мстители-убийцы», «Ученики Конфуция»; в таком же общем очерке даны биографии Лао-цзы, Чжуан-цзы, Шэнь Бу-хая и Хань Фэя. Особый тип таких очерков составляют «парные» жизнеописания: Мэн-цзы и Сюнь-цзы, Сунь-цзы и У-цзы, Цюй Юаня и Цзя И и др. Из этих примеров виден и принцип таких соединений: они даны тогда, когда два персонажа можно сопоставить и даже в чем-нибудь противопоставить друг другу, но противопоставить в пределах одной и той же сферы. Мэн-цзы и Сюнь-цзы, как было о них сказано выше, оба в разной мере принадлежат к конфуцианской линии общественной мысли, но резко отличаются друг от друга в исходной позиции: первый исходит из убеждения, что природа человеческая – добро, второй – что она – зло. Сунь-цзы и У-цзы – оба полководцы, оба теоретики военного искусства, но первый считает, что лучше воевать не оружием, а «замыслом», т. е. политическими средствами; второй уверен, что победа достигается хорошим и достаточным вооружением. И Цюй Юань, и Цзя И испытали горечь неудачи: каждого из них постигла опала и изгнание, но Цюй Юань воспринял это как крушение всей жизни, Цзя И же, наоборот, отнесся к удалению от двора как к обретению возможности свободно странствовать по «Девяти областям» и выполнять свое служение стране и ее государю вне «грязного света», т. е. правительственных сфер. Следует сказать, что у Сыма Цяня тоже было свое представление о служении стране и ее государю. Он также испытал горечь неудачи: позволив себе заступиться за одного военачальника, сдавшегося в плен гуннам, Сыма Цянь навлек на себя гнев У-ди и был приговорен к смертной казни, замененной кастрацией и заключением в тюрьму. Обстоятельства дела заставляют думать, что обвинение в заступничестве было лишь предлогом для расправы с историком, критически относившимся ко многим действиям властей. Однако Сыма Цянь не пал духом. Дождавшись освобождения, он сразу же принялся за окончание своего труда.
«Жизнеописания» Сыма Цяня насквозь, как мы сказали бы, беллетристичны. Они не справка о жизни и деятельности какого-либо лица, а рассказ об этой жизни и деятельности. И не только рассказ, но и обрисовка личности человека, о котором идет речь. Видимо, такая обрисовка и составляла главную творческую задачу автора. Во всяком случае, он пускает в ход все средства, чтобы представить человека, о жизни которого он рассказывает, совершенно живым: показывает его говорящим, действующим, рассуждающим, наделяет его эмоциями, выбирает такие ситуации, в которых наиболее ярко могут раскрыться те или иные свойства его личности. Сыма Цянь, однако, такими описательными приемами не ограничивается: он вводит в рассказ и собственную мысль, собственные отношения. Так, например, его биография У-цзы, знаменитого полководца, заканчивается такими словами: «У Ци (т. е. У-цзы) говорил царю У-хоу (на службе у которого он находился), что главная защита государства – добродетели его правителя, а не естественные укрепления, окружающие страну. Однако он бежал в царство Чу и погиб именно потому, что сам был жесток и свиреп. Как жаль!»
Все это делает жизнеописания Сыма Цяня своеобразными новеллами, в которых есть и сюжет, и герой, и авторское отношение к сообщаемому. Следует при этом отметить, что герои у него индивидуально очерчены даже тогда, когда жизнь их дана как бы под знаком их общности с кем-то другим. К сожалению, размеры этих новелл не позволяют проиллюстрировать сказанное примерами. Подтвердим высказанную характеристику «Жизнеописаний» Сыма Цяня лишь впечатлением, какое они производили на одного читателя. Мао Кунь, ученый-филолог и историк Китая второй половины XVI в., писал: «Когда читаешь жизнеописания героев-храбрецов, хочется самому презреть жизнь! Когда читаешь жизнеописания Цюй Юаня и Цзя И, хочется лить слезы! Когда читаешь жизнеописания Чжуан Чжоу и Лу Чжун-ляня, хочется уйти из этого света!» Это впечатления не просто от исторического труда, а прежде всего от литературного произведения.
Выше было сказано, что форма произведения Сыма Цяня хронологически-биографическая. Элемент биографический воплощен в «Жизнеописаниях», составляющих пятый раздел всего труда, элемент хронологический нашел свое выражение в разделах первом и втором.
Хронологический ряд начинается с царства Ся, возникновение которого возводится к 2205 г. до н. э.; далее следует царство Инь, история которого начинается с 1766 г. до н. э., затем – ряд последующих правителей: с 1122 г. – Чжоуских, с 770 г. – отдельных царств; этот ряд доводится, как было сказано, до Гао-цзу, т. е. Лю Бана – основателя ханьской династии. Достаточно уже этого, чтобы оценить степень документальности «Исторических записок» Сыма Цяня. Современная наука начисто отрицает реальность периода так называемой «династии Ся», считает всех этих Яо, Шуня, Юя персонажами не реальными, а легендарными. Это образы древних царей, возникшие в народном воображении и подхваченные затем конфуцианцами, возведшими их в ранг шэнжэнь – царей-мудрецов, совершенных, мудрых правителей. Но для Сыма Цяня историческая реальность этих персонажей была нужна: нужна для того, чтобы установить временные рамки того мира, который он создал.
Да, именно создал! Что он сделал своими жизнеописаниями? Населил мир людьми. И притом, как это требует действительность, людьми всевозможными: тут и правители, тут и чиновники, причем, как всегда бывает, и хорошие, и плохие; тут и полководцы, и народные герои – не то разбойники, не то защитники угнетенных; тут и печальники о своей земле, о своем обществе – «мудрецы» вроде Конфуция, Мэн-цзы; тут и такие оригиналы, как Чжуан-цзы, как «взнуздавший ветер» Ле-цзы; тут и «законники» – создатели специальной «науки управления»; тут и поэты, тут и гадатели и прорицатели, тут и странствующие острословы-софисты, тут и убийцы-злодеи... Словом, все, из которых, по мысли Сыма Цяня, слагается общество. Человеческие типы он показал на избранных, ярких примерах. Причем сделал это как беллетрист: в основу положил какой-то реальный – полностью или частично – материал, реальный, конечно, по его мнению, и на этой основе вылепил соответствующий образ, соединив этот образ с какой-либо ситуацией. Вышеупомянутый Мао Кунь выразил впечатление от силы, с которой Сыма Цянь вылепил своих героев; можно высказать и другое впечатление: какой огромный, сложный мир создал этот автор, какими красочными, яркими, выразительными и беспредельно разными людьми его заселил!
Но Сыма Цянь, как сказано выше, был и специалист по календарной науке: ведь он создал календарь, который долго был в ходу. Поэтому для него такой же реальностью, как человек, было и время. Он не представлял себе человека вне времени, время же – вне человека. Поэтому он и ввел в человеческий мир ось времени.
Но он не мог оторвать этот человеческий мир и от мира природы. Природа же была представлена для него «пятью стихиями» – пятью материальными первоэлементами, мыслимыми в образах земли, дерева, металла, огня, воды. Жизнь природы в связи с этим рисовалась как переход одного первоэлемента в другой. Сыма Цянь распространил этот процесс на жизнь человеческого общества. Она представлялась ему в образе сменяющихся царств: Сюй, Ся, Инь, Чжоу и Цинь. И вот переход от каждого предыдущего к каждому последующему он воспринял как проявление того же вековечного закона круговорота вещества: режим Сюй, «земли», сменился режимом Ся, «дерева», режим Ся – режимом Инь, «металла»; режим Инь – режимом Чжоу, «огня»; последний – режимом Цинь, «воды». С Хань – снова режимом «земли»; начался новый цикл. Так Сыма Цянь изобразил жизнь природы и общества как единый процесс.
Но в этот процесс он внес и чисто человеческую черту, причем черту, присущую не человеку-индивидууму, а обществу. Общество, по его мнению, должно как-то управляться. Так вот, сначала оно управлялось идеей искренности, чистосердечности, т. е. ничем не осложненной человеческой натурой; затем – идеей почитания, направленного на «высших» – богов и правителей; наконец, идеей просвещения, культуры. Процесс общественной жизни и состоит в переходе от одной идеи к другой.
Наконец, последнее: как явствует из изложенного, всю эту картину мира – картину мира в движении – Сыма Цянь целиком построил на человеке, который в разных своих обликах изображен им в жизнеописаниях. Человек, следовательно, и был для него носителем всего бытия.
«Шицзи» Сыма Цяня представляет собой исключительное по форме, содержанию, по силе выражения литературное произведение. В нем – синтез всей Древности, синтез, созданный мощным умом, глубоким знанием, силой творческого воображения.
Разумеется, описанными памятниками не исчерпывается общелитературное наследие поздней поры китайской Древности. Но оно уже явственно распадается на отдельные специальные области. Так, например, «История Хань» («Ханьшу»), написанная Бань Гу (32—92 гг. н. э.), хотя и задумана автором как продолжение «Шицзи» Сыма Цяня, по существу является чисто историческим трудом, пусть и прославленным за свой литературный стиль. Такое сочинение, как и «Луньхэн» («Критические суждения») Ван Чуна (ок. 27—100), получившее также широкую известность, относится отчасти к китайской филологии, отчасти к философии. Короче говоря, со второй половины Ханьского периода истории Китая, т. е. начала I в. н. э., в составе китайской литературы все явственнее и явственнее формируются особые области, каждая со своим самостоятельным обликом. Для последующей истории литературы наибольшее значение имеют здесь те памятники, в которых формируется особый жанр литературного повествования.
Основную массу материала для такого повествования поставил фольклор. С ним мы встречаемся во многих памятниках позднеханьского времени, более всего в таких, как «Шань хай цзин», «Му тянь-цзы чжуань» и «Хань У нэй-чжуань». На них коротко и остановимся.
«Шань хай цзин» («Книга гор и морей»), строго говоря, является сочинением географическим, так как в нем дано описание многих гор и хребтов Китая, сообщается о богатстве их недр, об их животном и растительном мире. Но в такое описание введен и этнографический элемент: сообщаются сведения о населении, о его занятиях, обычаях и верованиях. В сфере таких сведений и появляется фольклорный материал, главным образом в виде мифов и легенд. Так, в этом произведении мы находим свои варианты мифов о горе Куньлунь и о Сиванму «Владычице Запада», с которыми мы уже встречались при описании «Ле-цзы». Гора Куньлунь, разумеется, и тут изображена как волшебное царство – «земная столица Шаньди», т. е. верховного божества; расположена она где-то на самом краю света. Но Сиванму представлена здесь совсем иначе, чем в «Ле-цзы»: там она женщина-красавица, тут – существо с обличьем человека, но с зубами тигра; у нее и хвост такой, как у барса; она не говорит, а как бы свистит. Голова лохматая, но в волосы воткнута большая заколка. Живет это существо в пещере, куда три синие птицы приносят ей пищу, и ведает наказаниями.
В «Шань хай цзине» встречается и свой вариант мифа о Гуне, которому царь-мудрец Яо поручил укротить водную стихию, приостановить разлив рек, оставивший сухими только верхушки гор. Гунь проработал целых десять лет, но ничего сделать не смог, чем и навлек на себя гнев Яо. В «Шань хай цзине» Гунь изображен не человеком, а белым конем; гнев Яо, оказывается, был вызван не неудачей Гуня в выполнении поручения, а тем, что он пытался укротить водную стихию не своим трудом, а волшебным предметом, украденным им у своего повелителя. По повелению Яо Гунь был убит и из его нутра вышел Юй, впоследствии прославленный правитель, совладавший с потопом.
Судя по некоторым подробностям, версии мифов, приведенные в «Шань хай цзине», более раннего происхождения, чем те, которые встречаются в других памятниках, в том числе и в «Ле-цзы», но само это произведение мы знаем только в редакции Лю Сяна, упомянутого выше филолога и литератора.
Еще более разработанный, хотя и более ограниченный по сюжетам фольклорный материал дан в другом произведении, связываемом обычно с именем Лю Аня, хуайнаньского вана. Это был владетельный князь, носивший высший титул вана, внук Лю Бана (Гао-цзу) – основателя ханьского императорского двора, дядя У-ди. С ним мы уже входим в совершенно другую сферу общественного сознания – ту, которую обычно называют сферой даосизма.
С даосизмом мы встретились при описании трех памятников: «Лао-цзы» «Ле-цзы» и «Чжуан-цзы». Эти три произведения составляют триаду классики даосизма. К этому, однако, необходимо добавить: не даосизма вообще, а даосизма философского. Уже в ханьское время даосизмом стало называться нечто другое, не философия, а некий комплекс верований. Специфика этого комплекса в том, что верования сосредоточились на образе, обозначенном словом сянь, этимологически – «горный человек», по смыслу – маг, колдун, кудесник. В таких «магов» превратились те, кого Чжуан-цзы рисовал в качестве образцов «истинного человека» (чжэньжэнь), «высшего человека» (чжи-жэнь), «великого человека» (дажэнь). Можно сказать и обратное: образы кудесников, волшебников, столь типичные для любой мифологии, в философском мышлении предстали как образы людей, достигших высших ступеней познания, духовной свободы и мощи.
Произведение, приписываемое хуайнаньскому вану, так и называется «Хуайнань-цзы». Время его появления установить трудно. Вполне возможно, что оно появилось гораздо позднее, чем жил Лю Ань, но связь его с этим ваном понятна: он был известен своей приверженностью к даосизму в указанном, втором смысле этого слова. Рассказывают, что он собирал у себя целые толпы «даосов», т. е. кудесников, магов, так сказать, бытового плана. Это могли быть отшельники, спасающиеся где-нибудь в глуши гор и занимающиеся там колдовскими опытами; это могли быть искатели всяких волшебных средств, прежде всего лекарства, приносящего долголетие и даже бессмертие; это могли быть и просто знахари, но оперирующие волшебными средствами. Впрочем, сам Лю Ань все-таки стремился оставаться на уровне Лао-цзы и Чжуан-цзы, т. е. мыслить, как философ. Так, он вполне в духе Лао-цзы решал вопрос о существе человеческой природы: «человек рождается и пребывает в покое – в этом состоит его небесная (т. е. естественная) природа». Из этого, по его мнению, следует, что человек должен сохранять прирожденную чистоту, простоту, душевную невозмутимость. Только этим путем он достигает познания Пути, т. е. истины. Однако в книге содержится не столько философский материал даосизма, сколько религиозный, представленный мифами и легендами. Так, мы находим там свою версию мифа о Нюй-ва, деве, унаследовавшей престол после смерти брата. Она имела тело змеи, голову быка. В конце ее царствования Гун-гун, бывший первым министром во время правления ее брата Тайхао, поднял бунт. В происшедшем сражении он был убит, но, падая, ударился головой о гору Бучжоу, вследствие чего рухнули столбы, поддерживавшие небесный свод, и обвалился один из краев земли. Нюй-ва постаралась восстановить разрушенное: растопив в огне пятицветные камни, она залила ими отверстия, образовавшиеся в небесном своде; отрубила ноги у чудовищной черепахи и поддержала ими края земли; собрала пепел сожженных тростников и соорудила из них плотины, сдерживавшие напор воды. Так был снова наведен порядок в этом мире.
Третьим произведением такого же плана является «Му тянь-цзы чжуань» («Предание о Му сыне Неба»). С этим Му тянь-цзы, или иначе Му-ваном, мы уже встречались при описании «Ле-цзы». Как и в том памятнике, рассказывается о путешествии Му-вана в далекую волшебную страну, которой управляет Сиванму, «Мать – Владычица Запада»; рассказывается, как они там пировали, пели песни, веселились. Сиванму в этом памятнике уже не чудовище, а красавица. Существуют разные мнения, кто был автором этого произведения и когда оно появилось. Не исключено, что оно уже принадлежит Средневековью.
Столь же позднего происхождения, вероятно, и еще одно произведение, о котором следует упомянуть, – «Хань У нэйчжуань» – «Секретное предание о Ханьском У», т. е. об императоре У-ди. «Секретное предание» (нэйчжуань) в подобных случаях означает не более, чем, так сказать, «личную» биографию У-ди, т. е. биографию его не как императора, а как человека. Это произведение также полно кудесниками, магами, чудесами, всяким волшебством. Оно показательно с двух точек зрения: во-первых, оно своеобразно подтверждает известный из других источников факт пристрастия У-ди к даосизму, хотя именно при нем конфуцианство было возведено в ранг официальной идеологии; во-вторых, оно свидетельствует, что и такой вполне реальный человек, как У-ди, может стать персонажем легенды.
*
Читая о заключительной фазе развития литературы третьего, позднего периода китайской Древности, читатель, знакомый с литературой такого же периода европейской Древности, вероятно, почувствовал дыхание пробуждающегося к жизни Средневековья.
Как было отмечено выше, весь третий период истории больших литератур Древности, таких, как китайская и греко-римская, представляет собой эпоху перехода от Древности к Средневековью, но с особенной ясностью этот переходный характер проявляется на последнем этапе этого периода.
Конечно, где кончается Древность и где начинается Средневековье, сказать трудно. Определить это трудно даже в социально-экономической области. Тем более сказать этого нельзя в сфере культуры духовной. Древность как бы постепенно врастает в Средневековье. Средневековье как бы постепенно вырастает из Древности. В истории китайской литературы это можно увидеть вполне наглядно на трех примерах.
Вспомним юэфу – ту народную поэзию, которая во II в. до н. э. вошла в литературу и обусловила появление нового поэтического жанра, жанра, породившего и свою поэтику. Но в том собрании песен «Юэфу», которое было составлено в XI в. и дошло до нас, соединены ханьские юэфу и юэфу времен Лючао, т. е. раннего Средневековья в истории Китая. И провести между ними абсолютную поэтическую грань нельзя.
Второй пример – «История Хань» Бань Гу. Автор хотел этим своим трудом продолжить работу своего великого предшественника Сыма Цяня и кое-что у него действительно заимствовал. И в то же время у него получилось нечто совсем другое: «История Хань» уже выходит из сферы литературы, в которой целиком живут «Исторические записки» Сыма Цяня, и переходит в сферу историографии, начав тем самым длинный ряд так называемых «династийных историй», близких к хроникам – жанру, столь характерному именно для Средневековья.
Пример третий – фольклор, в классический период Древности проникавший в литературу только отдельными своими пластами, в период поздней Древности стал постепенно пронизывать всю литературу, способствуя появлению в ней новых видов и форм, с тем чтобы в Средние века уже стать главной материальной основой новых литературных жанров.
Приближение Средневековья ощущается и в изменении духовной атмосферы эпохи: на место философии – конфуцианской или лаочжуанской, т. е. представленной идеями, развитыми в «Лао-цзы» и «Чжуан-цзы», – вступает религия в облике даосизма. Религия вступает как сила, владеющая сознанием народных масс, как их философия и мораль, и быстро укрепляет свои позиции. Уходящий мир пытается сопротивляться либо оружием рационалистической этики – конфуцианской в Китае, стоической – в Греции, либо оружием материализма, как это пытался сделать Ван Чун в Китае или некоторые философы позднего периода в Греции, но в конце концов и тем и другим пришлось либо полностью сдать свои позиции, либо перевооружиться, вступив на тот же путь, что и религия. Так, в Греции платонизм превратился в неоплатонизм, в Китае лаочжуанизм – в даосизм. А помимо этого, на горизонте уже обрисовывались контуры новой силы: зарождалась эра христианства на Западе, буддизма во всей Центральной и Восточной Азии.
В такой атмосфере и совершился в Китае переход к особому, глубоко своеобразному миру феодального Средневековья.
*ГЛАВА 2.*
ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА(П. А. Гринцер)
ВВЕДЕНИЕ Древнеиндийская литература – понятие более широкое и сложное, чем просто литература индийской Древности. Будучи едва ли не ровесницей ранних литератур Ближнего Востока, древняя по типу литература Индии (а именно в таком типологическом значении мы и пользуемся по преимуществу термином «древнеиндийская») продолжала успешно развиваться вне рамок Древнего мира. Расцвет древнеиндийской драмы, лирической поэзии, прозы, активное взаимодействие древней литературной традиции с литературами, возникающими на новых индийских языках, приходятся уже на I тыс. н. э., даже на вторую его половину. И где бы ни проводить нижнюю границу древнеиндийской литературы – в VI, IX или XII вв. н. э. (здесь существуют разные точки зрения, и каждая имеет свои достоинства и недостатки), – ясно одно: она проходит далеко за хронологическими границами настоящего тома. Нам предстоит поэтому рассмотреть здесь лишь раннюю эпоху древнеиндийской литературы, условно ограниченную первыми веками нашей эры, – эпоху, которая была ознаменована созданием обширных религиозных сводов и древнего эпоса и в которую, несмотря на очевидные следы существования письменности, основной формой бытования литературных текстов была их устная циркуляция, передача по памяти.
Однако сложность понятия «древнеиндийская литература» связана не только с неопределенностью и протяженностью ее хронологических границ. Сложность эта обусловлена и тем, что древнеиндийская литература крайне неоднородна по своему составу и происхождению.
Долгое время считалось, что ее творцами были исключительно арии, восточные группы индоевропейских племен, проникшие на территорию современной Индии во II тыс. до н. э. Однако такая точка зрения оказалась несостоятельной.
Стало очевидным, что древнеиндийская культура, а следовательно, и литература возникли в результате синтеза наследий различных племен и народов: арийских, дравидийских, мунда, населения долины Инда III тыс. до н. э.; нельзя было не заметить также, что параллельно с литературой на индоевропейских языках уже в начале I тыс. н. э. на юге Индии существовала развитая дравидская (тамильская) литература. И наконец, точное определение объема древнеиндийской литературы требовало учета того обстоятельства, что даже в традиционных ее границах (т. е. исключая литературу на тамильском языке) мы имеем дело с произведениями, созданными на нескольких языках.








