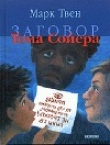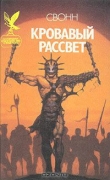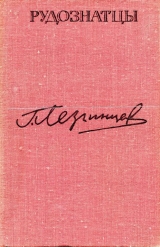
Текст книги "Рудознатцы"
Автор книги: Георгий Лезгинцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Степанов отодвинул от себя папку с докладом и, волнуясь, начал:
– Я поставлен в трудное положение… Обычно докладчик говорит о перевыполнении плана, перечисляет премии и награды, присужденные коллективу, и под конец, когда истекает регламент, бросает два-три слова о недостатках, на них всегда не хватает времени… Удовлетворяет ли меня работа комбината? Нет! Почему? Все еще низок, по сравнению с зарубежными фабриками, процент извлечения золота. Плохо используется богатая техника. У нас подчас нарушаются правила техники безопасности. Правда, в последнее время положение резко улучшилось, но еще многое предстоит сделать и в новых условиях… Есть случаи пьянки, прогулов… Ответ на второй вопрос напрашивается сам: руковожу плохо. – Степанов замолчал, ожидая вопросов.
– Тактика, ничего не скажешь, – криво усмехнулся Кусков.
– О людях мало заботитесь, товарищ Степанов, – сказал председатель облисполкома. – Долго строили, а построив новое помещение для столовой на обогатительной фабрике, как использовали?.. А ведь в старой столовой теснота, рабочие не успевают пообедать!
– Министерство продолжает менять планы. Пришлось временно занять помещение под фабричные нужды. Все подчиняем производству, – ответил Степанов, взглянув на Рудакова.
– У нас производство расширяется не ради производства, а ради блага человека, – заметил Попов.
Рудаков внимательно изучал членов бюро обкома: ведь ему предстояло работать с ними. У него уже сложилось мнение о Кускове – этот сухарь случайно попал на партийную работу. Заинтересовал Сергея Ивановича Попов, человек с трудной судьбой. Сергей Иванович узнал, что десятилетним мальчонкой Попов покинул нищий крестьянский двор отца: нужно было самому добывать пропитание, чтобы не протянуть ноги. Подпасок, дорожный рабочий, слесарь, боец Красной Армии в гражданскую войну, комсомолец, трижды раненный, награжденный за храбрость личным оружием… Потом – рабфак, в ленинский призыв передача из комсомола в партию, двадцатитысячник, партийная работа на столичном заводе. По мобилизации ЦК ВКП(б) Попова направляют в Забайкалье, где он руководит крупным партийным комитетом, затем в Ленинграде возглавляет райком. А в 1935 году его арестовывают, как врага народа. Два года ожидания в тюрьме, когда он прислушивался к каждому шороху за дверью. И лагерь. Потом реабилитация. Опять завод, опять война, опять ранения. Всегда он жил для людей… Сотрудники любили его за человечность, обращались к нему как к отцу родному.
– Недавно, – продолжал Попов, – я по поручению обкома проверял жалобу, был у вас на комбинате и не смог попасть к вам на прием. Вопрос-то невелик: о квартире пенсионеру, проработавшему четверть века на золотых приисках. А ведь не решен до сих пор. Это как понять? Мировых масштабов достигли, как говорят – бога за бороду схватили, так нечего церемониться с «винтиками»?..
– Пенсионер этот ни дня у нас не работал, а с жильем пока туго. Я не знал, что были вы, секретарь не доложила, – смущенно оправдывался Степанов.
– А я не назвался, пытался пройти в общем порядке… Один раз вы заседали, в другой – совещались да еще куда-то выезжали с комбината…
– Вызывают каждый день. И обязательно – директора, любой инструктор обижается, если к нему приедет не директор. Прямо кровная обида! А от этого страдает дело, – вздохнул Степанов.
– В том-то наша и беда: утрясаем, обсуждаем, ставим вопросы… а вот проявить о человеке заботу… порою недостает времени! Я столкнулся на комбинате с равнодушием ряда руководителей. А инженер, работающий спустя рукава, подчас наносит нам вред, который невозможно даже подсчитать. Конечно, за все это нужно спрашивать, Сергей Иванович, и с партийного комитета, не только с директора, – закончил Попов и тяжело, о присвистом закашлялся.
Рудаков вглядывался в лица присутствующих: все внимательно слушали, забыв о духоте, о времени. И пожалуй, внимательнее всех слушал Знаменский. Рудаков поймал себя на том, что все время почему-то наблюдает именно за ним. Знаменский для Сергея Ивановича оставался еще загадкой. Сейчас Сергей Иванович видел перед собою его лысую, яйцевидную голову с редким белым пушком, посаженную на длинную морщинистую шею, которая все время поворачивалась то вправо, то влево, словно у попавшего в туман гусака.
И вот Знаменский поднялся, заговорил:
– Товарищ Степанов в своем докладе, если это можно назвать докладом, пытался убедить нас, что для выполнения плана хороши все средства, включая разорение рабочей столовой. А по-моему, за этой якобы мелочью, каковой считает ее, по-видимому, директор, встает крупная проблема: выполнять план любыми средствами или только рациональными? Товарищ Степанов говорил, что по валовой продукции комбинат всегда выполнял план. Но бывали месяцы, когда план по золоту не дотягивали и валовка выполнялась за счет подсобных цехов – например, лесозаготовок. Валовка – ширма для нерадивых.
– План всегда считался и считается сейчас по валовой продукции, – бросил реплику Степанов.
– И очень плохо! – воскликнул Знаменский. – Комитет партгосконтроля проверил, сколько на вашем комбинате работают буровые станки, экскаваторы, бульдозеры. Всего десять часов в сутки! А вы каждый год составляете заявки на новые импортные станки! Что Плюшкин: он собирал старые подошвы, бабьи тряпки, железные гвозди и глиняные черепки… а вы беспардонно обираете государственную казну! Как вы можете спать спокойно? Или партийная совесть с вами только с девяти утра и до пяти вечера?..
Степанов, опустив голову, вычерчивал шариковой ручкой какую-то замысловатую геометрическую фигуру на одном из листков своего доклада. Ему не нравилось выступление Знаменского, оно было претенциозным, чувствовалось желание «заработать капитал», но многое из того, о чем говорил Знаменский, заставляло задуматься.
И Степанов думал о том, что еще недавно он ничего не знал, кроме процентов выполнения плана! Процентами оценивало начальство его работу, по процентам мерил он и своих подчиненных. Процент был идол, ему поклонялись. Теперь все меняется. Партийные органы интересуются природой каждой, цифры, спрашивают: почему она такая, а не другая, почему так, а не эдак? На все эти «почему» ответить трудно. Степанов признавался себе, что ему чего-то не хватает как руководителю, что-то теперь нужно менять и в себе, а что – он пока не представлял этого ясно.
– Что скажет секретарь парткома?
Столбов поднялся. Помолчал, собирался с мыслями.
– Скрывать не буду: еще недавно выколачивали план любыми средствами. Потому что только процентами совнархоз оценивал работу комбината. Мы больше штурмовали, чем работали с людьми. Новая реформа заставляет и партком разворачиваться, налегать на воспитание людей в борьбе за коммунистический труд. Все вопросы жизни рабочего человека теперь обсуждаются сообща в бригадах: уволить с работы, наказать ли за провинность, премировать за доброе дело, как устранить брак, бесхозяйственность. Обсуждаем сообща, почему понравилась книга или музыка, помогаем в учебе друг другу. К примеру, нанимается к нам человек – перед всей бригадой рассказывает о себе, о семье, о прошлой жизни, ну, бригада и решает, оказать ли доверие человеку, просить за него начальство или не стоит. Словом, один за всех и все за одного. С начальства стали спрашивать строже. Бывший начальник обогатительной фабрики Иванов в своей конторке либо спал, либо шумел непотребно. А в речи его всего два слова, повторенные тысячу раз: «я» да «я», «давай!» да «давай!». Собрали мы партком, ребята у нас правильные, отлупили его запросто, все черным по белому расписали, у этого попугая перья повыдергали и к флотмашине поставили, там дремать не станешь, – широко улыбаясь, рассказывал Столбов.
В комнате повеселело, Кусков громко бросил:
– Молодцы! Вот что значит партийные работники!
Рудаков не оставил без внимания эту реплику:
– Не нужно, товарищ Кусков, противопоставлять партийных работников хозяйственным, советским и другим. Нет такой у нас пожизненной специальности «партийный работник»: сегодня тебя избрали в партийный орган – ты партийный работник, а завтра в советский – ты советский работник. Все мы работники партии, партия руководит всем, она за все в ответе… А вот расскажите, товарищ Столбов, какие это такие у вас новые формы товарищеского суда появились?
– Самосуд, – бросил Знаменский.
Кусков согласно качнул головой.
– Наша недоработка: не до всего руки доходят, – уклончиво ответил Столбов.
Теперь решил выступить Пихтачев:
– Я без дипломатии скажу. Законы наши против пьяниц и бездельников никудышные. Прогульщика надобно под зад коленкой, а суд с профсоюзом велят его, как в детсаду, воспитывать и поучать: пить, дяденька, плохо, а работать – хорошо. Когда без счета работали, мы терпели такое вежливое отношение, а теперь не можем – экономика не велит, ясно? Старая байка «золото мыть – голосом выть» устарела. Нам велят принять Варфоломея, а мы решили взад пятки не ходить. А что на тачке в разрез вывезли, не урон ему, а польза – пополоскал одежонку.
– Нужно наказать Пихтачева за одни такие разговоры! – возмутился Кусков.
– Известно – покатись под откос, а за пеньками дело не станет, – огрызнулся Павел Алексеевич и сел на стул.
– Товарищ Пихтачев, с партийными органами следует разговаривать на «вы», – назидательно заметил Кусков.
– Понимаем, нам тоже не два по третьему годку, – буркнул Пихтачев.
– Эх, Павел Алексеевич, давно тебя знаю, а смотрю – все такой же партизан… – Рудаков покачал головой.
В разговор вмешался Попов:
– По закону – незаконно, а по-человечески их можно понять. Нахлебников кормить кому охота!
Рудаков задумался. По форме следует в протоколе заседания бюро обкома обсудить факт самосуда, предложить наказать виновных, устроить обсуждение на парткоме комбината… Но он решил иначе. Обратись к Степанову и Столбову, сказал:
– Отрегулируйте вместе с райкомом партии этот конфликт на месте и впредь не допускайте подобных глупостей!
– Сергей Иванович, следует записать в протокол заседания бюро, дать оценку и наказать виновных! – предложил Знаменский.
– Не всякий раз, увидев метлу, надо искать ведьму, – заметил Рудаков.
Все рассмеялись, и лишь Кусков, видимо, боясь, что ему когда-нибудь, где-нибудь, кем-нибудь может быть предъявлено обвинение в либерализме, возразил:
– Местная партийная организация не поймет нас.
– Наши коммунисты поймут, что им оказано доверие самим решать подобные дела, – заметил Столбов.
– И все же я остаюсь при своем мнении, – заявил Кусков.
– Понятно. Кто еще возражает? – спросил Рудаков и посмотрел на Знаменского.
– Я снимаю свое предложение, – ответил тот.
– Теперь о резолюции, что подготовил наш промышленный отдел. Ее следует переработать: не громить, а помочь руднику, отметить положительные итоги экономического эксперимента. В связи с этими итогами ряд вопросов нужно записать в адрес министерства, поставить перед ЦК – это должен сделать обком, мы с вами. Согласны?
Члены бюро поддержали Рудакова. Но Кусков уточнил:
– А как с взысканием Степанову? Он же директор.
Рудаков невольно вспомнил о Северцеве… Это Кусков виноват в том, что того выжили из области. Деловую принципиальность Северцева Кусков, как говорили, почему-то принимал за личное неуважение к своей персоне и бесконечно придирался к нему, укоряя даже в моральной неустойчивости, разводе с женой и связи с другой женщиной. «Зря потеряли ценного работника…» – с горечью подумал Рудаков.
– Партбилет у всех одного размера. Что вы предлагаете?
– Ну, выговор… Можно без занесения в учетную карточку, но записать нужно: ведь товарищ Степанов сам признался, что руководит комбинатом плохо, одним планом занимается.
Рудаков пожал плечами.
– Наше поколение всю жизнь боролось за план… – возбужденно заговорил он. – Мы были счастливы, когда он выполнялся! Боялись, когда он срывался. С меня спрашивали план, и я требовал: кровь из носу, а чтобы план был!.. Мы воспитывались на директивном «даешь план!», и у нас не было времени подумать: как даем?.. Сейчас наша жизнь во многом изменилась. Команда уступает место расчету. Мы стали по-хозяйски заниматься и техникой, и экономикой… Мы долго не доверяли друг другу, мы даже не доверяли самим себе. Старые привычки живучи, они сидят в нас, их нужно преодолевать. Но только не выговорами! Новые времена – новые песни. Этим песням надо учиться! А критиканством, заклинаниями экономику не сдвинуть…
Степанов вышел с заседания по-хорошему растревоженный, он понял: ожидают, что он будет работать лучше, чем до сих пор…
Пихтачев воспринял решение бюро обкома по-своему.
– Откричались от партийного начальства – и по домам! – объявил он.
Столбов показал ему кулак, но Пихтачев быстро нашелся:
– Не шебарши, паря! Лучше покажи его, кулак-то свой, этому, босому на голову…
Открылась дверь. Сергей Иванович, натягивая на плечи пальто, заканчивал какой-то разговор с Поповым. Оба выглядели озабоченными.
– Виталий Петрович, – на ходу обратился Рудаков к Степанову, – должен извиниться перед тобой! Думал пригласить после бюро к себе на чаек, но придется перенести встречу: едем вместе с председателем облисполкома на завод горного оборудования. Там какая-то авария…
– Хочу поблагодарить тебя: если бы не ты, была бы мне прописана ижица, то есть резолюция, – сказал Степанов, пожимая руку Рудакову.
– Разве в ней дело? Знаешь, что сказал о резолюциях Маяковский? Резолюция – что покойник: пока выносят – все волнуются, а вынесут – все забудут. Будь здоров, не исчезай надолго! – Уже с порога Рудаков помахал ему рукой.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
1
Михаил Васильевич лежал в одноместной палате, окно которой выходило в старый больничный сад, и смотрел, как раскачиваются голые ветви толстой березы, роняя на ветру снежные пушинки. Медленно перевел взгляд на забинтованную левую руку. Шевельнул ею и поморщился – обожженная рука отозвалась резкой болью.
Он все не мог привыкнуть к мысли, что он в московской больнице, что рядом с ним на стуле дремлет его бывшая жена Анна, что он, как утверждает доктор, чудом остался жив… Сколько времени он здесь – час, сутки, месяц, год?
Анна всхрапнула, испуганно открыла глаза и, поспешно схватив с белого столика склянку, стала капать в стаканчик желтую микстуру.
– Прими, Миша, уже время, – передавая стаканчик, попросила она.
Северцев выпил лекарство и закрыл глаза.
Мысленно он видел приоткрытый рот дремавшей Анны, бороздки морщин на ее одутловатом лице, выбившиеся из-под белой косынки седые пряди волос, покрашенных в рыжий цвет.
Чем-то она раздражала его, он чувствовал облегчение, когда оставался один.
Анна громко вздохнула и прошептала:
– Доктор сказала мне, что дело идет на поправку, через месяц отпустят тебя. Я увезу тебя в старый дом, а твою однокомнатную квартиру отдадим Виктору. Нечего тратить ему деньги на комнату. – Она протянула руку и погладила Михаила Васильевича по голове. – Горемыка мой!.. Почти десять лет по ее милости бродяжил… а теперь чуть совсем не отдал богу душу!..
– Оставь в покое хоть память о ней, – тихо попросил Северцев.
– Нет ее, а все равно ненавижу… – начала было Анна, но осеклась: в дверях показался белый халат.
– Как самочувствие? – спросила маленькая женщина в белом халате.
Она была без косынки, густые черные волосы спадали на глаза. Вошла, склонив голову – то ли в задумчивости, то ли по привычке.
– Хорошее, – ответил Северцев.
Она посмотрела на него спокойными карими глазами, и Северцеву стало как-то тепло от их ясной, доверчивой чистоты. Приветливо кивнув головой Анне, врач устало опустилась на стул около кровати и, взяв здоровую руку больного, стала прощупывать пульс.
– Елена Андреевна, я достала новое лекарство! – протягивая коробочку, сказала Анна.
Елена Андреевна повертела коробочку в руке и отдала Анне.
– Часто новое – это просто забытое старое. Например, модное теперь иглоукалывание было известно тибетцам много тысяч лет назад…
– Устали?.. Сестра говорила, что вы делали очень сложную операцию!
Елена Андреевна отпустила руку Северцева и, как бы говоря сама с собой, ответила:
– Людей лишают жизни по-разному. Бандит убивает из-за денег, ревнивец убивает, сходя с ума, шофер – случайно… А что делают хирурги? Борются за жизнь человека, но не всегда умело… Хирург должен быть великим мастером. Но чтобы научиться мастерству, нужна практика. Испорченные во время этой практики вещи – люди… – с горечью добавила она. – Сейчас мне хочется сбросить этот халат и больше никогда не переступать порога операционной… – И резко перевела разговор: – У вас все нормально, скоро начнем учиться ходить…
Не успела уйти Елена Андреевна, как в дверь постучали.
– Можно к вам? – услышал Северцев знакомый голос. В дверях стояли Виктор и Виталий Петрович Степанов.
Виктор поцеловал мать, подошел к отцу, легонько пожал здоровую руку. Виталий Петрович поставил у кровати сумку с апельсинами, на столик – круглую коробку с тортом.
– Ничего, паря, бравенький, – глядя на больного, изрек Степанов.
– Спасибо, что решили навестить! Ты, Виталий Петрович, когда с Кварцевого? – спросил Северцев.
– Только что с аэродрома, прилетел в Москву за песнями. Точнее – ругаться по поводу административных восторгов главка. – Степанов сел на стул, достал пачку сигарет и, вспомнив, где он находится, поспешно спрятал ее в карман. – Кварцевому, как и третьему комбинату, в начале года министерство установило одинаковые плановые прибыли. Мы их значительно перекрыли, за счет внеплановых прибылей удвоили фонд предприятий. Хорошо? Вдруг на днях узнаю: нам задним числом вдвое увеличили плановые прибыли, соответственно, сам понимаешь, сократился наш фонд. Куда же ушли, ты спросишь, наши денежки? На третий комбинат: ему уменьшили за наш счет отчисления в государственный бюджет. Ловко? Видал фокус-мокус? Деньги наши – стали ваши, – гремел Степанов.
Анна попросила его разговаривать, учитывая больничный режим, потише.
– Все еще наваливают на тех, кто везет, а не на тех, кто путает постромки. Нерадивых пристяжных ставят в лучшие экономические условия, чем коренников! – продолжал возмущаться Степанов.
Северцев понимающе качнул головой и добавил:
– Опять пытаются водить предприятие на сворках главка, райфинотдела и прочая и прочая. По-моему, потому, что не доверяют руководителю, партийной, профсоюзной организациям. – Он тяжело вздохнул, вспомнив стычку с Филиным.
Степанов сообщил новость: летит в Англию, на Международный горный конгресс, и посетовал на болезнь Северцева – полетели бы вместе. Потом собрался уходить, пожелал Северцеву скорейшего выздоровления. О размолвках у Светланы с Виктором не обронил ни слова. И ушел устраиваться в гостиницу.
Анна вопросительно взглянула на сына:
– В квартире все в порядке?
– Да, я навещаю через день, – ответил Виктор, присаживаясь на кровать.
– Опять с женой повздорили? – с притворным осуждением предположила Анна.
– Что нового в институте? – спросил Михаил Васильевич.
– Все по-старому. Ждут тебя, просили передать приветы. У меня тоже по-прежнему: увлекаюсь подводной добычей, – сдержанно ответил Виктор.
– У вас со Светланой нелады?
– А у кого их нет… У вас, что ли, было лучше?.. Ей, видите ли, не нравится наша московская жизнь, хочется уехать в Сибирь!
– Вот уж, как говорится, скатертью дорожка! – вырвалось у Анны.
Виктор неприязненно посмотрел на нее.
– Мама, хватит тебе изводить Светланку… Она моя жена. Я люблю ее.
– Конечно! Любовь… Ночная кукушка всегда дневную перекукует. А тут еще ребеночек будет… – не унималась Анна.
– Успокойся, его не будет, – резко сказал Виктор.
Михаил Васильевич слушал, еле сдерживаясь. Разрядил нараставшее напряжение Виктор.
– Мне пора, – взглянув на часы, сказал он. – Светлана просила прийти сегодня домой пораньше.
Северцев уловил, как ему показалось, фальшь в словах сына и подумал, что идет он совсем не к Светлане, а к той женщине, которая, возможно, встала между ними: Светлана как-то намекнула на то, что у Виктора кто-то есть…
Анна вышла проводить сына.
Оставшись один, Михаил Васильевич с облегчением вздохнул. Его утомил разговор, хотелось забыться. Он закрыл глаза и слышал отдаленный благовест, проникающий в открытую форточку.
Ожили в памяти картины далекого детства, субботние всенощные, с которых он удирал играть с ребятишками в бабки, на паперти храма, за что и получал выволочку от своей богомольной бабушки… Что только не вспоминается в больнице!
После ужина зашла Елена Андреевна, – как она выразилась, «на огонек». Северцев угощал ее тортом, апельсинами. Она отказалась. Видно было, как она нервничает, – сегодня очень тяжелый день: только что умер еще один больной. Она подошла к окну, приоткрыла форточку и закурила.
– Многие сожалеют о том, что не успели сделать в жизни, а я сожалею о том, что сделала…
Она затянулась несколько раз сигареткой.
– Жизнь и смерть. Сколько стоит за этими извечными словами… – выдыхая в форточку дым, говорила она. – Поэты и ученые пишут и будут писать об этом всегда… А по утверждению моего знакомого профессора, все куда как просто: живые системы отличаются от мертвых только сложностью. Наши земные живые существа построены из белковых тел. Из них созданы структуры, способные к саморегулированию, причем на разных этапах сложности. Микроб усваивает азот из воздуха. Червяк воспринимает самые простые воздействия, и его поведение ограничено несколькими типичными движениями. Это – как информация, которую он отдает вовне. Человек же способен воспринять и запомнить огромное множество внешних влияний. Его движения крайне разнообразны. Но это только машина, которая работает по очень сложным программам. Когда-то это звучало кощунством, потому что люди умели делать лишь совсем простые вещи, которые не шли ни в какое сравнение с тем, что создала природа. Теперь все изменилось, или, вернее, будет все больше и больше изменяться. Недалеко то время, когда человек создаст сложные электронные машины, способные смоделировать жизнь.
Северцев слушал внимательно, но при последних словах Елены Андреевны протестующе вытянул руку.
– Да, да, жизнь, дорогой Михаил Васильевич! Мой профессор утверждает, что они будут думать, чувствовать, двигаться. Они смогут понимать и писать стихи. Разве их нельзя назвать живыми?.. Неважно, из каких элементов построена сложная система – из белковых молекул или полупроводниковых элементов. Дома строят из разных материалов, а функция их одна и та же…
– Все, что вы говорите, Елена Андреевна, я и сейчас воспринимаю как кощунство, – не стерпел Северцев.
– Откровенно говоря, меня тоже не устраивает такая перспектива рода человеческого… – засмеялась она. – Но, может, тогда все станет проще?..
– Вслушиваясь в то, что занимает ваши мысли, я думаю, что вы просто-напросто отчаянно устали. Шли бы вы домой, к Василию Павловичу!.. Ничего здесь не случится за ночь.
– Василия Павловича сейчас нет в Москве. Мы видимся редко… Телеграмма и та для меня праздник. – И вдруг Елена Андреевна спросила: – Из больницы вы вернетесь в Сокольники, правда?
– А вы разве в адвокатах у Анны?
Вошла сестра и тихо сказала:
– Доктор Георгиева, скорее в пятую палату, к Яблоковой!.. Прошу вас, пожалуйста, поторопитесь!.. – И выбежала из комнаты.
Северцев устало опустил веки. Но уснуть он не смог. И снова открыл глаза.
Окна большого дома напротив раскрашивали облицованный белой плиткой фасад розовыми, голубыми, желтыми огоньками. Они появлялись и исчезали, рисуя на доме, как на огромном электрическом табло, то гигантскую, от первого до десятого этажа, латинскую букву «L», то русские «К» и «П», то шахматную доску… Северцев уже научился по этим световым комбинациям приблизительно узнавать время.
«Одиннадцать. Пора спать. Пора спать».
2
Виктор сказал отцу правду. Он шел к Светлане. Сегодня предстояло неприятное объяснение.
Рита мстила ему за разрыв: узнав его новый адрес, писала письма, которые попадали в руки Светланы. Светлана их никогда не распечатывала, передавала ему. Виктор тоже не читал этих писем, тут же рвал их и бросал в мусоропровод. Светлана ни о чем его не спрашивала. И только сегодня, позвонив ему на работу, взволнованно попросила оградить ее теперь уже от наглых телефонных звонков его бывшей возлюбленной… Виктор не знал, что ему делать, как убедить Риту, чтобы она не мешала им жить… Встретиться с ней, попытаться усовестить? Вряд ли это остановит ее… Уехать со Светкой на Кварцевый, поставив тем самым крест на своей научной карьере?.. Он чувствовал: его нерешительность может дорого ему стоить, он потеряет Светланку… Он знал, что просыпался утром, чтобы увидеть ее, услышать ее голос, погладить ее шелковые волосы, понять – в который и который раз, вчера, сегодня, завтра, всякий раз с новой силой, – какое это счастье, когда она рядом!..
Виктор с тяжелым чувством вины вспомнил, что после безобразной сцены, которую устроила из-за прописки Светланы на их площади его мать, он не будет сейчас отцом…
Недавно Виктор со Светланой сняли комнату в одном из больших домов на Ленинском проспекте. Комната была светлая и почти пустая – книги лежали стопками на полу, одна стена была завешена огромным ковром, свадебным подарком Виталия Петровича. Ковер свисал на матрац, заменявший тахту. Стола в комнату они еще не купили, на стуле лежала клеенка, на ней стояли стаканы, тарелки – здесь все было временно, необжито, неуютно.

…Светлана сидела на матраце и, поставив машинку на деревянный ящик, что-то печатала для заработка. Виктор присел с другой стороны матраца и виновато посмотрел на жену.
– Я знаю, что все мужчины – мужчины не только для одной женщины, и ты, как мне ни горько, исключения из этого правила не составишь. Об одном прошу тебя – и сейчас, и на все время: устраивайся так, чтобы не ставить меня в глупое положение. Обедать будешь? – спросила она.
Виктор отрицательно качнул головой.
Что сталось со Светланой? После аборта она похудела, кожа на лице стала прозрачной. Особенно удивляло Виктора выражение ее больших голубых глаз – будто говорила она не о том, о чем думала.
Светлана накрыла футляром машинку и замерла на месте.
– Что ты молчишь?
– А что говорить? – ответила она, не поворачиваясь.
– Что же, давай помолчим вместе, – ответил Виктор.
– Мы теперь, Витя, даже молчим не вместе, а врозь… Где-то слышала я или прочитала такое выражение.
– Я знаю, что ты скажешь: не проверили своих чувств, мало ждали друг друга, и вот финал, – разведя в сторону руки, сказал он.
Светлана возразила: ждать любимого человека, годами не видя его, пожалуй, легче, чем прожить с ним бок о бок, скажем, два-три года и сохранить при этом всю силу своего чувства. Только время, совместно проведенное любящими, мерит силу и прочность любви. Но случается и так, говорила она, что тихая жизнь, иногда даже схожая со счастьем, и бывает той подводной мелью, на которой гибнет влюбленность. Светлана предлагала Виктору уехать на Кварцевый, на любой другой рудник, где нет проблем прописок, жилья, дележа копеек, той обыденности, которая убивает ощущение первых дней любви! Каждодневность, совместное прозябание в этой комнате – страшнее любых трудностей, которые ждут там. Не всем дано иметь талант быть всегда неповторимым, новым, оставаясь при этом самим собой… Она больше не может обманывать ни себя, ни его.
– Ну уж, это слишком!.. – холодно сказал Виктор. – Хорошо, я подумаю. Мать просила присмотреть за квартирой. Пока она в больнице у отца, я буду ночевать там. – И он ушел.
Светлана присела на матрац, зябко кутаясь в шерстяную кофту. Она, конечно, не станет проверять, где будет эти дни и ночи Виктор. До такого унижения еще не дошла. Но она убеждена, что Виктор встречается с этой Ритой… Сегодня был очередной звонок по телефону: Рита представилась ей как старая любовь Виктора…
Светлана решила, что завтра же пойдет в больницу к Михаилу Васильевичу и все расскажет ему. Она-то лучше, чем отец, теперь знает Виктора. Виктор часто киснет, впадает в уныние, нервничает – с диссертацией у него долго не клеилось, менялись темы, приходилось все начинать сызнова. Светлана верила в него и переливала ему, как кровь, свою веру – подбадривала его, заставляла не сдаваться.
Она подавляла многое в себе, чтобы быть ему подругой, товарищем. Жили они туго, она во всем отказывала себе, у нее было единственное приличное платье, одни туфли… Все деньги, присылаемые Степановым, шли на еду, потому что Виктор половину зарплаты по-прежнему, как он утверждал, отдавал матери. Все чаще Светлана садилась за пишущую машинку. Виктор теперь раздражался из-за плохо выглаженных носовых платков, подгоревшей яичницы. Мелкие неурядицы портили им жизнь.
И в то же время она знала, что Виктор любит ее, дорожит ею. Так что же она скажет Михаилу Васильевичу, о чем будет просить его?
Ничего она ему не скажет и ни о чем не попросит. Она сама должна найти решение, как сохранить Виктора.
Душа ее покрывалась морщинками, хотя на лице их пока не было видно.