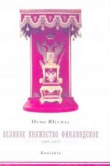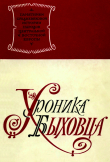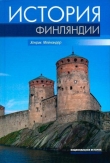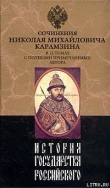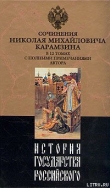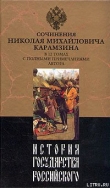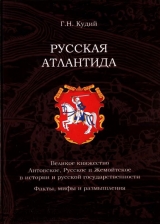
Текст книги "Русская Атлантида
Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское в истории и русской государственности. Факты, мифы и размышления"
Автор книги: Геннадий Кудий
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
Правда, базисные факторы Городельской унии, как они задумывались в римской курии, проявились не сразу и на первом этапе достигнутые договоренности внешне не выходили за пределы компромисса между двумя равнодействующими силами. Польша еще не была способна поглотить Великое княжество Литовское, а то в свою очередь не могло пойти на разрыв с Польшей. Более того, первоначально уния была даже более выгодна ВКЛ, поскольку укрепила польско-литовский государственный союз. Витовт смог возобновить широкомасштабное противостояние с Москвой, в том числе за влияние в Орде, где шла своя усобица, в Великом Новгороде, Пскове и Ливонии. Качели эти оказались долгими во времени: в Орде менялись ханы, а в Новгороде князья то с пролитовской на промосковскую ориентацию, то наоборот, но суть проблемы оставалась прежней – шла упорная борьба за лидерство между Московской и Литовской Русью на огромных просторах Восточной Европы. В этой борьбе Литовская Русь стала сдавать свои позиции лишь к концу XV века, да и то временно.
Здесь уместно отметить еще один важный аспект политики Витовта: его интерес к делам Западнорусской церкви. Он был чисто политическим – князь хотел быть уверенным, что церковь (а с ней и большинство населения Великого княжества) не встанет на сторону Москвы в случае ее конфликта с Литвой. Для этого Западной Руси нужен был свой митрополит, как минимум независимый от Москвы, то есть в идеале великий князь Литовский и Русский должен был выдвигать своего кандидата на митрополитскую кафедру. Первоначально Витовт просил вселенского константинопольского патриарха посвятить в сан митрополита Руси Феодосия Полоцкого, но патриарх отверг его просьбу и в 1408 году поставил на эту должность Фотия.
Православные иерархи беспокоились не зря. Уже в январе 1416 года магистр Ливонского ордена писал своему коллеге в Марненбурге (Тевтонский орден), что «Витовт выдвинул и избрал русского папу, или, как его называют, патриарха, в Литве и рассчитывает привести к послушанию ему московитов, новгородцев, псковичей – словом, все русские земли». Замечание, безусловно, верное, хотя перед Витовтом, активно создающим тогда независимое Литовско-Русское государство, стояла еще одна не менее, если не более важная задача – урегулировать отношения между греческой и римской христианскими церквями внутри страны. Без этого создать прочное государственное образование по принципу «один народ, одна вера, один правитель» (на котором, кстати, строилось Московское государство) в те времена было попросту невозможно, да и теперь непросто. Так в Великом княжестве Литовском, Русском и Жемойтском возникла идея церковной унии между православной и католической церквями. Для иерархов РПЦ вещь и тогда, и сегодня абсолютно невозможная. Хотя чем греко-римская церковь хуже старообрядчества, англиканской церкви, кальвинизма и иных форм протестантизма, сказать трудно. С точки зрения Витовта, являвшегося правителем многонационального и многоконфессионального государства, идея объединения двух христианских церквей конечно же была здравой.
Не стоит также забывать, что западный христианский мир в то время уже сотрясала реформация. Открытая ревизия догматов католицизма шла в Чехии и Швейцарии, а подспудная почти повсеместно. Соответственно папа римский и римская курия были готовы хоть с чертом лысым идти на компромисс во имя расширения своей паствы за счет неофитов и сохранения тем самым прежних доходов и влияния католической церкви, потерянных в процессе реформации. Уния христианских церквей в ВКЛ такую возможность предоставляла, а Витовту для подлинной независимости его государства, кроме всего прочего, нужна была еще и королевская корона, получить которую без согласия папы римского было никак невозможно. В мае 1417 года папа римский Мартин V утвердил Ягайло и Витовта в звании викариев римской церкви в Жмуди, Пскове, Новгороде и других русских землях, хотя найти даже пару католиков в тогдашних Твери или Владимире, например, было большой проблемой. В общем, римская курия среагировала правильно. В 1418 году Григорий Цымблак поехал на XVI (Констанцский) собор римской католической церкви, но с наказом Витовта избегать любых соглашений, которые могли бы привести к унии. Время для нее еще не пришло. Православные феодалы ВКЛ прекрасно понимали негативные последствия такого поворота дела для своих интересов и всячески противились реализации данной идеи.
На это, кстати, указывает и случившийся тогда побег из Кременецкого замка (одного из самых неприступных в Европе) князя Свидригайло, известного своими промосковскими взглядами. Пленника сторожили крепко, так как он был опасен и Витовту, и Ягайло. Чудес не бывает, без помощи извне Свидригайло бежать не мог. Это был даже не побег, а вооруженное нападение на крепость, свидетельствующее о наличии в литовско-русском княжестве серьезной оппозиции курсу на сближение с Польшей и католизацию государства. У Свидригайло под рукой сразу оказалось достаточно большое войско, а Витовт, потеряв контроль над значительной территорией княжества, был вынужден укрыться в Трокайском замке. В общем, поставив своего митрополита, каких-либо ощутимых результатов в захвате общерусских позиций Витовт не добился, но идея церковной унии продолжала оставаться неплохим дипломатическим инструментом в его борьбе за королевскую корону.
В реальности помимо продолжения старых игр на ослабление позиций Москвы с помощью Орды, Новгорода и разжигания соперничества других русских князей Витовт предпринял усилия к восстановлению добрых отношений с митрополитом Фотием. И, надо сказать, вовремя. Прежде всего он порвал с Цымблаком. Фотий, памятуя о посягательстве Рима через Цымблака, Ягайло и Витовта на русское православие, правильно понял этот жест и, стремясь не дать в обиду православие в Литве и Польше, сблизился с великим литовско-русским князем. «Потянув» в сторону литовско-русского княжества, Фотий обязал в 1423 году великого князя Василия Дмитриевича «приказать» в духовной грамоте (поручить руководство и заботу) «сына своего Василия и свою княгиню (Софью Витовтовну) и свои дети своему брату и тестю, великому князю Витовту». Василий Дмитриевич скончался 27 февраля 1425 года. После тридцатишестилетнего княжения он оставил на московском княжении девятилетнего сына Василия Васильевича. Казалось, никогда ранее объединение Московской и Литовской Руси под эгидой последней не было столь реальным. Но история распорядилась иначе. Воссоединение в очередной раз не состоялось. Причин тому было несколько, но главные две. Внешнее противодействие, а также сепаратизм, внутренние смуты и междоусобицы, надолго охватившие оба русских государства.
Столь резкое упрочение положения Великого княжества Литовского и Русского крайне взволновало польских феодалов, так как объединение Руси навсегда хоронило их планы доминирования в Восточной Европе, да и суверенитет самого Польского королевства становился проблематичным. Не на шутку встревожилась и Орда. А тут еще в Малой Азии, на Балканах и Причерноморье начала всходить звезда Османской империи.
В Москве право на престол у малолетнего Василия Васильевича незамедлительно оспорил его дядя и старший брат Василия Дмитриевича князь Звенигородский Юрий Дмитриевич, мотивируя свои действия старинным правом наследования от брата к брату (по старине), установленным еще Ярославом Мудрым. Василий Васильевич получил старшинство по отцовскому завещанию, продиктованному княжеской волей правителя, рассматривающего Владимирское княжение как свою родовую вотчину. Правовой спор в данном случае, безусловно, имел место. Впрочем, в контексте нашего повествования более интересно то, что старинное право наследования от брата к брату защищает князь, весьма искушенный в политике, а новое право – отрок, опирающийся на новый порядок, установившийся в Северо-Восточной Руси. При этом, опираясь на устойчивую поддержку различных сословий, земель и церкви, он в конце концов не только одержал победу в длительной борьбе за власть, но и фактически стал единовластным монархом. Другими словами, принцип «один царь, один народ и одна вера» в Московской Руси становится доминирующим, хотя внутреннюю смуту в государстве во всей ее трагичности и непредсказуемости активно поддерживали такие грозные соседи, как Великое княжество Литовское и Орда.
По-иному складывается ситуация в Литовской Руси. Обеспокоенные уходом с политической арены Василия Дмитриевича, ставшего под конец жизни главной сдерживающей силой устремлений Витовта, в 1426 году собирается Легницкий сейм польской знати, чтобы решить, как воспрепятствовать отделению ВКЛ от Польши и сохранить его в сфере своего влияния. Письменные решения сейма по этому вопросу нам неизвестны, но последующий ход событий показал, что они, скорее всего, сводились к установке – надо сделать все, дабы не допустить отторжения Литвы от Короны польской.
В тексте польско-литовской унии был один интересный пункт, согласно которому, в случае если Ягайло умрет бездетным, польский престол должен перейти к Витовту. Насколько известно, от королевы Ядвиги детей у Ягайло не было, в браке с другой представительницей Пястов Анной Цельской он прожил 15 лет, но рождались одни дочери. Пришлось Ягайло жениться и в третий, и в четвертый раз, поскольку проблема основания новой польской королевской династии стояла очень остро. Лишь от четвертой жены Соньки (Зофьи) Голшанской у него, наконец, родились сыновья Владислав (1424) и Казимир (1427). Поскольку они появились на свет, когда отцу было 76 и 79 лет соответственно, поползли слухи о неверности четвертой жены Ягайло, которая между тем собиралась родить еще и третьего ребенка. Обычная выдержка и осторожность на сей раз изменили Витовту, и в 1427 году на сейме в Гродно он обвинил молодую королеву в супружеской неверности, пытаясь доказать, что отец ее детей вовсе не король. Ягайло вроде как не поверил обвинению, но, скорее, ему этого просто не дали сделать.

Сейм в Луцке.
Витовт понял свою оплошность и, воспользовавшись трудным положением императора Священной Римской империи Сигизмунда, теснимого гуситами и турками, пообещал ему поддержку. Взамен император обязался вручить ему корону литовско-русского королевства. В 1429 году на встрече в Луцке с Витовтом и Ягайло император склонил последнего дать согласие на провозглашение Витовта независимым королем Литвы и Руси, что вызвало неописуемое недовольство польских вельмож и прелатов католической церкви. Они покинули съезд, а вслед из Луцка бежал и Ягайло.
Опасаясь, что император коронует Витовта и без согласия Ягайло, католическое духовенство обратилось к папе римскому с просьбой запретить коронацию литовско-русского князя на том основании, что это приведет к искоренению католицизма в ВКЛ. Но император спешил привязать к себе Витовта теснейшим союзом и известил Вильню, что посылает корону. Коронация была назначена в праздник Успения Богородицы. На нее были приглашены соседние государи, включая великого московского князя Василия Васильевича. Ко всему прочему коронация давала Витовту право передавать свою власть по наследству.
К Успению императорские послы опоздали, и коронацию перенесли на праздник Рождества Богородицы в сентябре. Польские вельможи и католические прелаты послали сторожевые отряды на границы с целью перехватить Сигизмундовых послов с короной. По одним данным, они не то были схвачены на границе с Саксонией, не то их повернули вспять. По другим данным, послов перехватили во Львове, корону разрубили, а ее половинки приложили к короне краковского епископа. В любом случае скандал был приличный, поскольку корону и грамоты к ней на королевский титул несли знатнейшие посланцы императора, да и его собственное мнение в тогдашней Европе стоило немало. Однако короны Витовт не дождался – он скончался 27 октября 1430 года, скорее всего, не без посторонней помощи. Далее Литовская Русь, как и Московская, была ввергнута в очередную смуту и усобицу. Кстати, обе эти смуты успешно подпитывали друг друга. Одним словом, стало не до объединения. Причем в таком развитии событий не стоит обвинять лишь польскую знать и католическое духовенство – среди московского боярства и православных иерархов противников полюбовного объединения русских земель под эгидой Великого княжества Литовского было отнюдь не меньше. В обоих государствах доминировало желание поглотить друг друга, что называется, не поступаясь принципами, нежели идти на союз, априори предполагающий взаимный учет интересов.
Не следует забывать и того, что в лице Ягайло и его потомков на польском престоле надолго оказалась на 2/3 русская по крови династия Ягеллонов, сменившая первую польскую королевскую династию Пястов[1]1
Основателем династии Пястов считается легендарный создатель польского государства Мешко I (960–992). Далее трон унаследовал его сын Болеслав, коронованный королем Польши. Династия пресеклась со смертью болезненного и бездетного короля Казимира III в 1370 году.
[Закрыть]. Плохо это или хорошо было для русского дела – вопрос другой. Но так было. Об избрании Ягайло польским королем говорилось выше. Вряд ли, однако, династический брак, заключенный на условиях Кревской унии, для нового польского короля был счастливым в чисто человеческом измерении. Во-первых, Кревская уния, мягко говоря, не вызывали симпатии у подданных Великого княжества Литовского и Русского, давно привыкших числить себя вполне самостоятельной державой. Поэтому вопрос состоял лишь в том, кто возглавит великолитовскую партию и какие формы примет борьба против династического союза с Польшей на существующих условиях. Глашатаем литовско-русской державности, в конечном счете стал сводный брат Ягайло – Витовт-Александр, сын Кейстута и внук Гедимина. Причем он не был врагом католицизма, скорее относился к нему столь же равнодушно, как и к любой другой религии. А вот сторонником независимости ВКЛ и мирного сосуществования в нем католиков с православными он был точно.
За Витовтом стояли три четверти Литвы, поэтому Ягайло предпочел пойти с ним на мирное соглашение и отступиться от части положений Кревской унии, ущемляющих суверенитет Литовско-Русского государства. Вряд ли родившийся в 1348 году Ягайло рассчитывал пережить младшего на два года Витовта, хотя оба они по тем временам оказались куда как долговечны, король Польши скончался в 1434 году в возрасте 86 лет, а Витовт умер в 1430 году в возрасте 80 лет, просидев 38 лет на литовском престоле. Ягайло взошел на польский престол под крестильным именем Владислава II, оставаясь Ягайло, так сказать, в быту. Он быстро стал популярен в основном благодаря светским мероприятиям: пирам, охотам, приемам, общению с множеством людей в буйном стиле тогдашней шляхетской жизни, пьяно-ватой и прожорливой. Но нельзя не отметить и разумность принимаемых им решений, и взвешенное балансирование между различными силами тогдашней международной политики.
Авторитета королю прибавило еще два обстоятельства: Ягеллонский (Краковский) университет, основанный в 1364 году, развитию которого он уделял большое внимание, и собственная жена, считавшаяся в Польше едва ли не святой. Дворяне ломились в Краков, чтобы быть представленными королеве. Горожане мчались туда же, чтобы посмотреть на нее, а толпы крестьян из разных концов страны прибывали, чтобы просить королеву помолиться о ниспослании дождя, хорошей погоды, об изобилии рыбы в озерах, о здоровье пчел и хорошем медосборе. Конечно, тут правомерен вопрос: а так ли счастлив человек, чья монашески одетая жена передвигается строго в окружении монахов, монахинь, юродивых, нищих, алчущих исцеления калек, посланцев Ватикана и умиленно сюсюкающих пожилых дам? Много лет брак Ягайло и Ядвиги остается бесплодным, а когда, наконец, совершилось то, зачем он задумывался, пришла беда – их дочь Эльжбета, родившаяся в 1399 году, умерла в раннем младенчестве, а мать пережила ее всего на пару недель. Некоторые здесь могут сказать, что Ядвига Пяст сама изломала собственную судьбу и что от фанатично верующей несчастной женщины и ожидать-то ничего другого было нельзя. Не случайно ведь «дикий» Ягайло тоже вдруг ударился в религиозный фанатизм и что еще хорошо, не начал заводить любовниц. Правда, надо признать, что в данной ситуации Владиславу-Ягайло все-таки было легче – даже находясь в постылом браке, он мог заняться охотой, войной, политикой, турнирами и пирами-попойками.
После смерти Ядвиги в праве Ягайло на польский престол вроде как никто не сомневался, тем не менее положение короля пошатнулось, так как необходимость сохранить это право, обеспечить преемственность власти и основать династию оставалась. Ягайло женился второй, третий, а потом и четвертый раз. От последней жены Соньки (Зофьи) Голшанской (Друцкой, т. е. она тоже была родом из Беларуси) у него, наконец, родились два сына, которые окончательно утвердили полурусскую династию Ягеллонов на краковском троне. Ведь если учесть, что сын Гедимина великий князь Ольгерд долгое время княжил в Витебске, а Ягайло родился от его второй жены тверской княжны Ульяны, то получается, что в 1386 году польским королем стал сын витебского князя и тверской княжны. Человек, в котором не было ни капли польской крови, на три четверти русский по происхождению и находившийся в родстве практически со всеми княжескими дворами Западной и Северо-Восточной Руси.
Ягайло имел ни много ни мало 20 братьев и сестер, включая 12 полностью родных. Само по себе это тогда не удивляло, удивительным было то, что почти все дети Ольгерда выжили, стали взрослыми и что от них великий литовский князь в старости имел полчища внуков, раскиданных по пяти разным странам. Как правило, 70–80 % родившихся тогда детей редко доживали до пяти лет, а взрослые тоже гибли гораздо чаще, особенно мальчики. Их убивали на войне и охоте, массово губили болезни, поскольку тогдашняя медицина в основном помогала людям лишь быстрее помереть. Поэтому взрослые супруги, родившие 15–20 детей, внуков, как и в наши дни, имели не более двух-трех. Ольгерду всего этого счастливым образом удалось избежать. В результате он стал родоначальником нескольких династий. Да еще каких! В хронологическом порядке здесь вырисовывается следующая картина:
Дети от первого брака с Марией Ярославовной Витебской: 1. Андрей, князь Полоцкий. 2. Дмитрий, князь Брянский, Друцкий, Стародубский и Трубчевский (предок князей Трубецких). 3. Константин, князь Черниговский и Чарторыйский (предок князей Чарторыйских). 4. Владимир, князь Киевский и Копыльский (предок князей Бельских и Слуцких). 5. Федор, князь Ратненский (предок князей Сангушко). 6. Федора – жена Святослава Титовича, князя Карачевского. 7. Агриппина-Мария – жена Бориса, князя Городецкого. 8. Неизвестная дочь Ольгерда была замужем за Иваном, князем Новосильским и Одоевским.
Дети от второго брака с княжной Ульяной Александровной Тверской: 1. Ягайло-Йогайла-Ягелло – польский король Владислав II Ягеллон. 2. Скиргайло-Иван, князь Трокский и Полоцкий. 3. Корибут-Дмитрий, князь Новгород-Северский, Збарашский, Брацлавский, Винницкий, женат на княжне Анастасии Рязанской. 4. Лигвень-Семен, князь Новгородский, Мстиславский, женат на Марии Московской. 5. Коригайло-Казимир, наместник Мстиславский. 6. Вигунт-Александр, князь Керновский. 7. Свидригайло-Болеслав, князь Подольский, Черниговский, Северский, Брянский, великий князь Литовский, затем князь Волынский. 8. Кенна-Иоанна – жена поморского князя. 9. Елена – жена князя Боровского и Серпуховского. 10. Мария – жена боярина Войдылы, вторым браком была замужем за князем Давидом Городецким. 11. Вильгейда-Екатерина – жена герцога Мекленбургского. 12. Александра – жена князя Мазовецкого. 13. Ядвига – жена князя Освенцимского.
Добавив к этому перечню Анну, дочь Кейстута и сестру Витовта, вышедшую замуж за независимого князя Мазовии Конрада, можно обоснованно утверждать, что в 1386 году на престол Польского королевства взошла Западная Русь. Здесь также уместно напомнить, что женой сына Дмитрия Донского и великого московского князя Василия I Дмитриевича была дочь Витовта София, она же мать великого московского князя Василия Васильевича (Тёмного) и бабушка великого московского князя Ивана III Васильевича.
Согласно хронисту Яну Длугошу, Владислав II Ягайло умер 1 июня 1434 года, простудившись слушая пение соловья. Случилось это в самый разгар борьбы за власть в Великом княжестве Литовском и Русском, которая по большому счету велась между сторонниками и противниками унии с Польшей. В конечном счете противники пришли к очередному компромиссу, но опять же с креном в сторону ущемления суверенитета ВКЛ и особенно его православного населения. Одновременно неотвратимо надвигался военно-политический разлом между двумя собирателями русских земель, быстро превращая Московскую и Литовскую Русь из сравнительно толерантных соперников в непримиримых врагов и противников. Вне всякого сомнения, во многом виной тому стала уния с Польским королевством, которая в сравнительно недалекой исторической перспективе обернулась ни с чем не сравнимой трагедией и для Польши, и для ВКЛ, поскольку привела в конечном итоге к потере их государственности и к полному исчезновению с политической карты Европы. Ягайло пошел на заключение изначально унизительной для его государства унии исключительно в личных интересах, а Витовт не успел или не сумел минимизировать последствия этого события. После смерти Ягайло на польский престол взошел его малолетний старший сын Владислав III Варненьчик (правил в 1440–1444 гг.), одновременно провозглашенный королем Венгрии и Хорватии.
Великое княжество Литовское возникло как балтско-русское государство в качестве преемника и наследника Киевской Руси и развернуло великую миссию собирания русских земель. В качестве наследника Киевской Руси это государство являлось наследником Византии (Киевская Русь была религиозной провинцией последней), а значит, Третьим Римом. Совершенно ясно, что только православие могло способствовать объединению с Московским княжеством, Псковом, Новгородом и другими русскими землями, включение которых в состав ВКЛ Миндовг, Вайшелг, Витень, Гедимин, Ольгерд и Кейстут сделали своим приоритетом. Уния с Польшей и неизбежный переход в католичество, наоборот, подорвали религиозно-идеологическую основу объединительной миссии ВКЛ, а значит, и весь смысл его существования. Измельчав, государствообразующая идея выродилась в олигархическо-магнатский сепаратизм и гипертрофированную амбициозность местной знати. Именно по этой причине, имея громадный политический, экономический, творческий и военный потенциал, уния (Речь Посполитая) не смогла использовать его на мобилизацию и защиту от московской экспансии. Наследницей идеи и миссии ранних правителей Великого княжества Литовского постепенно стала Россия.