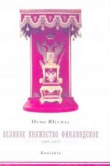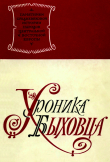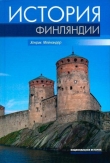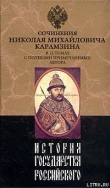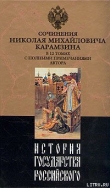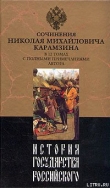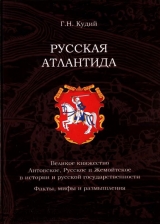
Текст книги "Русская Атлантида
Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское в истории и русской государственности. Факты, мифы и размышления"
Автор книги: Геннадий Кудий
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
В-третьих, Польша тоже была заинтересована в унии, поскольку многочисленная польская шляхта надеялась получить наделы и должности на территории ВКЛ.
Наконец, в-четвертых, Польша была могучим бастионом католицизма в Восточной Европе и Ватикан отводил ей главную роль в экспансии западного христианства на восток. Свою унийную работу в ВКЛ поляки проводили давно и различными путями. С одной стороны, они католичили и полонизировали великолитовских магнатов и шляхту, а с другой – сами устремлялись на земли ВКЛ, получая от короля государственные должности, покупая там себе имения, женясь на православных богатых невестах и приобретая их имения в приданое. Великолитовские православные послы жаловались королю на Брестском сейме 1542 года, что в «Литве и Руси уряды и тиунства розданы ляхам», а король оправдывался тем, что великолитовцы сами в этом виноваты, обещал не давать полякам урядов, но на деле все осталось по-прежнему.
Государственные деятели Великого княжества Литовского и Русского видели наплыв поляков на их родину, но остановить его не имели силы. При составлении Литовского статута в 1522–1529 годах они ввели пункты, которыми запрещалось полякам, как иностранцам, приобретать земельные угодья и занимать государственные должности в княжестве, но этот запрет король с поляками игнорировали. Полонизация княжества продолжалась.
Магнаты ВКЛ относились к полякам с недоверием и достаточно долго отражали их посягательства на суверенные права собственного государства. Долгое время независимость ВКЛ поддерживалась особыми королевскими грамотами – соответствующие пункты впервые появились в решениях Виленского (1401) и Городленского (1413) сеймов. Позже последовали акты Казимира 1447, 1452 и 1457 годов, привилеи Александра 1492 и 1499 годов и Сигизмунда Старого 1506 года. Наиболее влиятельными государственными деятелями в ВКЛ были князья Радзивиллы, Острожские, Збаражские, паны Ходкевичи, Сапеги, Тышкевичи и др. Они решительно выступали против присоединения своего отечества к Польше и ревностно оберегали его суверенные права: территорию и органы власти. В их представлении династическая уния была лишь союзом двух самостоятельных государств, которые обязаны были жить между собою в мире и согласии, оказывать взаимную помощь в войне с врагами, содействовать друг другу в деле развития благоустройства и мощи обоих стран. Поляки думали иначе, стремились использовать династическую унию для присоединения ВКЛ к Польше и полной полонизации его земель.
При таком расхождении во взглядах думать о возможности достижения соглашения между поляками и великолитовцами об объединении двух государств было затруднительно. Поляки это понимали. Решив действовать далее более эффективными административными средствами, они убедили короля Сигизмунда II Августа ускорить присоединение ВКЛ к Польше, используя для этого свою королевскую власть. Нельзя сказать, что Сигизмунд не любил свое княжество, но он видел его благополучие только вместе с Польшей, поэтому был на стороне поляков и защищал их интересы рьяно. На Варшавском сейме 1563–1564 годов, например, он подписал заготовленный польской стороной акт об отречении от всех своих наследственных прав на великокняжеский престол ВКЛ и о передаче этих прав польскому королю, что было внесено в конституцию (решение) сейма и объявлено в форме особой королевской декларации.
Послы и сенаторы Великого княжества Литовского, присутствовавшие на сейме, вынуждены были подписать его. Исключение составил князь Радзивилл Чёрный, который решительно не признал эту декларацию, так как справедливо видел в ней огромную угрозу независимости ВКЛ. Вскоре и другие государственные деятели княжества осознали это. Уже на Гродненском сейме 1568 года они подали королю письменные пожелания о сохранении самостоятельности Великого княжества Литовского, однако король не согласился с их предложением и увещевал литвинов пойти на присоединение к Польше. Послы ВКЛ настаивали на своем мнении, поэтому король пообещал рассмотреть принципы объединения ВКЛ с Польшей на предстоящем сейме в Вильне, хотя сразу после Гродненского сейма оповестил, что очередной сейм состоится в Люблине.
Королевские грамоты о созыве Люблинского сейма были разосланы в конце октября 1568 года, а его открытие первоначально назначалось на 23 декабря 1568 года, но сейм открылся 10 января 1569 года, собрав около 160 послов и сенаторов из Польши и Великого княжества Литовского. Маршалком сейма послы избрали поляка – дрогичинского старосту Станислава Сендивого Чарнковского. При открытии сейма он восхвалял короля и польский народ, а затем перешел к унии и просил короля завершить наконец дело объединения двух государств в одно тело. В том же духе выступили краковский архиепископ и сам король. С малыми перерывами заседания сейма продолжались до 12 августа 1569 года.
С первых дней на сейме развернулась горячая дискуссия между сторонниками безусловной инкорпорации ВКЛ в состав Польского королевства и их противниками из числа великолитовских послов, выступавших за федеральное объединение земель и равное участие шляхты обеих стран в делах государственного управления. Главными ораторами от делегации Великого княжества Литовского выступали воевода Вильни Николай Радзивилл Рудый и судебный исполнитель Ян (Иван) Иеронимович Ходкевич. Во время совещания между польскими сенаторами и литовскими членами совета вельмож Ходкевич, в частности, сказал: «Наши народы (т. е. литовцы и русские) и мы (т. е. члены совета вельмож) – честные и достойные люди, а что касается наших свобод, то мы равны любому другому народу, включая и вас, господа поляки. Нам бы не хотелось заключать унию, прежде чем мы установим добрый порядок в нашем содружестве и покажем вам, что вы заключаете союз с друзьями, равными вам по достоинствам и внутреннему устройству. В первую очередь мы должны решить этот вопрос с нашим собственным государем (т. е. Сигизмундом Августом как великим князем Литовским). Только после этого мы будем рады обсудить унию с вами. Король (т. е. Сигизмунд Август как король Польши) ничего в вопросе об унии не решает. Это исключительно наше дело, поскольку мы свободные люди и христиане. Никто не может вести наших дел, кроме нас самих, как это делали наши предки».
Защита автономии ВКЛ Ходкевичем и Радзивиллом сильно разгневала поляков. Как отмечает автор «Дневника» сейма, «такие беседы приносили больше взаимного раздражения, чем результатов». Положение литвинов действительно было серьезным, поскольку большинство поляков не желало идти на какие-либо уступки, а сложная военная и дипломатическая ситуация диктовала необходимость немедленного соглашения с ними. 29 января Николай Радзивилл сказал с горечью: «Когда мы уезжали на сейм, враг (т. е. московиты) был у нас за спиной. Мы мечтали о том, что уния с вами будет скреплена взаимной любовью. Мы почти бежали сюда, чтобы заключить ее, в то время как наши праотцы в таких же случаях обычно ходили медленно».
Чтобы выйти из тупика, в феврале 1569 года король приказал послам ВКЛ прекратить их сепаратные совещания и провести общее заседание с поляками. Вместо этого литовско-русские вельможи решили бойкотировать дальнейшие собрания. Под предводительством Кшиштофа Радзивилла (протестант) и киевского князя Константина Острожского (православный) они один за другим стали разъезжаться по домам. Делегаты от литовской шляхты в основном последовали за ними. Перед отъездом белорусско-литовские послы передали королю свои условия унии. Кратко они сводились к следующему: Великое княжество Литовское и Польша будут иметь общего государя, избранного на съезде послов от этих двух государств в равном числе. Избранный король коронуется в Кракове, а затем в Вильне, при этом и там и там подтвердит права каждого государства, возглавляемого им. Оба народа будут иметь общие сеймы, созываемые раз в Польше и раз в ВКЛ по очереди. При этом Великое княжество Литовское и Польша будут иметь и свои отдельные сеймы, свои сенаты, свои государственные печати, а ВКЛ сохранит свою территориальную собственность – поселения поляков в княжестве допускаются, но на чины и должности могут претендовать только его коренные граждане. Были и другие, менее важные пункты.
Таким образом, к 1 марта 1569 года на Люблинском сейме остались одни поляки. Однако литвины недооценили сложность ситуации – поляки собирались довести дело до конца, причем их позицию разделила русская (украинская) шляхта Волыни и Подляшья. Сейм постановил обсуждать дело унии без участия послов Великого княжества Литовского и на очередном своем заседании одобрил план инкорпорации ВКЛ в состав Польши. В нем предлагалось упразднить прежние привилегии ВКЛ и его шляхте, объявить королевским указом о принадлежности к Польше Волыни и Подляшья, привлечь татар на сторону поляков, чтобы ВКЛ не привлекло их себе в помощь, назначить гетмана, обеспечить границы и обдумать меры по обеспечению безопасности короля, когда он поедет в Литву. Сам король тут же объявил, что отдает Польше Волынь и Подляшье и вторично дарит ей Великое княжение Литовское и Русское, включая свои имения в нем, сохранив их за собой лишь пожизненно. Поскольку Сигизмунд II Август был бездетным, а его владения в ВКЛ – велики, то это был очень серьезный удар по единству Литовско-Русского государства.
Исполнение пунктов плана инкорпорации ВКЛ началось с присоединения Подляшья. Под угрозой лишения должностей и привилегий 5 марта 1569 года послы Подляшья присягнули на аннексию своей родины в пользу Польши. Наступил черед Волыни. Волынских послов вызвали на сейм 15 мая, но те к сроку не прибыли, поэтому дело отложили до 23 мая, а послов приструнили тем, что в случае несогласия они будут поставлены перед фактом лишения имений и баниций (изгнания). Угроза подействовала, волынцы прибыли на сейм, включая князей Збаражских, Чарторийских и Острожских, после чего присягнули на аннексию Волыни Польше, хотя и в драматической обстановке.
Наиболее показательным примером, как принуждение происходило на деле, был случай с Остафием Воловичем, помощником канцлера ВКЛ, оставленным на Люблинском сейме в качестве наблюдателя. Он не владел наследственными поместьями в Подляшье, но имел там три дарованных бенефиция за заслуги перед ВКЛ. После своего указа король приказал Воловичу принести присягу на верность Польше, но тот умолял короля «открыть свое второе ухо» (т. е. выступить в качестве великого князя Литовского) и позволить ему (Воловичу) посоветоваться с другими великолитовскими вельможами. Сигизмунд остался глух к этой просьбе, а Волович отказался принести присягу, за что был лишен бенефициев в Подляшье. Но таких, как Волович, было немного, тем более что его собственность в Подляшье была невелика.
Далее последовало присоединение Подолии (Брацлавского воеводства), а там очередь дошла и до Киева. Аннексия Киевщины началась 1 июня. Спор между поляками и киевскими послами был крайне возбужденный. Последние не соглашались на инкорпорацию Руси-Украины и дело дошло до очередного королевского декрета от 4 июня, согласно которому Киев и вся Украина, включая города Черкасы, Канев, Белая Церковь, Остер, Любечь и др., присоединялись к Короне Польской. Декрет был встречен поляками с радостью, после чего началась присяга украинских послов. Первым под угрозой конфискации имущества за неподчинение королевской власти и польским законам присягнул киевский воевода князь Константин Острожский. Причем волынские послы заодно с поляками выступали с требованием аннексии Руси-Украины. Одним словом, уния в польском исполнении стала возможной лишь потому, что притязания польской шляхты поддержала шляхта украинская, соблазненная приобретением прав и привилегий, равных польским. В результате украинские магнаты потеряли социальную опору у себя на родине и вынуждены были принять польские условия.
Как следствие, к 6 июня, когда литовские вельможи и посланники шляхты вернулись на сейм, Великое княжество Литовское лишилось всех своих украинских владений или примерно трети территории и населения. Ободренные успехом, поляки приступили к инкорпорации исторического ядра ВКЛ – Беларуси и Литвы. Дальнейшее сопротивление Польше стало почти невозможным, но оно продолжалось. 7 июня 1569 года в присутствии короля проникновенную речь произнес Иван Ходкевич, староста жмудский. Он заявил следующее: «Неприятель (московский) во время перемирия не нарушал собственности, а нас, живущих в вечном мире и братстве с вами, господа поляки, вы лишаете этого права. Справедливости мало на земле! Но Бог такой несправедливости с нами не потерпит: рано или поздно расчет будет». В ответ краковский архиепископ увещевал белорусско-литовских послов согласиться на унию, на что получил ответ Ходкевича: «Не знаю, какая это будет уния, когда мы видим, что уже теперь между вами в сенате сидят литовские сенаторы. Вы уже обрезали нам крылья! Между вами сидят воеводы: волынский, киевский, подляшский, подольский, между вами и другие наши сенаторы-каштеляны. Впрочем, дайте нам привилей на унию, мы его обсудим». Отчаяние великолитовских вельмож в полной мере проявилось и в письме Николая Радзивилла Нарушевичу, в котором автор горько сожалеет о «похоронах и уничтожении навсегда ранее свободного и независимого государства, известного как Великое княжество Литовское». Рассмотрев условия присоединения ВКЛ к Польше, выработанные поляками, белорусско-литовские послы вновь составили пожелания по этому поводу королю, но их вновь отвергли. Переговоры затягивались и были утомительны, но аннексия Подляшья, Подолии, Волыни и Киевщины делала позицию ВКЛ весьма шаткой, особенно с учетом пропольской позиции короля и значительной части собственной шляхты. Как следствие, убедившись в бесплодности усилий защитить независимость собственного государства, белорусско-литовские послы, истомленные физически и духовно, согласились на образование Речи Посполитой в основном по польскому сценарию.

Провозглашение Люблинской унии.
Другими словами, кажущийся крепким изначально фронт стояния за независимость Великого княжества Литовского был разрушен отпадением от него русско-украинских послов и сенаторов. В этом и заключалась великая трагедия Люблинской унии, ставшая впоследствии трагедией для всего белорусско-литовского и русско-украинского народов.
Объявление унии между Великим княжеством Литовским и Польшей было назначено на 28 июня 1569 года. К 10 часам утра этого дня в городском замке собрался весь состав сейма. От имени сенаторов и послов ВКЛ на собрании с пламенной речью выступил все тот же Ходкевич. Он взывал короля сохранить привилегии Великого княжества Литовского и государственную печать его «ради чести бывшего Литовского государства», целость которого защищали своею кровью белорусы, литовцы и русины-украинцы. «Нам уже не к кому обратиться за помощью, – со слезами говорил Иван Ходкевич, – разве только к Богу и к вам, милостивый государь наш, как защитнику наших прав и Божию помазаннику… Приносим вам нижайшую просьбу: так провести к концу это дело, дабы оно не влекло за собою порабощения и позора нам и потомкам нашим… Мы теперь доведены до того, что должны с покорною просьбою пасть к ногам вашего величества». При этих словах все белорусско-литовские послы и сенаторы пали на колени, а Ходкевич продолжал: «Именем Бога умоляем тебя, государь, помнить нашу службу, нашу верность тебе и нашу кровь, которую мы проливали для твоей славы. Благоволи так устроить нас, чтобы всем нам была честь, а не посмеяние и унижение, чтобы сохранены были наше доброе имя и твоя государева совесть. Именем Бога умоляем тебя помнить, что ты нам утвердил своею собственною присягою». Белорусам и литовцам отвечал краковский архиепископ, вновь утешая их унией. Краткую речь сказал также король, в которой уверял белорусско-литовских послов в полной благосклонности к ним и заботе об их благе, как только они исполнят его волю об унии. На следующий день, в праздник св. апостолов Петра и Павла, в костелах Люблина уже пели «Тэ Дэум», а польские ксендзы призывали своих прихожан благодарить Бога за счастливое для Польши событие.

Герб Речи Посполитой.

ВКЛ на карте РП.
1 июля 1569 года белорусско-литовские сенаторы и послы были приведены к присяге на верность унии, т. е. фактически на включение своего государства в состав Польши. Все совершилось по воле короля и польской знати, мечтавшей об этом событии со времени Ягайлы. Великое княжество Литовское, которое ранее в три раза превосходило Польшу по территории, опустилось до уровня придатка польской короны. Тем самым после 350-летнего государственного бытия как суверенное государство оно перестало существовать. Великолитовские патриоты в течение 175 лет энергично защищали независимость своего государства от посягательства поляков, воевали за это с Москвой и крестоносцами, но в конце концов не выдержали и сдались на милость победителей-союзников. Но милости не последовало, так как цели и устремления польской стороны были прямо противоположными патриотическим чувствам белорусского и литовского народов.
На фоне драматической борьбы за свободу и независимость Великого княжества Литовского особенно ярко выделялись белорусско-литовские государственные деятели и патриоты, в первых рядах которых находились князья Радзивиллы: Николай Черный (умер в 1565 г.) и Николай Рыжий – воевода виленский, титуловавший себя: «Мы, Николай Радзивилл, Божиею милостию князь Олотский и Несвижский»; Иван Ходкевич – староста жмудский, Евстафий Волович – староста берестейский, Николай Нарушевич – подскарбий литовский и Пац – каштелян витебский, которые смело и энергично защищали интересы своего государства до последней возможности. И если бы не выход из их рядов русско-украинских сенаторов и послов, то Люблинская уния 1569 года, скорее всего, вызвала бы открытую войну Великого княжества Литовского с Польшей. Литовско-белорусские патриоты, не желая отдавать Польше свое государство, приготовлялись к такой войне и рассылали грамоты с призывом к ней. Поляки считались с возможностью войны, поэтому уже на Люблинском сейме обсуждали между собою меры по ее предотвращению. Эта военная угроза миновала лишь тогда, когда польскую сторону приняли русины-украинцы, а белорусы и литовцы были предоставлены своим собственным силам, да еще и находясь к тому же в состоянии войны с Московским государством. В такой ситуации они просто были не способны воевать с Польшей. Вот почему Иван Ходкевич, обращаясь к русско-украинским послам, и воскликнул на сейме с отчаянием: «Вы уже обрезали нам крылья!»
1 июля 1569 года договор об унии был подписан как поляками, так и литвинами, а 4 июля Сигизмунд II Август утвердил его. Договор представлял собой польский план унии и сводился к следующему:
1. Польша и Литва провозглашались единым содружеством (res publica), единым государством (unum regnum) и единым народом (unus populus).
2. Во главе Речи Посполитой стоял единый суверен с титулом «король Польский, великий князь Литовский», который избирался сенатом и шляхтой объединенного народа. Однако отныне избирательный сейм должен был собираться только в Польше.
3. Вновь избранный король после коронации обязан был дать клятву защищать свободы обоих народов, однако местом коронации объявлялся только Краков. Отдельной церемонии коронации на великое княжение литовское не предусматривалось.
4. Оба государства могли иметь один сенат и один сейм, являющиеся установлениями польской короны (коронными).
5. Внешняя политика Польши и ВКЛ провозглашалась единой, а земельные угодья граждане обоих государств могли приобретать в каждом из них на равных условиях.
Правда, вскоре жизнь показала, что легче было провозгласить эти принципы, чем воплотить их в реальную действительность. На самом деле полностью в состав Польши ВКЛ так и не вошло, сумев в значительной степени сохранить свою автономию и после Люблинской унии. Продолжал использоваться титул «великий князь Литовский», а все должности в правительстве и высшей администрации ВКЛ остались нетронутыми. Великое княжество Литовское сохраняло свой государственный герб и собственные своды законов (статуты), хотя их рекомендовалось пересмотреть для координации с польским законодательством. Ливония тоже оставалась совместным владением обоих государств. В дальнейшем развитии взаимоотношений между ВКЛ и Польшей автономия Великого княжества тоже подтверждалась часто и во многих аспектах. Например, договор об унии запрещал деятельность литовского сейма, но на самом деле это учреждение под названием «Головной сейм Великого княжества» было возрождено как предварительное совещание белорусско-литовских депутатов перед каждой поездкой на совместный сейм в Польше, которому литвины во многих случаях выражали свои протесты. Особенно ощущался автономный статус Великого княжества Литовского во время межкоролевья, когда Головной сейм фактически управлял страной. Ревизия двух первых статутов ВКЛ тоже была проведена литовско-русскими юристами, поэтому новый Статут (третий), одобренный королем Сигизмундом III в 1588 году, продолжил их традиции и был написан по-русски.
В своем предисловии к первому изданию этого Статута его издатель Лев Сапега писал: «Из всех народов нам было бы особенно стыдно не знать своих законов, поскольку они написаны нами на нашем собственном, а не на иностранном языке». Русский язык оставался официальным языком правительства, администрации и законотворчества Великого княжества Литовского еще на протяжении более чем столетия и только в 1697 году был заменен польским. Полное вхождение ВКЛ в состав Польши состоялось лишь 3 мая 1791 года, когда остатки литовской конституции были аннулированы положениями новой польской конституции. Однако к тому времени жить самой Речи Посполитой оставалось всего несколько лет.
Что касается взаимоотношений между социальными группами в ВКЛ, то после Люблинской унии привилегированное положение вельмож в Великом княжестве значительно пошатнулось. В политическом отношении теперь на первый план выдвинулась шляхта, тогда как совет вельмож (паны-рада) вынужден был с этим смириться. Но главный удар уния нанесла по людям «русской веры». Теперь вся Западная Русь была разделена на две части, одна из которых (Беларусь) оставалась в составе ВКЛ, а другая (Украина) находилась под властью Польши. Поляки постепенно распространили свое влияние на основную часть украинского дворянства, но они не смогли добиться того же с украинскими казаками и крестьянами. Поэтому вскоре стало очевидным, что в Люблине Польша «проглотила» больше, чем она могла «переварить».
Речь Посполитая являлась конституционной сословной монархией во главе с выборным королем. Законодательным органом государства был двухпалатный парламент – коронный «польский» сейм, состоявший из сената (рады) и посольской избы. В высшую палату (сенат) входили наиболее знатные светские и духовные феодалы в количестве 150 человек. Первое место в сенате принадлежало примасу католической церкви, арцибискупу гнезненскому. Затем шли бискупы, кастеляне, воеводы и т. д. Сейм избирал королевскую раду на 2 года. Посольская изба состояла из 200 депутатов от шляхетских местных сеймиков. В 1696 году шляхте ВКЛ, как и польской шляхте, было дано право полного контроля за деятельностью короля и великого князя. Вальные (общие) сеймы рассматривали и принимали постановления на отдельных заседаниях сената и посольской избы. На общих заседаниях в случае совпадения постановлений они принимались, а затем после утверждения королем приобретали силу закона. Обязательным условием принятия всех решений было единогласие, либерум вето (свободное вето) рассматривалось как одна из важнейших «золотых шляхетских вольностей».
Во главе исполнительной власти стоял король, при избрании которого тоже сохранялось право вето. Король возглавлял сенат, «посполитое рушение», созывал сеймы, назначал на высшие должности, осуществлял внешнюю политику государства. Власть короля, однако, была значительно ограничена «золотыми шляхетскими вольностями». Наряду со свободным вето шляхта заключала с претендентом на польский престол «Пакта конвента» – договор, согласно которому король возлагал на себя ряд обязанностей по решению внутренних и внешних проблем. Если король действовал против правил, то шляхта могла выступить против него, созвать конфедерацию (союз вооруженной шляхты). Свободное вето и конфедерации были мощным оружием борьбы различных феодальных группировок за власть в государстве и легальной формой феодальной анархии.
Во второй половине XVI – первой половине XVII века король Речи Посполитой мог занять престол великого князя Литовского лишь с согласия представителей ВКЛ, что подтверждалось особым актом. Король непосредственно участвовал во внешнеполитической деятельности государства, принимал иностранные посольства и направлял посольства Речи Посполитой за границу. Кроме того, он мог воздействовать на внешнюю политику государства косвенно, используя предоставленное ему право на раздачу должностей и источников доходов. Общее руководство дипломатической деятельностью Речи Посполитой в конце XVI и XVII веке осуществляла королевская канцелярия во главе с канцлером. Он занимался формированием посольств и направлением их за рубеж, руководил составлением дипломатических документов и подписывал их, принимал донесения послов (обращения послов к королю были формальностью). В некоторых случаях канцлер мог принимать иностранные посольства от имени короля (в присутствии сенаторов и маршалка посольской избы). Канцлер являлся хранителем государственной печати, которой скреплялись международные договоры. Заместителем канцлера был подканцлер, который в отсутствие канцлера выполнял его обязанности. Подканцлер являлся хранителем «малой» государственной печати. Работниками канцелярии были писари и секретари, которые назначались канцлером либо подканцлером и утверждались государем (круг полномочий этих должностных лиц не был четко определен).
Главную роль в Речи Посполитой играла шляхта. Другие сословия никаких политических прав не имели. ВКЛ после Люблина выступило против польской программы создания унитарного государства, поэтому обе части Речи Посполитой имели относительную самостоятельность, ограниченную лишь деятельностью единого польского короля и сейма Речи Посполитой. Не было общих министров по внутренним и внешним вопросам, единого судебного учреждения. Не была ликвидирована граница между ВКЛ и Польшей, не была введена единая денежная единица. Статут 1588 года запретил иноземцам приобретать земли и поместья в княжестве, а также должности. Однако процесс ополячивания шляхты ВКЛ через приобщение ее к польским шляхетским вольностям шел. В многонациональном Великом княжестве Литовском с течением времени сформировалась новая общность – народ шляхетский, состоящий из шляхты, объединенной едиными правами и привилегиями, единой религией (католицизмом) и польским языком.
Роковую услугу в деле присоединения Великого княжества Литовского к Польше оказали и Ливонская война Московского государства с ВКЛ, начавшаяся из-за Ливонии и Смоленска. В этой войне московское войско опустошило северную часть Беларуси до самой Вильни. Поляки злорадно следили за ходом военных действий и радовались тому, как их союзник истекает кровью. Расчет был прост – чем больше воеводы Великого княжества Литовского потеряют сил в войне, тем менее они будут опасны в деле присоединения их государства к Польше. Поляки стали немного помогать ВКЛ лишь тогда, когда заслышали в московских речах притязания на Киев, Волынь, Подолию и даже Галицию, но помогали плохо, показывая больше задор, чем усердие и умение. Истомленное войною Великое княжество Литовское и Русское предложило Ивану Грозному мир, уступая Москве Полоцк и Смоленск. Но Иван IV отказал послам ВКЛ в присутствии своих бояр словами: «За королем наша вотчина извечная: Киев, Волынская земля, Полоцк, Витебск и многие другие города русские, а Гомель отец его взял у нас во время нашего малолетства: так пригоже ли с королем теперь вечный мир заключать?» Война продолжалась, но желанного результата Ивану Грозному она не принесла. Впоследствии поляки откровенно говорили, что московско-литовская война пригнала Великое княжество Литовское к унии с Польшею, то есть Москва помогла полякам забрать это княжество себе, что в конце концов привело к огромным бедам и в самом Московском государстве, вылившись в длительную и крайне разорительную смуту всех против всех.
Последний этап Ливонской войны, или первая польско-московская война
В 1572 году в Варшаве умер бездетный польский король Сигизмунд II Август. С его кончиной в Польше прервалась династия Ягеллонов. Выборы нового короля затянулись на четыре года. В 1573 году на польский престол был избран Генрих III Валуа, но правил он номинально, а через год и вовсе сбежал из страны. Безвластие и политическая анархия в Речи Посполитой временно облегчили Москве борьбу за Прибалтику. В этот период московская дипломатия проведет активную работу с целью провести на польский престол московского царя. Кандидатура Ивана Грозного пользовалась определенной популярностью в среде мелкого шляхетства, которое было заинтересовано в нем как правителе, способном покончить с засилием крупной аристократии. Кроме того, литовско-русская знать ВКЛ надеялась с помощью Грозного ослабить польское влияние. Многим в Литве и Польше импонировало сближение с Московским государством для совместной защиты от экспансии Крыма и Турции.
В свою очередь Варшава видела в выборе Ивана Грозного удобную возможность мирного подчинения Московского государства и открытия его границ для польской дворянской колонизации, как это уже случилось с землями Великого княжества Литовского на условиях Люблинской унии. А Иван IV, наоборот, добивался польского престола прежде всего для мирного присоединения к Московскому царству Киева и Ливонии, с чем Варшава категорически не соглашалась. Трудности соединения столь полярных интересов привели в конечном счете к провалу московской кандидатуры. В 1576 году польским королем был избран трансильванский князь Стефан Баторий, человек образованный (закончил Падуанский университет) и решительный. Этот выбор разрушил надежды московской дипломатии на мирное решение ливонского спора. Параллельно правительство Ивана IV вело переговоры с австрийским императором Максимилианом II, стремясь добиться от него поддержки в расторжении Люблинской унии и разъединении Литвы с Польшей. Но Максимилиан отказался признать права России на Прибалтику, и переговоры окончились безрезультатно.