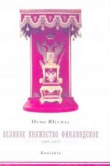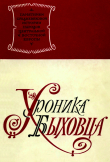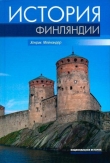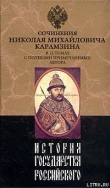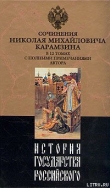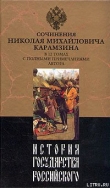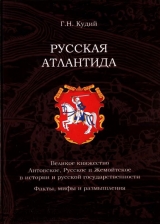
Текст книги "Русская Атлантида
Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское в истории и русской государственности. Факты, мифы и размышления"
Автор книги: Геннадий Кудий
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Прелюдия белорусского «Потопа» – Хмельниччина
Как бы то ни было, Смоленская война закончилась, в Великом княжестве Литовском и частично Польше настал период относительной стабилизации: так называемое «золотое спокойствие» – 14 лет правления Владислава IV Вазы, оказавшихся последней (исключая правление Яна III Собеского) стабильной эпохой в истории Польско-Литовского государства. Владислав IV избавил Речь Посполитую от активного участия в Тридцатилетней войне, заботился о сохранении религиозной терпимости, провел военную реформу и выступал против магнатов, стремясь укрепить королевскую власть, правда не очень успешно. Король также сумел подавить два казацко-крестьянских восстания на Украине в 1637 и 1638 годах.
Восставшие казаки, равно как и крестьяне, нигде и никогда не отличались толерантностью. В городах Лубны и Лохвица, например, они разрушили костелы и синагоги, убили всех ксендзов, немало простых католиков и евреев. Но и подавлявшие бунт польские войска вели себя не многим лучше. Подавив восстание в названных городах, они казнили лютой смертью его предводителя Павлюка, а всю дорогу от Днепра до Нежина уставили кольями с посаженными на них восставшими холопами. Права и вольности казаков тоже были ограничены, многих из них прикрепили к земле и обязали работать на панов, а за малейшую попытку к восстанию беспощадно наказывали. «И мучительство фараоново, – записано в малороссийской летописи, – ничего не значит против их тиранства. Ляхи детей в котлах варили, женщинам выдавливали груди деревом и творили иные неисповедимые мучительства». Все это подогревало страсти и долго продолжаться не могло. В общем, не успело все более-менее стабилизироваться в стране, как беда вновь постучалась в двери – начинается новая фаза масштабной драмы в пределах Речи Посполитой – Хмельниччина.
Владислав IV скоропостижно умер 20 мая 1648 года в местечке Мареча по пути к своим войскам. Ходили слухи, что его отравили. Король не оставил наследников, поэтому в государстве наступило «бескоролевье» и замаячили тяжелые выборы нового правителя. Но еще до смерти короля весной 1648 года на Украине вспыхнуло новое мощное казацкое восстание, вскоре переросшее в великую казацко-крестьянскую войну против Короны польской. Ее обычно называют освободительной, хотя на самом деле она была гражданской. Стараниями Богдана Хмельницкого в том же году военный пожар перекинулся на Великое княжество Литовское, прежде всего на его белорусские земли, где эта война стала стопроцентно гражданской. Дело в том, что казацкие загоны, присланные Богданом Хмельницким в ВКЛ, по большей части состояли из литвинов и белорусцев, в свое время удравших на Украину в поисках лучшей доли. А карательная армия княжества во главе с гетманом Янушем Радзивиллом (представитель литовско-белорусского магнатского рода, сын Христофора Радзивилла), усмирявшая их, тоже состояла преимущественно из белорусов.
До середины XVII века Речь Посполитая была одним из сильнейших государств Европы в военном отношении. Ее полководцы с успехом громили турок и крымских татар, шведские и московские рати. Главной ударной силой польско-литовской армии была кавалерия, прежде всего тяжелая конница. Редкий противник мог выдержать мощный удар сомкнутого строя закованных в латы знаменитых крылатых гусар. Пехота и артиллерия Речи Посполитой были гораздо слабее, уступая соседним странам. Но со второй половины XVII века военное могущество Польского королевства и Великого княжества Литовского стало стремительно иссякать. Шляхта все реже желала вотировать налоги на войско и стремилась поддерживать мирные отношения с соседями, даже если их политика была откровенно агрессивной по отношению к Польско-Литовскому государству. Нередко доходило до курьезных ситуаций. Шляхетские сеймики не выделяли средства на собственную армию, но когда надо было откупиться от следовавших через восточные воеводства Речи Посполитой московских войск и сохранить от разорения собственные имения, то они оперативно утверждали необходимые для этого налоги. Во время непрерывной череды войн в 1650-1670-х годах долги перед армией достигали астрономических сумм, поэтому войско зачастую собиралось только к концу лета, когда военную кампанию надо было уже завершать. Кроме того, после окончания войны сейм непременно требовал от короля и гетманов немедленного роспуска армии.
Разумеется, с государством, не имевшим постоянной боеспособной армии, со слабой центральной властью и пустой казной соседние державы считались все меньше. Во второй половине XVII века дипломаты соседних стран начинают активно пользоваться внутренней слабостью Речи Посполитой, чтобы подчинить ее своему влиянию. Наиболее активно в этом направлении действовали агенты Австрии, Франции, римского папы, Бранденбурга-Пруссии, а начиная с XVIII века и России. Папские нунции пытались столкнуть Речь Посполитую с Турцией в интересах Австрии. Бранденбургский курфюрст намеревался подчинить польско-литовскую внешнюю политику своим интересам в Прибалтике. Но главными игроками на польской арене тогда были Австрия и Франция, соперничавшие между собой за европейскую гегемонию. Французский король Людовик XIV строил планы создания антигабсбургского «восточного барьера», куда по замыслу Короля-Солнце должны были войти Польша, Турция и Швеция. В самой Речи Посполитой крупные группировки магнатов ориентировались кто на Париж, кто на Вену и вели между собой ожесточенную борьбу. При этом каждая «партия» считала, что именно она руководствуется «благом республики» и действует в интересах всего шляхетского «народа». С середины XVII века Речь Посполитая была ввергнута в масштабные войны с соседями, которые поставили шляхетскую республику на край гибели. Однако началось все с потрясений внутренних, о которых здесь необходимо сказать особо.
Как отмечалось ранее, согласно Люблинской унии 1569 года земли Великого княжества Литовского – Волынь, Киевщина и Брацлавщина были присоединены к Польскому королевству. Случилось это не без активной помощи местной украинской шляхты и казацкой старшины, соблазненных посулами шляхетских вольностей, равных польским шляхетским свободам. Фактически же произошла польская колонизация плодородных земель юго-восточных окраин Речи Посполитой, т. е. Украины, или Малороссии. Польские магнаты, получая от короля в вечное владение обширные и малозаселенные украинские земли (как тогда назывались земли Киевского, Брацлавского, а чуть позднее и Черниговского воеводств), привлекали туда переселенцев из внутренних районов страны, освобождая их на несколько лет от налогов. Так в Малороссии появились обширные латифундии панов Вишневецких, Любомирских, Конецпольских, Заславских, Собеских и других польских магнатов, а социальное напряжение очень быстро получило национальную окраску.
Эксплуататор, или пан, отождествлялся с поляком, или шляхтичем. Хотя, откровенно говоря, в казацких войсках Хмельницкого было полно украинской шляхты. Но Богдан Хмельницкий умело воспользовался обстоятельствами, чтобы придать войне национальный характер: Украина против Польши. А на самом деле украинская шляхта воевала и с той и с другой стороны. В общем, оказалось, что претензии населения украинских земель к Великому княжеству Литовскому столетней давности, хотя и имели под собой основания, были несравнимы с его нынешними претензиями к Польше, поскольку жить в ВКЛ украинцам было много лучше и свободнее, чем в Польском королевстве. Однако обратно ходу уже не было.
В Беларуси ситуация была иной. Шляхта в массе своей осталась на стороне государственных интересов и не поддержала казацкое восстание. Здесь государственный патриотизм оказался более мощным, а политическая культура и гражданское сознание – более развиты, да и владений польских магнатов в ВКЛ практически не было. Поэтому Януш Радзивилл довольно эффективно провел войну против казаков, одержал много блестящих побед и к 1651 году сумел фактически стабилизировать ситуацию. Но ненадолго.
В XVI веке в низовьях Днепра за порогами возникло Запорожское казачество и его укрепленный лагерь – Сечь. Запорожское, равно как Донское и любое прочее казачество, формировалось из самых разных людей, уходивших на Нижний Днепр (Низ) и Дон в поисках вольной жизни, ради охоты, промыслов и разбоя. Постоянная борьба с крымскими татарами, кочевавшими в Диких полях, сделала из казаков опытных и закаленных воинов. Они стали совершать регулярные набеги на соседние государства – в первую очередь на Крым и Турцию, проявив себя умелыми мореходами и мастерами абордажного боя. Украинское казачество той поры представляло собой полувоенное, полукрестьянское сословие, не желавшее подчиняться кому бы то ни было, но в определенный момент выступившее главной движущей силой в войне за освобождение Украины от власти «ляхов и жидов».
В 1620 году казаки захватили и сожгли Варну. В этом же году в битве под молдавской Цецорой погиб отец Богдана Хмельницкого, а сам будущий гетман попал в плен, где провел два года. А в двадцатые годы XVII века казаки уже не упускают ни одной возможности добраться до турецких берегов. Продвигаясь от Дуная к Стамбулу на ладьях-чайках, они сожгли Буюкдере, Зенике, Здегну. Чтобы воспрепятствовать проходу казаков к Стамбулу, туркам пришлось даже перетянуть через Босфор древнюю цепь, которую использовали еще византийцы сотни лет назад, защищая Константинополь от славянских набегов. Вести об успехах казаков на море быстро распространились по всей Украине, и в 1623 году под командованием гетмана Жмайло собралось уже 10-тысячное войско. Казаки взяли Трапезунд, а затем и Синоп. Недалеко от города их встретил турецкий флот из 43 кораблей и галер. 400 турецких судовых пушек стали обстреливать казацкие чайки, но казаки контратаковали, а несколько сотен из них даже забрались на флагманский корабль «Баштарду», где находился паша Решид. Лишь начавшийся шторм позволил туркам оторваться и уйти в сторону Стамбула, пленив при этом 270 казаков, уже забравшихся на борта их кораблей.
В 1624 году, высадившись с 80 чаек, казаки захватили и разграбили город Кафу, освободив тысячи соотечественников. Весной 1625 года на 86 чайках они снова разграбили многие портовые города Османской империи и даже подходили к предместьям Константинополя. В 1631 году запорожцы и донцы совершили новый поход в Крым: 1500 казаков два раза захватывали и грабили Инкерман, разбили татар под Машуном и разорили окрестности Бахчисарая. Спустя два года они обогнули Крым, прошли Керченский пролив и неожиданно напали на Азов, разрушили и сожгли его, после чего благополучно ушли в Запорожскую Сечь. Далее продолжалось в том же духе. При этом запорожцы активно и небезуспешно продают свои воинские услуги всем желающим окрест и даже вдалеке, например в Австрии, Франции и Бельгии, короче везде, где за них готовы были платить.
Турецкий султан постоянно требовал от польского короля урезонить казаков, которые формально считались его подданными, тогда как сами запорожцы требовали от королевского правительства выплаты денежного жалованья, поставок оружия и провианта, но главное – признания за ними прав военно-служилого сословия, равного шляхте. Это вызывало недовольство магнатов, не желавших терпеть на украинских землях каких-либо конкурентов своей безраздельной власти. Начались конфликты. Казаки много раз восставали, но их восстания беспощадно подавлялись. Был учрежден специальный «реестр» для казаков, которых Польское королевство брало на службу и которым обязывалось платить жалованье (но делало это не всегда).
Численность реестрового казачества была невелика – в разное время она колебалась от 1 до 8 тысяч человек, так что «реестр» явно не мог вместить всех желающих. Кроме того, при возникновении угрозы войны с турками или с Москвой польский сейм обычно санкционировал увеличение казацкого войска, но как только опасность ослабевала – польские гетманы жестко требовали исключения из числа казаков всех, набранных сверх численности «реестра». Таким образом, нереестровые казаки (беглые крестьяне) вновь становились объектом преследований «кресовых» (от польск. kresy – окраины) панов. Одновременно под влиянием роста крепостного гнета в Речи Посполитой число беглецов на Низ постоянно росло, а народец этот был буйным. Масла в огонь добавило заключение Брестской церковной унии 1596 года, когда большинство православных епископов Речи Посполитой во главе с киевским митрополитом признали верховную власть папы римского и приняли католическую догматику. Казаки активно поддержали борьбу православных мещан и шляхты против унии. Отныне они поднимались на борьбу не только за свои сословные права, но и под знаменем защиты православия.
В 1644 году Богдан Хмельницкий в чине полковника реестрового казацкого войска и как влиятельный член казацкого посольства к польскому королю участвовал в переговорах с французским послом графом де Брежи, который хотел уговорить лидеров казацкого войска принять участие в войне Франции против Испании. Во французских архивах сохранились письма де Брежи к своему королю, в которых он сообщает, что Хмельницкий – «человек образованный, умный, прекрасно владеющий латынью…» (Хмельницкий хорошо говорил на турецком, татарском и русском языках, писал и свободно говорил на латыни и по-польски). Вообще, посол угадал в Хмельницком будущего казацкого вождя и гетмана украинской державы. Королю о Хмельницком он писал неоднократно и сообщал, что «если войны с турками не будет, Хмельницкий готов помочь мне в этом деле». В общем, ради денег и власти Хмельницкий был готов на многое.
В 1647 году православный украинский шляхтич Богдан Зиновий Хмельницкий, у которого его враг поляк Даниил Чаплинский сжег хутор, похитил любимую женщину и женился на ней по католическому обряду, не найдя поддержки у властей, бежал на Запорожье. Будучи выбранным там гетманом (старшим) и заручившись поддержкой крымских татар, в 1648 году он начинает войну против Короны польской, быстро переросшую в гражданскую (национально-освободительную) войну украинского народа против засилья польской знати и тесно сотрудничавших с ней евреев. Эта война до основания потрясла устои Польско-Литовского государства и сильно повлияла на его дальнейшую судьбу.
Совместное казацко-татарское войско сразу же разбило поляков при Желтых Водах и у Корсуни, после чего восстание охватило все восточное Приднепровье. Далее казацкие отряды Хмельницкого одерживают победу за победой и в короткий срок очистили от польских войск все Левобережье Днепра, Киевщину и Брацлавщину. Отряды крестьян, горожан и казаков под предводительством атаманов Кривоноса, Гани, Морозенко и старшего сына Богдана Хмельницкого Тимофея громили польские поместья, убивали католиков и евреев, оскверняли и уничтожали без пощады костелы и синагоги. Даже православные ремесленники и торговцы, как отмечали современники, часто гибли лишь за то, что носили польское платье или же брили себе голову по польскому обычаю. Запорожское войско Хмельницкого быстро росло, а мещане украинских городов устраивали ему торжественные встречи как освободителю от «ляшской» (польской) неволи.
Другой характерной особенностью казацкой освободительной войны была ее ярко выраженная антисемитская направленность, во многом принявшая форму геноцида. Такие вещи нельзя оправдать, но просто так они тоже не рождаются. Причину в данном случае, видимо, можно назвать одну – «достали». Массово Польское королевство и Великое княжество Литовское стали принимать евреев в пору гонений на них в Западной Европе, тоже весьма жестких. Причем еврейские общины в Речи Посполитой пользовались немалыми льготами, включая судебную экстерриториальность, которых и в помине не имели ее коренные жители. Иудеи составляли очень значительную и влиятельную часть городского и местечкового населения страны. Многие из них были богаты и политически влиятельны, так как ссужали деньгами и государство, и лично власть имущих под немалые проценты и залог их собственности. А чтобы вернуть долги с прибылью, в последующем эту собственность нещадно эксплуатировали сами или заставляли это делать своих должников, усугубляя в конечном счете тяготы простого населения – крестьян, мещан, купеческого сословия и даже шляхты. Одним словом, от еврейского ростовщического капитала в немалой степени страдали все, поэтому восставшие воспринимали евреев как польских ставленников и кровопийц, которые теперь наконец-то должны ответить за все – и за грехи своих хозяев, и за собственные деяния.
Какую-то толику антисемитских настроений подогревала и церковная пропаганда вроде утверждения «жиды распяли Христа», но вряд ли она имела решающий характер. Как бы то ни было, на практике эти умонастроения выливались в чудовищные зверства, носившие всеобщий характер. Хронист той поры Натан Гановер писал: «С одних казаки сдирали кожу, а мясо кидали собакам; другим наносили тяжелые раны, но не добивали, а бросали их на улицу, чтобы они медленно умирали; многих же закапывали живьем. Грудных младенцев резали на руках матерей, а других разрывали как рыбу. Беременным женщинам вспарывали животы, вынимали ребенка и хлестали им по лицу матери, а иным вкладывали в живот живую кошку, зашивали живот и обрубали несчастным руки, чтобы они не могли вытащить кошку. Иных детей прокалывали пикой, жарили на огне и подносили матерям, чтобы они отведали их мяса. Иногда сваливали кучи еврейских детей и делали из них переправы через речки для проезда… Татары же брали евреев в плен, их жен они насиловали на глазах у мужей, а красивых забирали себе в качестве слуг или наложниц. Подобные жестокости казаки творили и над поляками, в особенности над их священниками».

Польско-еврейский погром.
В том же духе высказывался русский историк девятнадцатого века Николай Костомаров: «Самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям: они осуждены были на конечное истребление, и всякая жалость к ним считалась изменою. Свитки Закона были извлекаемы из синагог: казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них иудеев и резали без милосердия; тысячи иудейских младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землею… В одном месте казаки резали иудейских младенцев и перед глазами их родителей рассматривали внутренности зарезанных, насмехаясь над обычным у евреев разделением мяса на кошер (что можно есть) и треф (чего нельзя есть), и об одних говорили: это кошер – ешьте, а о других: это треф – бросайте собакам!».
Кстати, во время польского «Потопа» (когда шведы в 1655 году вторглись в коронные земли самой Польши и быстро овладели страной (они захватили весь центр государства, Великую и Малую Польшу, Познань, Калиш, Варшаву и Краков), польские еврейские общины добровольно выплачивали интервентам чрезвычайные военные налоги (правда, при желании те могли взять их и сами). Во время вспыхнувшего вскоре в Польше народного восстания против Швеции во главе с партизанским вождем Стефаном Чарнецким это им сразу поставили в вину. И, когда летом 1656 года отряды Чарнецкого отвоевывали у шведов город за городом, параллельно они нещадно громили и еврейские общины под предлогом того, что евреи сочувствовали или помогали шведам. Были уничтожены общины Бреста, Гнезно, Лешно, Плоцка, Ленчице и Калиша, многие синагоги разрушены, убитые исчислялись тысячами, а голод и чума довершили опустошение. Улицы были завалены трупами, и псы пожирали их. В еврейских летописях Стефана Чарнецкого называли «злодеем», «врагом» и «палачом в Великой Польше». Именно поэтому многие евреи тогда эмигрировали в Вену, Прагу, Амстердам, Гамбург и другие города, где об их польском происхождении по сей день напоминают фамилии вроде Поляк, Полак, Полячек, Полякко, Поликер, Ляховер, Лехно. В общем, в католической Польше произошло примерно то же, что и в православной Украине (в левобережной ее части, например, сразу после 1653 года не осталось ни одного еврея, так как казаки запретили им туда возвращаться). Такие совпадения случайными не бывают.
Но вернемся к казачьей проблеме, на тот момент, безусловно, главной для Речи Посполитой. С восточного берега Днепра восстание перекинулось в центральную Украину, к Киеву, а затем и в западную Украину, на Волынь и Подолию. Боясь оставаться в деревнях и местечках, шляхтичи, евреи и католики убегали в укрепленные города и попадали там в ловушку. В городе Баре, что в Подолии, было шестьсот еврейских семей, и туда же из окрестных мест сбежались еще многие. Несмотря на отчаянное совместное сопротивление поляков и евреев, казаки сделали подкоп, взяли город штурмом, после чего атаман Кривонос «со всех жидов живьем шкуры посдирал».
Примерно в то же время восстание охватило и юго-восточную Беларусь, где первые казацкие отряды под командованием Головацкого появились в мае 1648 года. Вместе с местными крестьянами они начали громить шляхетские имения в районе Брагина и Лоева. Вскоре казаки Головацкого вернулись на Украину, но вместо них в Беларуси один за другим появились посланные Богданом Хмельницким отряды Небабы, Кривошапки, Микулицкого, Горкуши, Соколовского, Бута и других казацких предводителей. Казаки и восставшие крестьяне в первую очередь уничтожали шляхтичей, католических священников и евреев. В Чернигове еврейская и польская общины были уничтожены полностью. То же повторилось в Стародубе, откуда казаки пошли на Гомель. Здесь они «совершили страшное избиение: били несчастных кольями, чтобы медленно умирали. Кучами падали мужья, жены, дети. И не было им погребения, и псы и свиньи поедали валявшиеся трупы». Согласно официальному донесению вяземского воеводы в Москву, в Гомеле было уничтожено до двух тысяч евреев, «а ляхов с шестьсот человек; из белорусов же никого не побили и не грабили». К слову, по оценкам историков, в середине XVII века в Гомеле проживало едва ли более 4 тысяч человек.

Гомель в XVII веке.
Казаки под предводительством Кривошапки и Микулицкого сосредоточились у Поповой Горы – укрепленного замка над Беседью. Крупные силы казаков и крестьян под командованием полковника Кизимы накапливались около Брагина. Около Речицы были сосредоточены 3 тысячи казаков и крестьян под командованием полковника Кемки. Пунктом сосредоточения казацко-крестьянских отрядов был также Мозырь, жители которого восстали летом 1648 года. В Турове находилось около 2 тысяч повстанцев под командованием мещанина Кондрата Цевки. Восстал весь Пинский повет, а за ним весь юго-восток Беларуси.
Созванное в чрезвычайном порядке в Вильне совещание панов-рады (представители высшей феодальной знати Великого княжества Литовского) решило как можно скорее сформировать крупное войско и бросить его на подавление восстания. Руководство военными действиями возложили на гетмана Януша Радзивилла, особо заинтересованного в подавлении восстания, охватившего значительную часть его огромных имений. В качестве ударной силы в этой войне магнаты могли рассчитывать только на наемные войска и шляхту. Для сбора наемников требовались деньги и время, но эту проблему разрешили быстро – необходимые денежные суммы предоставили католическая церковь и еврейские общины. Открыли свои «шкатулы» и многие магнаты, лично нанимавшие отряды немецких, венгерских и шведских «рыцарей удачи». Постепенно начали собираться и поветовые хоругви. Отряды наемников и шляхтичей по приказу Януша Радзивилла концентрировались в районе между Слуцком и Минском. Но казаки и повстанцы пока брали верх. В частности, они разгромили крупный отряд Воловича около Речицы, нанятый Я. Радзивиллом, а вслед и отряд Мирского, тоже оплаченный из его средств. Но Януш Радзивилл решил бороться с повстанцами до победы и в конечном счете слово свое сдержал.
Опорным пунктом магнатов и шляхты в центральной части Беларуси стала Слуцкая крепость, прикрывавшая пути на Минск, Новогрудок и Вильню. Командовавший ее гарнизоном Ян Сосновский 15 августа сообщал Казимиру Леону Сапеге о разгроме отряда Мирского под Горвалем и о приближении казацких загонов к Слуцку. Он предупреждал подканцлера, что без подкреплений удержать Слуцк не сможет, так как горожане подготовили заговор. К тому же из-под Мозыря к Слуцку подошли 2 тысячи казаков и крестьян под предводительством Яна Соколовского. Януш Радзивилл выслал в Слуцк несколько хоругвей кавалерии, которые воспользовались беспечностью повстанцев и ночью скрытно вошли в город. Таким образом, в распоряжении Сосновского оказались силы, достаточные для того, чтобы предотвратить выступление горожан и отразить удары повстанцев. Взять Слуцкую крепость штурмом им действительно не удалось. Понеся значительные потери, повстанцы были вынуждены отступить к Мозырю.

Казацкая лава атакует пеший строй войск Януша Радзивилла.
Другим опорным пунктом магнатов и шляхты стала Старобыховская крепость, где сосредоточилось ополчение оршанских, витебских и мстиславльских шляхтичей во главе с князем Друцким-Горским и Яном Пацем. Гарнизон крепости также был усилен отрядами конницы и пехоты, посланными туда Сапегой, Сангушко и другими крупными феодалами. А вот Бобруйск сдался без боя. Его жители не оказали сопротивления казацко-крестьянским отрядам Горкуши и впустили их в город. Соответственно местного старосту повстанцы утопили в Березине, а все костелы были разгромлены. Так же поступили и жители Бреста – когда в начале сентября 1648 года к городу подошли посланные Хмельницким казаки, его жители подняли восстание и присоединились к ним. Ополчение брестских шляхтичей в боях с казацко-крестьянскими отрядами понесло большие потери. Около Виснич повстанцы уничтожили крупный отряд шляхтичей во главе с брестским каштеляном Казимиром Тышкевичем, а окружив Кобрин, разгромили находившуюся там кавалерийскую хоругвь стольника Великого княжества Литовского Викентия Корвин-Гонсевского и захватили большие трофеи: конное снаряжение, обоз и лошадей.
10-13 сентября 1648 года под Пилявдами на Украине состоялась грандиозная битва между казацко-крестьянскими отрядами и магнатско-шляхетским войском. После этой битвы, в которой полегло 30 тысяч коронного войска, магнатов и шляхту ВКЛ и Польши охватила паника, которая увеличивалась в связи с общим плачевным состоянием Речи Посполитой. Украина и Беларусь пылали в огне народных восстаний, военные силы Польши были разгромлены, а казна опустошена. Внутриполитическая обстановка крайне осложнялась борьбой различных магнатских группировок в связи с выборами нового короля взамен умершего Владислава IV, а Богдан Хмельницкий после победы под Пилявдами послал к Бресту, Пинску и Мозырю новые казацкие отряды.

Алексей I Михайлович (1629–1676).

Ян II Казимир Ваза (1609–1672).
Но выборы нового короля тогда имели определяющее значение, и Хмельницкий тоже принимает участие в этом процессе, поскольку его казаки осенью 1648 года стояли у стен крепости Замостье близ Варшавы, которую обороняла почти вся шляхта под руководством Людвига Вейгера. Узнав о том, что сейм избрал магната Вишневецкого, претендующего на польский трон и люто ненавидящего украинцев, командующий польской армией Хмельницкий принимает сторону Яна Казимира. Он грозит: если последний не станет польским королем, то казаки не вложат сабли в ножны и не уйдут из Польши. 17 ноября 1648 года сейм избрал королем Речи Посполитой Яна II Казимира Вазу (правил в 1648–1668 гг.), сводного брата Владислава IV. Хмельницкий тоже голосует за него, хотя на тот момент он, наверное, мог разогнать сейм и даже взять Варшаву. Поляки говорили, что Бог наказал тогда гетмана слепотой. Но тот, скорее всего, просто не хотел рисковать, так как добыча, взятая казаками в польском походе, была очень велика, а жертвовать ею даже во имя решения важной стратегической цели казаки большим желанием не горели. Тем более что результат был непредсказуем.
На годы правления Яна Казимира пришлось три войны, до основания потрясшие Речь Посполитую. В 1648–1649 и 1651–1654 годах в юго-восточной части Польско-Литовского государства шла ожесточенная гражданская война, которая получила название восстания Хмельницкого, или национально-освободительной войны украинского народа. В 1654–1667 годах Речь Посполитая воевала с Московским царством за Беларусь и Украину. В 1656–1660 годах эта война прерывается из-за начала польско-шведской войны (1655–1660), названной «Шведский потоп», во время которой почти все Польское королевство была захвачено и донельзя разорено шведами. Наверное, не выдержав всего этого, в 1668 году Ян Казимир отрекся от польского престола и ухал во Францию, где стал игуменом монастыря святого Германа.
Но это было потом. Пока же возможность совместных боевых действий народных масс Украины, Беларуси и Польши пугала феодалов Речи Посполитой. Отправляясь в середине октября 1648 года с отборными отрядами наемников и шляхты на выборный сейм в Варшаву, Януш Радзивилл все остальное свое войско двинул к Пинску и Бресту. Командовал им воевода Мирский. Здесь важно заметить, что Радзивилл даже не посчитался с тем, что отряды повстанцев уже действовали около Мстиславля, Могилева, Березино, а его личные владения остались без прикрытия.
Войско Мирского направилось к Хомску, чтобы перерезать дорогу казацко-крестьянским отрядам, действовавшим около Бреста и Кобрина, в случае если бы они попытались оказать помощь пинским повстанцам. Узнав о приближении противника, жители Пинска вместе с казаками начали готовиться к обороне. Они укрепляли городские стены, перекапывали рвами улицы, устанавливали рогатки. Ремесленники из свинцовых рам костельных и монастырских окон отливали пули.
В конце октября 1648 года кавалерия Мирского заняла Хомск, где и остановилась, ожидая, пока подтянутся пехота и артиллерия. К Хомску собрались также бежавшие из Пинска шляхтичи и католическое духовенство. Пинский войт Лукаш Ельский решил расправиться с повстанцами, не ожидая подхода главных сил. Утром 26 октября кавалерийский отряд наемников и шляхтичей ворвался в Пинск, но около иезуитского костела передние всадники внезапно остановились: мост через ров оказался разобранным. Смешавшиеся наемники и шляхтичи заполнили узкую улицу. Повстанцы, засевшие в иезуитском костеле и в других зданиях, открыли сильный ружейный огонь по скоплению противника. Бросая убитых и раненых, наемники и шляхтичи пустились в беспорядочное бегство. Повстанцы успели перегородить улицу повозками, затруднив противнику бегство, и в ожесточенной схватке у городских ворот довершили его разгром.
Уцелевшие наемники и шляхтичи собрались в деревне Ставок. Ельский послал к Мирскому за подкреплениями. К этому времени в Хомск прибыли пехота и артиллерия. 30 октября Мирский осадил город. Повстанцы сделали вылазку, но после непродолжительного боя были вынуждены отступить и укрыться за городскими стенами. Ельский отправил повстанцам письмо, в котором требовал, чтобы они прекратили сопротивление, выдали казаков, а «головы свои склонили к покорности». «Если вы не сделаете этого, – угрожал Ельский, – то познаете над собой, женами и детьми вашими строгую кару». Жители Пинска проявили исключительную стойкость. «Лучше погибнем сами, чем выдадим тех, кто веру нашу защищает», – отвечали они карателям.