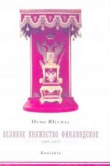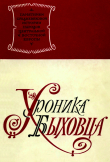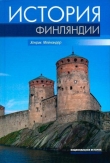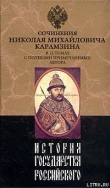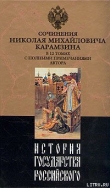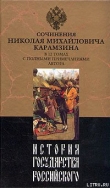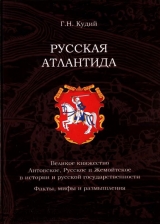
Текст книги "Русская Атлантида
Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское в истории и русской государственности. Факты, мифы и размышления"
Автор книги: Геннадий Кудий
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Государственное и правовое устройство
В XV – первой половине XVI века государственное и общественное устройство Великого княжества Литовского развивалось с учетом белорусской политической традиции, несмотря на то что все без исключения великие князья в нем по линии отцов были литовского (балтского) происхождения. Ближайшее окружение великого князя также в основном состояло из крупных феодалов-землевладельцев литовского происхождения, которые назывались панами. Из них и из родственников великого князя состоял высший государственный орган – рада (совет), или так называемая паны-рада. Они же, как правило, занимали высшие государственные и придворные посты.
Феодалы нелитовского происхождения первоначально мало участвовали в руководстве государством – не входили в состав рады и не голосовали при выборах великого князя. Если крупные литовские феодалы были подсудны только великому князю, то нелитовские – еще и представителям местной великокняжеской администрации. Но создаваемое таким путем расчленение общества по этнорелигиозным признакам сулило грядущие раздоры, что вскоре и случилось. После смерти Витовта растущая напряженность вылилась во внутреннюю войну начала 30-х годов XV века между претендентами на престол, в которой великого князя Литовского Свидригайло поддерживали значительные слои белорусско-украинского боярства. И только предоставление православным феодалам ВКЛ в 1434 году равных с католиками прав позволило склонить чашу весов в пользу литовско-польского претендента Сигизмунда Кейстутовича. В 1447 году права православных феодалов княжества были закреплены новым обширным привилеем, часто назваемым Великой хартией вольностей. Свою юридическую силу тогда сохранили только пункты городельской унии, запрещавшие некатоликам занимать главные государственные должности (центральные врады). Но практика общественно-политической жизни и религиозно-культурная ассимиляция членов правящей династии, получавших домены в глубине восточнославянского ареала, постепенно изживала и эти ограничения. Они уже не упоминаются в Литовском Статуте 1529 года и окончательно упраздняются в канун Люблинской унии в виленском и гродненском привилеях 1563 и 1568 годов.
При этом власть великого князя была ограничена, с одной стороны, крупными феодалами, а с другой – местными территориальными «привилегиями» (Полоцкая, Витебская, ряд других белорусских и русских земель пользовались значительной автономией). Главной функцией великого князя была защита целостности государства – он возглавлял вооруженные силы, от его имени издавались законодательные акты, вершился суд, велись дипломатические сношения с другими странами, объявлялись войны, заключался мир. Великий князь назначал на государственные должности и распоряжался государственным имуществом.
В XVI веке интенсивно развивается государственный аппарат: усложняется его структура, увеличивается численность, унифицируются местные органы, происходит централизация. Тогда же завершается процесс складывания и правового закрепления основных звеньев и функций государственного аппарата. Во главе государства, как и прежде, стоял монарх (господарь, великий князь Литовский, король польский). В соответствии с преамбулой Статута 1529 года должность господаря была выборной. При избрании он (великий князь) заключал ряд-договор, в котором обязывался соблюдать прежнее законодательство страны, новые нормативные акты принимать только с панами-радой, сохранять прежние права и льготы различных категорий населения и прежние должности (врады). Власть великого князя была ограниченной, так как любые важные вопросы он решал обязательно с участием панов радных.
Вторым по значительности высшим органом была рада (совет) или постоянно действующий коллегиальный орган, который фактически осуществлял реальную власть в государстве. Численный состав рады законодательно не был определен, а на практике колебался от трех до сорока человек в зависимости от важности рассматриваемых вопросов. Компетенция рады была столь широкой, что фактически ни один вопрос, относящийся к компетенции различных высших органов, не решался без его обсуждения в раде.
Роль рады в политической жизни государства постепенно возрастала. В 1413 году ее существование и права юридически закрепил Городельский привилей. За радой закреплялся статус государственного органа, который не только имел право, но и обязан был давать рекомендации великому князю. Привилеи 1492 и 1506 годов еще больше расширили права рады, связанные с ограничением великокняжеской власти. В дальнейшем этот процесс лишь набирал силу. Уже в XV веке в состав рады входили крупные светские и духовные феодалы (паны радные) – канцлер, гетман земский, маршалок дворный, католические епископы, православные митрополиты, воеводы и каштеляны виленские и трокские, воеводы смоленские, витебские, полоцкие, киевские, старосты жемайтский и луцкий (их должности приравнивались к воеводским), наместник гродненский. Чуть позже к ним добавились воевода подляшский, подскарбий земский и маршалок земский. Причем литовский этнический элемент в раде со временем перестал быть преобладающим.
Естественно, столь внушительный состав рады определял ее огромную роль в управлении государством. Постепенно к компетенции рады стали относиться вопросы дипломатических отношений, обороны, финансов. Раздача земель и назначение на должности тоже проходили с ее согласия. Без рады великий князь не мог издавать законы общего характера, расходовать государственные средства и т. д. Поскольку рада собиралась только для обсуждения наиболее важных дел, то из ее состава выделилась небольшая группа лиц, постоянно работавших при князе.
При этом важнейшие вопросы государственной жизни великие князья обсуждали не только с радой, но и с боярством (шляхтой) в целом. Именно на это сословие они опирались в тех случаях, когда могли прийти к согласию по какой-либо проблеме с высшей аристократической знатью и с удельными князьями. Уже при первых великих князьях практиковались совещания, вече, сеймы из военнослужащих и бояр. Правда, до 1566 года эти мероприятия носили неорганизованный характер, часто в них участвовали случайные, хотя и благородного происхождения, люди. Постепенно, однако, сеймы становятся общегосударственными (вальными). Порядок созыва таких сеймов в основном сложился в начале XV века. Великий князь приглашал на них ряд служебных лиц, княжат и представителей поветовой шляхты всех регионов. Но как сословно-представительный орган сейм ВКЛ (Бальный сейм) окончательно сформировался в XVI веке. В него входили представители шляхты, избираемые ежегодно от каждого повета по одному человеку, господар (великий князь), паны радные, католические и православные епископы, главы волостных и местных рад. По мере накопления опыта постепенно законодательно закрепляется порядок рассмотрения судебных дел на сейме, определяется его исключительная компетенция, но четко установленных сроков созыва сеймов, места и продолжительности их проведения не было. Сеймы собирались по мере необходимости в разных городах (Вильно, Гродно, Брест, Слоним и др.) и работали в течение нескольких дней или месяцев, но чаще всего 2–4 недели.
Компетенция сейма постоянно расширялась. Если в XV веке он созывался лишь для избрания великих князей, обсуждения вопросов войны, налогов, заключения уний и т. п., то уже в первой половине XVI века сейм начинает выполнять и законодательные функции. С середины XVI века состав сейма делился на государственный совет (сенат) и на поветовых послов-депутатов, составлявших Посольскую избу. Де-юре великий князь и сейм представляли собой как бы «две в одинаковой степени сильные стороны власти, нужные друг другу для эффективного управления государством», но в реальности сеймы со временем все больше превращаются в инструмент магнатской власти и шляхетской анархии. Тогда как великий князь, впрочем, как и король, наоборот, становятся лишь фигурой, отражающей интересы преимущественно той магнатско-шляхетской группировки, которая обеспечила его избрание на престол.
Под воздействием экономических и политических причин феодальное право ВКЛ как регулятор общественных отношений интенсивно развивалось в течение всей истории этого княжества. Данный процесс делится на два основных этапа – привилейный и статутовый. Первый из них датируется XIII–XV веками, т. е. приходится на период формирования ВКЛ как суверенного феодального государства. Именно тогда общеземское право, его отдельные отрасли и их институты складывались путем издания великими князьями грамот (привилеев). Нормы привилеев были обязательны для всего населения ВКЛ, в том числе и самих великих князей, как издавших грамоту, так и всех последующих. Таким образом, в ходе «привилейного» этапа правовой обычай как основной источник феодального права раннего Средневековья (IX–XII века) постепенно вытесняется нормативным актом (договор, грамота, постановление сейма).
Статутовый этап начинается тогда, когда общеземское право в основном уже сформировалось, но продолжало развиваться так динамично, что потребовало неоднократной дополнительной систематизации и кодификации. Вершиной этой деятельности стала разработка и издание Литовского Статута, который с определенной натяжкой можно считать конституцией Великого княжества Литовского и Русского. Во всяком случае, это был верховный закон ВКЛ, составлявший его правовую основу. Литовский Статут имел три издания – 1529, 1566 и 1588 годов. Все они вышли на старобелорусском (древнерусском, «книжном») языке того времени и устанавливают этот язык как государственный на всей территории Великого княжества Литовского для всех актов, судов и административных сношений.
Литовский Статут 1529 года (старый) был принят на виленском сейме и являлся кодексом (собранием) литовско-русских законов, состоявшем из 13 разделов, разделенных на 282 статьи. Считается, что этот Статут никогда не был напечатан и существовал только в рукописной форме. Он содержал немало устаревших и весьма суровых постановлений. Поэтому уже на берестейском сейме 1544 года встал вопрос о его исправлении и доработке. Пересмотр и новое издание «старого» Статута были осуществлены при короле и великом князе Литовском Сигизмунде Августе на сеймах 1564–1566 годов. Новая редакция, известная как второй Статут, была утверждена привилеем от 1 марта 1566 года.
Вскоре, однако, встал вопрос об очередной модернизации и этого Статута. Исправленный на поветовых сеймиках и утвержденный на головном съезде в Волковыске 1584 года, в 1587 году новый Литовский Статут рассмотрел варшавский элекционный сейм, а окончательно он был утвержден на коронационном сейме 1588 года. В том же году третий Статут был издан на старобелорусском языке в Вильне, причем именно это издание считалось официальным текстом закона. Соответственно все многочисленные польские переводы, начавшиеся издаваться с 1616 года, имели лишь частный характер. После присоединения территории ВКЛ к России его населению было предоставлено право пользования местными законами, в том числе нормами Литовского Статута 1588 года при рассмотрении гражданских дел. В 1811 году Литовский Статут перевели на современный русский язык. Это издание Статута получило широкое распространение в Белоруссии, Малороссии и собственно литовских областях, но в 1840 году Литовский Статут был отменен.

Литовский Статут 1529 г.

Литовский Статут 1588 г.
Литовский Статут представлял собой свод действующих в XVI веке законов Великого княжества Литовского и Русского, хотя и не был единственным нормативным документом – наряду с ним продолжали действовать привилеи и постановления. Тем не менее по совершенству кодификации и широте регулируемых отношений Литовский Статут не имел себе равных в Европе, в том числе по юридической технике написания (главы и статьи, имеющие названия). Кроме того, для Литовского Статута характерна ярко выраженная гуманистическая направленность. Например, уже Статут 1529 года вводил принцип ответственности всех только по закону и только по суду. Статут 1566 года устанавливает возраст уголовной ответственности с 14 лет и право простых людей участвовать в избрании великого князя. Статут 1588 года поднимает возраст уголовной ответственности до 16 лет и указывает только один источник невольного состояния – плен. Более того, этот Статут предписывает называть челядь невольную «дворовой челядью», а бывшую челядь невольную и их детей наделить землей и перевести в разряд крестьян «отчичев» (непохожих).

Рассмотрение судебной тяжбы в ВКЛ.
Во всех трех изданиях Литовского Статута находят отражение различные отрасли права: государственное (конституционное), гражданское, брачно-семейное, уголовное, процессуальное и другие. Каждый из этих Статутов разрабатывался специально созданной комиссией, состоящей из высокообразованных и сведущих людей своего времени (ученых и врадников). Все комиссии работали в течение длительного срока (несколько лет), а подготовленные ими проекты Статута принимались только после неоднократного предварительного обсуждения на местных сеймиках, вальных сеймах и последующей доработки. Содержание всех трех изданий Литовского Статута убедительно свидетельствует о расцвете феодальной демократии в ВКЛ и зарождении в этом государстве новой формы правосознания. Наличие в Великом княжестве Литовском подобных крупных нормативных актов говорит также о высоком уровне развития в нем правовой мысли, культуры, образования, а закрепленные в Статутах многие прогрессивные положения и принципы дают основания утверждать, что в ВКЛ уже в XVI веке последовательно проводилась в жизнь идея формирования правового государства. Вместе с тем зачастую нормы одной отрасли права содержатся не в одном, а в разных разделах Статута, что наряду с их абстрактным, а частично и казуальным характером затрудняет восприятие закрепленных в этом документе правовых норм.
Процесс складывания территории и централизации Литовско-Русского государства, унификации его административно-территориального деления и органов управления завершила административная реформа 1564–1566 годов. Вся территория Великого княжества Литовского и Русского была тогда разделена на 13 воеводств, которые в свою очередь делились на поветы. Воеводства были различны как по размеру, так и по количеству населения, имели неодинаковое число поветов (от одного до пяти). По сути, ВКЛ было федерацией волостей и земель, сохранявших свое особое волостное устройство и объединенных лишь верховной властью господаря великого князя и его панов-рады. Собственно Литва (с примыкавшей к ней территорией Западной Белоруссии) разделялась (после Городельского привилея 1413 года) на два воеводства – Виленское и Трокское. С юга и с востока к этой центральной области государства примыкали несколько удельных княжеств Полесья, Чернигово-Северской земли и области верхней Оки, которые были своеобразными «обособленными политическими мирками». Отдельное место в административном отношении занимали крупные земли – «аннексы», присоединившиеся к ВКЛ (добровольно или вынужденно): Жмудская, Полоцкая, Витебская, Смоленская (до 1514 г.), Киевская, Волынская, Подляшье и Подолье. Даже после того, как Витовт упразднил крупные волостные княжения и этими землями стали управлять наместники великого князя, они никогда не сливались в административном отношении с территорией собственно Литвы.
Особенностью государственного аппарата Великого княжества Литовского и Русского являлось отсутствие коллегиальных отраслевых органов управления. Вместо них действовала довольно широкая система высших и дворных должностей, основанных на принципах единоначалия, назначения, кормления, персональной ответственности, совмещения должностей и др. Например, Николай Радзивилл в начале XVI века занимал одновременно две весьма значимые государственные должности – земского маршалка и воеводы трокского, а затем канцлера и воеводы виленского. А Юрий Радзивилл в 30-х годах XVI века – четыре должности: великого гетмана, старосты гродненского, наместника мозырского, державца лидского, скидальского и белицкого.
Среди высших должностных лиц государственного аппарата ВКЛ особая роль отводилась канцлеру, заведовавшему государственной канцелярией и бывшему хранителем большой государственной печати, без которой ни один нормативный акт княжества не имел юридической силы. Он активно участвовал в разработке нормативных актов, следил за учетом всей входящей корреспонденции, поступающей на имя великого князя (жалобы, прошения, донесения, судебные дела и т. д.). В его подчинении был большой штат должностных лиц (врадников): подканцлер, писари, дьяки и др.
Важную роль в системе государственного аппарата играл также маршалок земский, который контролировал соблюдение этикета при дворе господаря и охрану порядка не только во дворе великого князя, но и в любом месте его нахождения. Он руководил приемом послов, просителей с челобитными на имя государя, мог председательствовать на заседаниях вального сейма и рады при отсутствии великого князя, Виленского и Жмудского католических епископов, осуществлял рассмотрение судебных дел, связанных с совершением правонарушений во время работы сейма, решал ряд других вопросов.
Все финансово-хозяйственные вопросы и государственная казна находились в ведении земского подскарбия. Он ведал доходами и расходами государственной казны, сдачей в аренду государственного имущества, осуществлял общее управление всем государственным имуществом и т. д. Его ближайшими помощниками были дворный и подскарбий, а также множество скарбников, ревизоров, сборщиков налогов и т. д., ведающих по его указанию отдельными вопросами хозяйственно-финансовой деятельности.
Вооруженные силы ВКЛ были в ведении гетмана наивысшего (земского, великого). Он не только командовал войском и организовывал оборону или военный поход, но ведал вопросами сбора войска, его комплектованием, снабжением. Ему подчинялись гетман польный, гетман дворный, воеводы, каштеляны, поветовые старосты и другие должностные лица.
Численность дворных врадов (придворных должностей) была еще большей, чем земских, а их специализация – более узкой. Например, существовали такие должности, как дворный подчаший, дворный подстолий, конюший, постельничий, крайний, кухмистр, мечник, ловчий, ключники, подключники, стольники, чашники и т. д.
Магнаты и шляхта
Магнаты и шляхта в Великом княжестве Литовском были юридически равны и составляли единое правящее сословие. Конечно, социальный статус, роль и общественное положение магнатов были несоизмеримо выше, чем у рядовой шляхты, но без опоры на нее достичь своих целей в условиях господства шляхетской демократии даже самым крупным землевладельцам и церковным иерархам ВКЛ было непросто, если вообще возможно.

Подканцлер ВКЛ С.А. Щука.

Шляхта ВКЛ в походе.
В белорусском, польском, чешском и словацком языках понятие «шляхта» тождественно понятию «дворянство». В переводе со старонемецкого шляхта – значит благородные, свободные, вольные люди. По другой версии этот термин происходит от немецкого слова Schlagen – бить, a Schlacht по-немецки означает «битва, сражение». Соответственно слова «шляхта» можно перевести как люди боя, вояки, воины, то есть сословие людей, оборонявших Отчизну от врагов в годы многочисленных войн.

Шляхтич XVI века.

Гусар XVII века.

Магнат ВКЛ.
В Польском королевстве шляхта изначально была привилегированным военным сословием лично свободных землевладельцев, сумевших со временем утвердить свое право на выборную шляхетскую монархию и закрепить свои многочисленные права в законодательных актах (Кошицкий привилей 1374 года и Цереквицкий привилей 1454 года). В Великом княжестве Литовском и Русском вплоть до XVI века аналогичное сословие именовалось «литовские бояре», но после Люблинской унии 1569 года оно и здесь стало называться шляхтой. Основу войска и ВКЛ, и Польского королевства всегда составляла шляхта. За это она наделялась земельной собственностью, освобождалась от повинностей (исключая военную) и имела судебную власть над крестьянами. Горожане брались за оружие лишь только тогда, когда их города осаждал противник. А крестьяне привлекались к вооруженной борьбе вообще в самых крайних случаях – если нужно было немедленно дать массовый отпор врагу.
Экономические интересы побуждали шляхту издавать ограничительные законы и в отношении городского сословия. Например, Петроковский статут запретил мещанам приобретать землю и имения под тем предлогом, что мещане не принимают участия в военных походах и всяческими способами стараются уклониться от военной службы, хотя именно на владении поземельной собственностью и была основана воинская повинность. Мещанство попыталось было бороться со шляхтой, но неудачно. Во второй половине XVI века городское представительство фактически устранили от участия в законотворчестве страны, хотя представители от некоторых городов появлялись на сеймах и в XVII веке. Шляхта также подчинила промышленность и торговлю власти воевод и старост, чем окончательно убила городское благосостояние. В начале XVI века шляхта стала всевластным хозяином в государстве и осталась таким до конца существования Речи Посполитой. Она издавала законы, судила, избирала королей, оберегала государство от врагов, вела войны, заключала соглашения о мире, внутренние договоры и т. п. Но здесь важно еще подчеркнуть, что не только политическая и социальная организация Речи Посполитой была шляхетской – шляхетское мировоззрение безраздельно господствовало и в умах, и в интеллектуальной жизни страны.
Численно это сословие составляло около 8 % от всего населения ВКЛ. К белорусской шляхте можно отнести 10–12 % населения, а в некоторых местах даже 15 %. Это очень много. В Московском царстве, а позже в Российской империи численность дворянства, например, не превышала 1 % от общей численности подданных. Но шляхта никогда не была однородна. Некоторая ее часть – можновладство (в смысловом переводе «что хочу, то и делаю») – была очень богата, другая и доминирующая, наоборот, откровенно бедна и подобно крестьянам сама обрабатывала землю. Шляхетство передавалось по наследству, хотя изредка за подвиги в сражениях в это сословие могли производить и свободных крестьян.
Одним словом, шляхта была закрытым сословием воюющих господ, в массе своей – малоземельной («дробной») «неаристократической» знатью, во время войны превращавшейся в дворянское ополчение. В мирное время шляхтичи жили в своих усадьбах, занимались земледелием, охотились, пировали, любили танцы и другие галантные развлечения – короче говоря, жили так, как и дворяне других европейских государств. При всем своем многообразии шляхта в ВКЛ была наиболее образованным и патриотично настроенным сословием. К XVII веку в большинстве своем она была католической, но доминирующий католицизм не мешал ей быть на удивление веротерпимой – в Восточной Польше, на белорусских и украинских землях многие шляхтичи исповедовали православие, а в Западной Польше и Силезии – протестантизм.

Александр Ходкевич.

Герб магнатского рода Пацей.
Что касается магнатских родов ВКЛ, то они сформировались в основном из числа наиболее приближенного к великому князю (госпадару) круга феодалов, занимавших высшие государственные должности. Причем, как ни далека была дистанция между магнатами (которые в ВКЛ и Польше верховодили всем) и простыми шляхтичами, обрабатывавшими свою землю лично, первые всегда были вынуждены считаться со вторыми, поскольку их юридические права были равны. И бедная (дробная), и богатая (магнаты) шляхта имели право на «рокош», т. е. на вооруженное сопротивление власти, если та действовала незаконно. Поэтому даже вельможные Радзивиллы, заигрывая с избирателями, называли их «пане-браце». Чувство солидарности и равенства шляхтичей выражалось еще в том, что каждый из заседающих в сейме обладал правом вето.
В Польше, ВКЛ, а после и в Речи Посполитой шляхта обладала огромными привилегиями, равных которым в Европе дворянство более нигде не имело. Сложные отношения между монархией и шляхтой в Речи Посполитой, вытекающие из ее широких прав и привилегий, в конце концов, стали одной из основных причин упадка и краха Польско-Литовского государства в XVIII веке. Будучи буйным и непокорным сословием, шляхта после этого постоянно затевала восстания за независимость и в защиту своих сословных прав, которые настойчиво пытались упразднить и в России, и в Пруссии, и в Австрии – странах победившего абсолютизма. Например, на землях Польши, Беларуси и Литвы, вошедших в состав России, в XVIII–XIX веках шляхта поднимала такие восстания трижды – в 1794, 1831 и 1863 годах. Во многом потому, что в течение более пяти веков представители этого сословия исповедовали девиз «Бог, Гонар, Айчына» (Бог, Честь, Отечество), который в период восстаний XVIII–XIX веков за независимость стал звучать иначе: «Жыццё – Айчыне, Гонар – нiкому» (Жизнь – Отечеству, Честь – никому). Похожие на шляхетскую культуру сословные нормы мелкой знати существовали еще в Испании и Венгрии, где они продержались дольше всего.
Как уже отмечалось, значительная часть шляхты была небогата, но, наделенная многими правами, она четко дистанцировалась от иных сословий. Повышенное самомнение шляхтича часто выглядело комично, но фактом является и то, что даже бедные шляхтичи никогда не выглядели, как бедняки! Мемуарист Ежи Китович, например, писал: «…даже бедный шляхтич, когда едет на поле и везет туда „угнаенне“ (навоз), втыкает в него саблю, которую могли носить только шляхтичи. И все понимали, что едет шляхтич, а не мужик». Ситуация, безусловно, и комичная и ироничная. Да, шляхетский гонор действительно был, но были также самоирония, благородство и понимание необходимости соответствовать принадлежности к высшему сословию – быть вежливыми, культурными, внимательными к женщинам, не совершать поступков, которые бросали бы тень на шляхетскую репутацию. Даже бедная шляхта старалась дать детям образование. Иначе шляхтич себя просто не мыслил. Так уж сложилось.
Вообще большинство шляхетских традиций заслуживает уважения. Лучше всего о них написал белорусский писатель Владимир Короткевич, который и сам имеет шляхетские корни. Так, шляхтич просто обязан был уважительно относиться к жене. Иначе общество осудило бы и отвергло его. Чтобы шляхтич ударил жену? – такого просто не могло быть! А мужик мог ударить, потому что это считалось вполне нормальным. И даже полезным. Что делать – таковы были традиции у мужиков. Если бы мужик покалечил жену, так сказать, «в воспитательных целях», то он бы не нес ответственность. А шляхтич? У шляхтичей считалось – лучше развестись, чем драться. Но разводиться было чрезвычайно сложно. Церковный брак – это пожизненно. Католическая церковь практически не разводила, а для православной требовались весомые доказательства. Бракоразводные процессы тянулись по семь лет, бумаги ходили по всем церковным инстанциям, и в случае положительного решения все заканчивалось указом самого императора. А католики, пожелавшие развестись, вообще должны были дойти, всего-то, лишь до папы римского!
В целом шляхта была сильно пронизана корпоративным духом, чувством сословной солидарности и энергично отстаивала свои сословные интересы, которые часто находились в противоречии с интересами других сословий. Экономической основой ее господства являлась феодальная собственность на землю, а взаимоотношения между разными слоями шляхты основывались на принципах иерархии. Доступ в шляхетское сословие был возможен только в исключительных случаях за большие заслуги через нобилитацию, одопцию и индигенат. Шляхта обладала иммунитетом и освобождалась от большинства повинностей, имела судебную власть над крестьянами. По кошицкому привилею 1374 года из всех государственных повинностей за шляхтой сохранялись только платежи поземельной подати в размере 2 грошей с лена, при этом она получила исключительное право занимать должности воевод, каштелянов, судей, подкомориев и др.
Формой организации шляхты был сеймик – собрание всей шляхты, принадлежавшей к одной и той же местной общине (communitas) как к одному общественному целому. Нешавское законодательство поставило шляхту на тот же уровень, что и можновладцев (магнатов): чтобы издать новый закон, установить новый налог или созвать земское ополчение («посполитое рушанье»), король обязан был обращаться за разрешением к шляхетским сеймикам. Вира (штраф) за убийство шляхтича составлял 60 гривен. Кроме того, по Церквицкому привилею шляхте была гарантирована имущественная и личная неприкосновенность. Ко всему прочему, шляхта обладала гербами. Одним словом, этому сословию было что защищать и за что бороться.
Жизнь знатной шляхты овеяна легендами. Драматические судьбы, любовные истории, пиры, охоты, танцы, погони и пр. Пожалуй, самая обыгрываемая теперешними драматургами любовная история – это Барбара Радзивилл и великий князь – король Сигизмунд Август. По любвеобильности Барбару часто сравнивают с Екатериной II. Такие сведения есть, и отрицать это трудно. Но скорее всего между Барбарой и Сигизмундом была настоящая любовь. Впрочем, правда и то, что братья Барбары заставили Сигизмунда жениться, когда он тайком пришел к ней на встречу. Согласитесь, однако, надо было очень сильно любить, чтобы пойти против воли своего отца – старого короля и своей матери Боны Сфорцы – старой королевы. Потом сейм не хотел короновать Барбару, а Сигизмунд Август все-таки добился того, что Барбара Радзивилл стала королевой, хотя польская знать всячески препятствовала этому. Легенда говорит о том, что Бона Сфорца отравила Барбару, по другой версии, у Барбары был рак. В общем, ее смерть навсегда останется загадкой.


Замок Радзивиллов в Несвиже, исторический и современный вид.
Откуда вообще взялись Радзивиллы? Кто они – поляки, литовцы, белорусы? Ответить на этот вопрос в духе паспортной системы товарища Сталина трудно. Совершенно очевидно, что пресловутая пятая графа здесь категорически не подходит. Считается, что по происхождению Радзивиллы из литовского рода. Но уже в XV веке, как и многие другие литовские феодалы, они перешли на белорусский язык. В XVI веке в духе нового времени они заговорили по-польски. Тем не менее историки относят Радзивиллов к белорусским феодалам. Они жили в Беларуси, основная линия их рода была в Несвиже, Клецке и Давид-Городке. Радзивиллы владели в Беларуси многими территориями и даже городами. У них были собственные войска. Со временем Радзивиллы, конечно, ополячились, но всегда помнили, что они отсюда – из Литвы. А Литвой до конца XIX века называли большую часть Беларуси. Радзивиллы очень значительные, но не единственные белорусские магнаты.