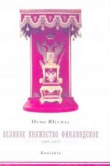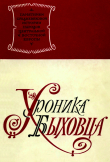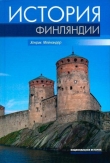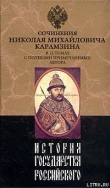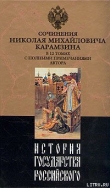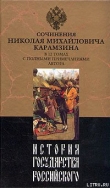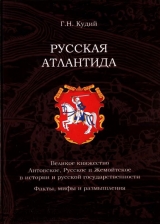
Текст книги "Русская Атлантида
Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское в истории и русской государственности. Факты, мифы и размышления"
Автор книги: Геннадий Кудий
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Все это, однако, не мешало Вильне и Москве активно воевать друг с другом. Женившись на тверской княжне Ульяне, Ольгерд быстро втянулся в противостояние Твери с Москвой. В 1368 году он совершает поход на Москву, в котором участвуют Кейстут с сыном Витовтом и новый смоленский князь Святослав. Войско Ольгерда дошло до Москвы, сожгло посад, но город взять не смогло, чему способствовала крепкая оборона и недавно отстроенные укрепления белокаменного Кремля. В 1370 году был предпринят еще один поход на Москву, и снова взять Кремль не удалось. Стало ясно, что в Москве у Ольгерда появился достойный противник – повзрослевший Дмитрий Иванович (будущий Донской), который после каждого отступления литвинов вместе со своими воеводами опустошал Тверскую землю, возмещая тем самым убытки, понесенные Московским княжеством от ВКЛ. В конце концов, стороны заключили перемирие, скрепленное браком дочери Ольгерда Елены с двоюродным братом Дмитрия Московского Владимиром Андреевичем. Тем самым был взят курс на подготовку решающего столкновения с Ордой, где в это время быстро возвышается темник Мамай, уже давно реально управлявший ее правобережной частью через своих марионеток – ханов чингизидов (потомков Чингисхана).
Но союз Москвы и Вильни продержался недолго, так как вскоре после этого на примирение с Ордой пошел московский князь, видимо, не без происков ордынской дипломатии, четко проводившей линию – разделяй и властвуй. Не питал любви к Ольгерду и новый митрополит всея Руси Алексей, взявший курс на поддержку усилий молодого московского князя на свержение ордынского ига под предводительством Москвы, а не Вильни. Это тоже вызывало обиду и ненависть у великого князя Литовского, который, как мы уже знаем, к тому времени добился впечатляющих успехов в борьбе с главным общерусским злом. Ведь победы над Ордой объективно давали ему тогда право рассчитывать на признание своих заслуг и православной церковью, и всеми людьми «русской веры». Не случилось. Ольгерд не мог этого стерпеть и в 1372 году предпринял попытку обессилить Московское княжество – литовские и тверские войска опустошили окрестности Переяславля-Залесского и Дмитрова. В 1375 году, опять же при активном участии ордынской дипломатии, фронда Михаила Тверского в отношении Москвы усилилась. С целью разрубить этот узел Дмитрий Иванович собирает большое войско: под начало Москвы пришли князья суздальские, нижегородские, ростовские, ярославские, князья Моложский, Белозерский, Оболенский, Тарусский, Смоленский и Брянский. Этот сбор стал как бы пробой сил того ополчения, которое готовилось все годы правления Дмитрия Ивановича к схватке с Ордой.
8 августа 1375 года московское войско пошло на приступ Твери. Штурм не удался, и началась осада города. Ольгерд двинулся на выручку союзнику, но, узнав, какое войско собрал Дмитрий Иванович, не доходя до тверских пределов, повернул обратно. 1 сентября 1375 года Михаил Тверской капитулировал и подписал договор по всей воле Дмитрия Ивановича, признав себя «молодшим братом», чем ставил Тверь под руку Москвы. Но самым знаменательным положением договора была его явная антиордынская направленность. И в ВКЛ, и в Орде оценили опасность капитуляции Твери. Ольгерд и Мамай не замедлили с ответными действиями, но все ограничилось незначительными набегами. Тем самым Ольгерд признал приоритет Москвы в объединении земель Северо-Восточной Руси.
Великий князь Литовский Ольгерд скончался в 1377 году в возрасте 82 лет. После себя он оставил 13 сыновей и не менее шести дочерей от двух браков. Его преемником стал Ягайло, а итогом всей политики – обширное Литовско-Русское государство, простиравшееся от Балтийского моря до Чёрного моря. 90 % всей его территории составляли русские земли, как и население. Это не могло не откладывать отпечаток как на саму власть в государстве, так и на его культуру. Что касается управления столь обширной территорией Великого княжества Литовского, то Ольгерд придерживался удельной системы, как и его отец, но при этом считал, что верховная власть должна быть в руках князей – Гедиминовичей. За исключением этого обстоятельства остальные рычаги руководства страной находились преимущественно в руках православной знати, что неудивительно при сложившемся раскладе сил в государстве. Русский язык в его западном варианте («русская мова») стал языком не только его коренных носителей, но и образованной части литовского общества. Во времена Ольгерда русские области ВКЛ не испытывали ни национального, ни религиозного гнета, ни попыток ломки устоявшегося уклада жизни. Старые права территорий продлевались постоянно, а великокняжеская политика заключалась в мирном урегулировании процессов присоединения и управления: «Мы старины не рухаем, а новин не уводим», – заключали великие литовские князья. Ни русские, ни литвины, ни литовцы не считались в Московской и Литовской Руси чужестранцами. Те и другие часто эмигрировали из государства в государство. Литвины слыли умелыми воинами, сильными правителями, поэтому русские города, противившиеся усилению Москвы, не раз искали помощи у ВКЛ, приглашая их князей на княжение или для участия в походах против соперников.
Могучее Литовско-Русское государство, казалось, имеет блестящее будущее, но дальнейший ход событий не оправдал тех надежд, которые связывала с ВКЛ вся Юго-Западная Русь.

Зрелость
Время правления Ягайло и Витовта (конец XIV – первая треть XV века) представляет собой едва ли не самый романтичный и самый драматичный период истории Великого княжества Литовского и Русского. Именно тогда начался дрейф этого государства в западном направлении и постепенный отказ от своей первоначальной идентичности, долгое время базирующейся на идеологии православия с преобладанием русского языка и культуры. Поскольку Великое княжество Литовское и Русское состояло из сравнительно небольшой литовской области, где проживали балтские этносы, и огромного массива славянских земель с православным населением, то в нем всегда существовала определенная политическая двойственность, в том числе порожденная балтскими корнями правящей династии Гедиминовичей. Но и сама эта династия не была единой. Тот, кто возглавлял государство, пренебрегая интересами русских областей, всегда рисковал приобрести могущественного противника в лице деятеля, способного стать лидером объединенных сил Литовской Руси.

Ягайло.

Витовт.
В конце XIV столетия таким лидером был князь Андрей Ольгердович, занимавший важнейшее княжение ВКЛ – Полоцкое. Могущество этого правителя было столь велико, что он позволял себе именоваться в грамотах «королем». Как полководец и политик, Андрей Ольгердович сыграл очень важную роль в исторических судьбах Литовско-Русского государства. В противовес Андрею его сводный брат и главный политический противник Ягайло Ольгердович в борьбе за престол часто опирался на поддержку поляков и тевтонцев, поэтому особыми симпатиями православного населения не пользовался.
Андрей Ольгердович родился около 1320 года и был старшим сыном великого князя Литовского Ольгерда Гедиминовича и его первой жены Марии Витебской. Активная политическая деятельность Андрея началась в 1342 году, когда он был посажен князем в Пскове. В период своего короткого княжения в этом городе, длившегося всего год, Андрей Ольгердович принял крещение по православному обряду, а после того как его отец в 1345 году стал соправителем ВКЛ, был его главной опорой в делах большой политики. Это обстоятельство существенным образом повлияло на положение Полоцкой земли, где он княжил. Полоцкое княжество хотя и входило в состав ВКЛ, но исторически пользовалось огромной самостоятельностью. Во всех начинаниях отца Андрей всегда выступал его правой рукой, советником и полководцем, шла ли речь об отражении агрессии Тевтонского ордена или о наступлении на западные земли Великого княжества Московского. Особенно деятельным было его участие в походах отца на земли Смоленского княжества в 1359 году и на Москву в 1368, 1370 и 1372 годах.
Казалось, именно он, Андрей Ольгердович, блестящий полководец и опытный политик, унаследует отцовский престол. Но в конце жизни великого князя Ольгерда в Великом княжестве Литовском и Русском верх взяли противники Андрея, т. е. группировка сыновей Ольгерда от второй его жены Ульяны Александровны Тверской, возглавляемая Ягайло (родился около 1348 года). Решение Ольгерда передать трон Ягайло первоначально приняли почти все его родственники и знатные люди княжества – брат покойного великого князя Кейстут, его сын Витовт (родился около 1350 года), канцлер, подкоморий, подскарбий, а также находившиеся в это время в Вильне удельные литовские и русские князья. Андрей с таким поворотом событий, естественно, не согласился, поскольку по праву старшего наследника в семье именно он должен был занять престол, однако его обидно обошли, и это стало основанием для начала мятежа. Андрея поддерживали его родные братья, дети от первой жены Ольгерда, Марии Ярославны, – князь Киевский Владимир, князь Брянский Дмитрий, а также сын от второй жены Ольгерда, Ульяны, князь Новгород-Северский Корибут. Полоцк объявил о своем выходе из-под юрисдикции ВКЛ и о переходе под руку великого князя Московского.

Древний Полоцк.
Вспыхнувшая борьба обернулась настоящей внутренней войной: обе стороны осаждали города и крепости неприятеля, искали поддержки за рубежом. В 1377 году Ягайло подошел с войском к Полоцку и осадил город, требуя повиновения. Андрей отказался подчиниться брату и обратился за помощью к Ливонскому ордену. Получив ее, он вынудил Ягайло и Кейстута снять осаду Полоцка и отвести свои рати за реку Десну. Не сумев добиться победы, Андрей уехал в Московское княжество и с согласия великого князя Московского Дмитрия Ивановича вновь стал князем в Пскове. В 1379 году он выступил против Ягайло, без боя овладел городами Стародуб и Трубчевск в Новгород-Северской земле, где княжил его брат Дмитрий, который с двором и семьей тоже выехал на службу в Москву и получает в княжение Переяславль-Залесский. По-прежнему активно продолжал поддерживать Андрея самый большой и богатый город ВКЛ того времени Полоцк. Однако Ягайло и Кейстут тогда уже выступали как соправители Великого княжества Литовского, главные хранители его единства и могущества, хотя каждый из них действовал с учетом своих собственных интересов.
Поступки лиц прежних эпох ныне обычно рассматриваются с позиций современного понимания права, нравственности, добра и зла. С точки зрения национального государства поведение и Андрея Полоцкого, и Дмитрия Стародубского, а позже и Андрея Курбского действительно можно квалифицировать как государственную измену, но, как было отмечено ранее, тогда государства были не национальными, а сословными. То есть некие люди, принадлежавшие к господствующему классу, имели право выбирать себе суверена по душе – не понравился Ягайло, уйду к Дмитрию Ивановичу в Москву: и тот православный монарх, и этот, посему, кому из них служить, – есть сугубо мое личное дело. Никого и нигде тогдашние многочисленные «выходы» литовских князей в Москву и наоборот, равно как и во всей Европе, не удивляли и тем паче изменой не объявлялись, дело житейское. Кстати, в 1378 и 1380 годах Андрей и Дмитрий со своими дружинами участвовали в сражениях Московского княжества с татарами на реке Воже и на Куликовом поле, что позднейшей советской историографией ставится им в несомненную заслугу. А вот договор, подписанный Ягайло и Мамаем о совместном выступлении против Москвы, столь же однозначно считался безусловной мерзостью и ножом в спину общерусского дела. Очень и очень спорное утверждение! Тем более что ужас подписания союзного договора между Ягайло и Мамаем компенсировался тем, что Ягайло свое войско на битву так и не привел. Постоял в одном переходе от Куликова поля, послушал издалека шум сражения, посокрушался принародно – и убыл восвояси, резонно полагая, что взаимное ослабление врагов будет ему только на пользу.
Здесь надо особо заметить, что вокруг событий до и после Куликовской битвы российская царско-императорская и советская исторические школы напустили очень много идеологического тумана. Добавило его и наше время, вплоть до утверждения, что это сражение если и было, то проходило чуть ли не у стен Московского Кремля. Представляется, однако, что на самом деле все было проще и сложнее одновременно. О битве на Синей Воде, ее результатах и сознательном забвении этого события в более поздние времена уже говорилось выше. Но тогда выдающаяся Победа литвинов в битве на Синей Воде не могла не повлиять на самосознание «людей русской веры», которые, правда, были далеко не едины. Да и Орда к тому времени являлась всего лишь одним из игроков на политическом поле Восточной Европы – с ней при нужде заключали пакты и московские великие государи, и литовские великие князья, и разные прочие рязанские да тверские владыки. Часто бывало, что ордынцы, оказавшись в рядах противоборствующих сторон, бились друг с другом насмерть. К этому надо добавить, что в исторической науке существует достаточно распространенное мнение, согласно которому чисто юридически Дмитрий Иванович вышел на Куликово поле всего лишь как сторонник легитимного монарха Золотой Орды хана Тохтамыша, решившего с помощью своих вассалов (русских и татарских князей) обуздать узурпатора (Мамая). То, что на стороне Мамая якобы выступил рязанский князь Олег, – еще одна громкая песня без доказательств.
Но если юридически такая трактовка событий, возможно, и допустима, то по сути она неверна. Факты свидетельствуют, что Дмитрий Иванович и его ближайшее окружение готовили решающее столкновение с Ордой долго, целеустремленно и настойчиво – примерно 20 лет. В 60-70-х годах XIV века в Москве и вокруг нее происходили очень существенные перемены и в жизни, и в военном деле. Источники не указывают, какими они были, но юный князь, вовсе не склонный к авантюризму, давал всем понять, что ему не страшны ни соседи (рязанцы и тверичи), ни многоопытный Ольгерд, ни даже Орда. Так, в 1371 году татарскому послу – видному ордынскому вельможе Сарыхоже, прибывшему на Русь с целью посадить на Великое княжение Владимирское Михаила Тверского, было заявлено: «К ярлыку не еду, Михаила на княжение Владимирское не пущу, а тебе послу путь чист». Сколько сабель привел с собой Сарыхожа, никто не знает, да и не в них дело. Сарыхожа был полномочным послом повелителя всех русских земель, а ему говорят: «Послу путь чист». То есть «чист» во все стороны: и в Орду с обидой, и в Москву к князю Дмитрию в гости. Такого во Владимирской Руси не было со времен Батыя. Так что это заявление вполне можно расценить как далекую и дерзкую зарницу Куликовской битвы.
Показательно и то, что Сарыхожа не поскакал с жалобой в Орду, смирился с ответом Дмитрия, поехал к нему в гости, был принят с почетом, одарен богато. Орда почувствовала силу Москвы и на этот раз отступила. Не так понял это заявление Михаил Тверской, имевший на руках ханский ярлык на Великое Владимирское княжение. Он заметался между Тверью и Вильней с просьбами о поддержке. Поддержку Михаил получил, но чем это кончилось в 1375 году, мы уже знаем.
Подстрекаемый Ордой, Олег Рязанский в том же 1371 году попытался организовать нападение на Московское княжество с целью отвоевать Коломну, потерянную им ранее. Тогда Дмитрий Иванович даже не пошел ему навстречу, а лишь послал для отпора московское войско под началом воеводы Дмитрия Ивановича Волынского по прозвищу Боброк. В декабре 1371 года неподалеку от Переяславля Рязанского (ныне Рязань) войско Олега потерпело сокрушительное поражение. Разгром был столь убедительным, что летописцы не сочли даже необходимым отметить какие-то его детали: ни поединки витязей, ни действия воевод или дружинников. Это тоже важно взять во внимание – действия одиночек в ходе битвы не выделяются потому, что московское войско сражается как единое целое. Так впервые на страницах летописи появляется имя одного из главных вершителей Куликовской битвы – Дмитрия Ивановича Боброка-Волынского.
Но и это еще не все. В ответ на разорение Мамаем Рязани в 1373 году Дмитрий Иванович кликнул большой сбор и впервые после нашествия Батыя открыто поставил свое войско на левом берегу Оки у Коломны, ополчив тем самым Русь на Орду. Источники не сообщают, каким было это войско, что оно делало под Коломной в течение трех с половиной месяцев и как кормилось. Здесь важно другое. Мамай, самый сильный тогдашний ордынский владыка, пограбив Рязань, за Оку не ступил. Орда не привыкла к неповиновению, и ее правители не могли не видеть, что Русь со всеми своими богатствами уходит от них. Можно было вскоре ожидать еще одного карательного набега Орды на Русь, но времена изменились. Бездействие Мамая в данном случае означало лишь то, что он понял: обычным карательным набегом достичь покорности от Москвы уже не удастся, а к нашествию на Русь всеми силами Орда была тогда не готова. К слову, ожидая Орду, Дмитрий Иванович в период до Куликовской битвы еще не раз собирал ополчение русских земель. Сборы были длительными и, надо полагать, использовались прежде всего для целей обучения ополченцев военному делу и единству действий в бою.
На тот момент московскому князю Дмитрию было всего 22 года. Подготовить войско, нанесшее соседним удельным князьям сокрушительное поражение, войско, которое в Орде и ВКЛ считали опасным, – дело не одного дня. Организовать такую работу малолетний князь не мог по определению. Несомненно, это сделали ближайшие советники Дмитрия, которых Семион наказывал ему «слушать». Самыми значимыми можно считать тех из них, кто засвидетельствовал духовное завещание Дмитрия Ивановича. Оно составлялось дважды. В первом варианте вторым стоит имя Боброка-Волынского, после Василия Вельяминова, боярина из старейшего боярского рода, предки которого пришли на службу московским князьям более ста лет назад. Во второй духовной на первом месте записан Дмитрий Волынский – первым из первых. Такое случайным не бывает. При этом за Дмитрием Волынским среди ближайших бояр князя всегда и неизменно остаются ратные дела, а на Куликовом поле князь вообще поручил ему руководство сражением, впрочем, как и в битве на реке Воже в 1378 году.
Предкуликовская эпоха в русской истории вообще была необычной. После многих десятилетий мрака Московская Русь переживала возрождение, наличествовал общенациональный патриотический подъем людей «русской веры», народ сосредотачивал свои силы, помыслы и надежды на одной великой цели – свержении ордынского ига. Все способности и таланты были подчинены решению этой общей задачи. Именно в ту эпоху творили Феофан Грек, Даниил Чёрный и Прохор с Городца, начинал свой взлет гений Андрея Рублёва, а паству вдохновлял преподобный Сергий Радонежский. Столь значительные явления в искусстве и духовной жизни не могли возникнуть из ничего. Но победить ордынцев, как и любого другого противника, голым патриотизмом в бою невозможно. Для этого как минимум нужна соответствующая военная сила.
В частности, для победы над Ордой московскому войску надо было решить ряд важных стратегических и тактических задач. Во-первых, так организовать и вооружить свое войско, чтобы оно могло отразить первый мощный стрелковый удар Орды, а это было по плечу только хорошо подготовленным подразделениям арбалетчиков – оружию по тому времени сложному и дорогому. Во-вторых, отбить фронтальную атаку тяжелой ордынской конницы, которая неизменно следовала в случае, если противник проявлял упорство. Сделать это могла только пехота – хорошо вооруженная, защищенная от татарских стрел прочными доспехами, обученная строю и взаимодействию в нем, сплоченная в фалангу, ощетиненную стеной из стальных наконечников копий. На эту роль годилось только ополчение земель, прежде всего городов – так называемые городовые полки. Наконец, нужна была хорошо подготовленная тяжеловооруженная конница, чтобы ошеломить противника внезапной атакой в решающий момент сражения, окружить и уничтожить его. Как тут было не вспомнить московским боярам об организации и тактике литовско-русских войск в битве с татарами на Синей Воде, а также о европейском опыте борьбы городов с рыцарской конницей!
Детали биографии Дмитрия Волынского могли бы многое здесь пояснить, но в источниках на них нет ни малейшего намека, хотя они вроде бы и должны были быть. Нет даже сведений о том, почему этот вершитель Куликовской победы вновь оказался на службе у великого литовского князя Витовта в конце 90-х годов XIV века. Правда, размышляя логически, кое-что обоснованное о его домосковском периоде жизни все же можно выстроить. Волынский – это не фамилия, а прозвище, что указывает на связь с Новгород-Волынским княжеством. К этому добавляется приставка Боброк, которая могла появиться лишь от названия речки, протекающей недалеко от Галича Карпатского. Таким образом, место первоначальной деятельности этого русского воеводы привязывается к определенному географическому району. В равной мере позволительно думать, что как профессионал он сформировался на военных традициях Галицкой Руси. Возникает некая логическая цепочка, по которой военное искусство Куликовской битвы через Дмитрия Волынского смыкается с военным искусством Святослава Киевского и Даниила Галицкого, широко использовавших пехотный строй ополченцев, а также увязывается с возможностью обогащения военного опыта за счет тех перемен в военном деле, которыми ознаменовался XIV век в Европе. Более того, можно предположить, что Дмитрий Волынский, скорее всего, участвовал в битве с татарами на Синей Воде, а также то, что у него, видимо, были какие-то личные счеты с ордынцами. Иначе трудно объяснить, почему уже в весьма почтенном возрасте он принял участие в битве литвинов с татарами на реке Ворскле в 1399 году, где и сложил свою голову. Кстати, вместе с двумя другими героями Куликовской битвы – князьями Андреем и Дмитрием Ольгердовичами.
На службу к Дмитрию Ивановичу Боброк-Волынский явился вместе с двумя взрослыми сыновьями, стало быть, человеком в возрасте и с немалым военным опытом. В Москве он женился на сестре Дмитрия Ивановича, а это дополнительное свидетельство того, что московский князь очень дорожил своим воеводой. В общем, в достижении военной победы на Куликовом поле вырисовывается весомый вклад тогдашней Литовской Руси. Ведь именно ее военное искусство в борьбе с татарами, по всей видимости, и стало той базой, на которой Москва построила свою подготовку к решительному столкновению с Ордой.

Куликовская битва.
О Куликовской битве существует обширная литература. Битва на Воже освещена гораздо хуже. Тем не менее желающие без труда могут найти соответствующие сведения в Интернете. Нам же важно подчеркнуть, что рисунок обеих битв очень напоминал рисунок сражения литовско-русских войск с татарами на Синей Воде. Значимо в этом смысле и то, что в обоих сражениях принимали участие дружины князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. О той роли, которую они сыграли в битве на Воже, достоверных сведений нет. Что же касается действий полоцкой и псковской дружин на Куликовом поле, то доподлинно известно, что они составляли полк правой руки русского войска, который успешно отразил все атаки татар против себя и прочно прикрыл тыл пешего большого городового полка (главной фаланги) слева. В дальнейшем, когда правое крыло Орды оказалось как бы между молотом и наковальней, где молотом выступал засадный полк московских витязей под командованием Боброка-Волынского, а наковальней – псковско-полоцкая кованая рать князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, полк правой руки перешел в решительное наступление и рассек строй сражающихся войск Мамая. Затем вместе с засадным полком полоцкие и псковские дружинники обеспечили окружение и разгром главных сил Орды на Куликовом поле.

Куликовская битва (08.09.1380). Карта сражения.
Нам также представляется важным остановиться еще на одном каноническом штампе освещения Куликовской битвы в русской исторической литературе. А именно на широко распространенном мнении, что Олег Рязанский и великий князь Ягайло «изменили» тогда общерусскому делу, заключив антимосковский союз с Мамаем. Формально так оно и было. Однако нам кажется, что здесь велась более тонкая дипломатическая и стратегическая игра. Проще говоря, Мамая умело дурачили этим «союзом» как минимум Олег Рязанский и Дмитрий Московский.
Что позволяет так утверждать? О нелепости применения к данному союзу слова «измена» говорилось выше. И Олег Рязанский, и Ягайло были суверенными государями, независимыми от Москвы. При этом Олега меньше, чем кого-либо другого из русских князей, можно было заподозрить в симпатиях к Орде – приграничная Рязань больше всех страдала от соседства с ней. Орда еще не тронулась, Мамай собирает несметное войско. Дмитрий Иванович сидит в Москве и тоже не двигается в поход. Идет подготовка к схватке, победа Москвы в которой была совсем не очевидной. Мог ли в такой ситуации Олег Рязанский открыть свои симпатии к Москве и отказать Мамаю в союзе с Ордой. Вопрос более чем риторический. Всего парой-тройкой туменов ордынцы тогда бы за неделю полностью разорили Рязанскую землю. Уйти с дружиной в Москву Олег тоже не мог – кто бы его выпустил! Поднять в изгон всю Рязанскую землю было невозможно тем более. Не выступить на стороне Мамая против Москвы Олег мог только в одном случае: если бы московское войско встретило ордынское нашествие за пределами Рязанской земли. Дмитрий Московский это условие выполнил, а Олег Рязанский на соединение с Ягайло не пришел, хотя тот находился от Вильни несоизмеримо дальше, чем Олег от Рязани. Выводы можете делать сами.
Не все просто и с союзничеством Ягайло. Соперничество между Вильней и Москвой за собирание русских земель со смертью Ольгерда не прекратилось, скорее наоборот. Дом Гедиминовичей еще долго спорил с родом Ивана Калиты за первенство в этом деле. Но именно накануне Куликовской битвы для Дмитрия Ивановича сложилась благоприятная обстановка: Ягайло был ослаблен борьбой с братьями за отцовское наследство. Поэтому соглашение с Мамаем он, конечно, заключил, но не мог не опасаться, что, выступив на стороне Орды в битве с Москвой, может окончательно лишиться поддержки со стороны русской элиты ВКЛ, которая и так-то была небольшой. Опять же исход битвы был непредсказуем, ибо о силе московского войска Ягайло знал доподлинно. Как бы то ни было, в битву на стороне Мамая он не вступил, хотя по большому счету сделать это ему ничто и никто не мешал, уговор с рязанским князем о соединении сил здесь не в счет. В итоге Москва и Орда оказались в своем военном противостоянии один на один, причем при прямой поддержке двух князей Ольгердовичей и нейтралитете остальных ведущих русских княжеств, в основном доброжелательном. Думается, Дмитрий Иванович обо всем этом знал. Более того, он подготовил именно такое развитие событий.
Морально-политическое и чисто военное значение Куликовской битвы для судеб Руси безусловно было огромным. Однако, на наш взгляд, нерешающим. Как известно, в 1381 году потомок Чингисхана и правитель левобережной Волжской Орды хан Тохтамыш окончательно разбил войско Мамая (Мамай бежал в Крым, где был убит генуэзцами, а его сын Мансур перешел на службу к Ягайло, который разместил татар на южных рубежах своего государства) и полностью восстановил единство Золотой Орды. При поддержке суздальско-нижегородских князей и Рязанского княжества в 1382 году Тохтамыш овладел Москвой и сжег ее. Правда, Москва пала в результате предательства, а Орда ушла из Московской земли сразу после того, как стало известно, что Дмитрий Иванович появился с городскими полками у Переяславля, а его брат Владимир Андреевич сосредоточил такие же полки под Волоколамском. Московский престол Дмитрий Иванович сохранил, но был вынужден подтвердить свою вассальную зависимость от Орды. Возможно, зря, московское войско тогда было сильным. Недаром же в 1395 году непобедимый Тимур (Тамерлан), взяв Елец и выйдя к Оке, где на противоположном берегу его ждало московское войско, предпочел повернуть прочь. И вряд ли за этим фактом стоит лишь сила воздействия одной чудотворной иконы Владимирской Богоматери.
Но, как говорится, Дмитрию Ивановичу было виднее. Куликовская победа стоила Московской Руси недешево, да и других забот у Дмитрия Донского тогда хватало. После Куликовской битвы перед ним встали более укрупненные задачи. Началась практическая реализация идеи консолидации всех русских земель вокруг Великого Владимирского княжения, а стало быть, вокруг Москвы. Речь теперь уже шла не только о Северо-Восточной Руси, но и о полном подчинении Москве Твери, Рязани, Нижнего Новгорода, Новгорода Великого, некоторых русских земель, входивших в состав ВКЛ.
Требовалось определиться и в церковных делах на Руси, так как еще при жизни митрополита Алексея в них наметилась смута. Ольгерд не хотел примириться с тем, что митрополиты избрали местом пребывания Москву, поэтому слал послов в Константинополь с жалобами на Алексея, который «прямит» московскому князю, и просил особого митрополита в Киев с властью на Смоленск, Тверь, Новосиль и Нижний Новгород. Цель в рамках противостояния с Москвой, в общем-то, понятная. И жалобы Ольгерда отчасти были услышаны. Митрополитом в Москву был направлен Киприан, по происхождению грек. Но до Москвы он не дошел. По велению Дмитрия Ивановича его встретили под Любутском, сняли святые одежды и отправили восвояси. Так Киприан оказался в Вильне, где был обласкан литовским княжеским домом. Однако и попытка Дмитрия Ивановича поставить после смерти Алексея митрополитом своего духовника Митяя не увенчалась успехом. Созванный им епископский собор отказался принять такое решение без согласия Константинополя. Пришлось Митяю идти туда за разрешением, а путь лежал через Орду. Правда, Мамай встретил Митяя милостиво, но до Константинополя тот не дошел – умер в пути, как в свое время Александр Невский. С тех пор на Руси не то был митрополит, не то его не было.
Между тем в Вильне в это время начались свои забавы. В 1381 году Ягайло вновь попытался подчинить мятежный Полоцк, жители которого, несмотря на отъезд Андрея, по-прежнему не считали его своим государем. При этом великий князь Литовский обратился за поддержкой к Ливонскому ордену, что послужило для его дяди Кейстута отличным предлогом ревизии «завещания Ольгерда». В ноябре того же года Кейстут при поддержке жемайтов занял Вильно и провозгласил себя великим князем. Обиженный племянник, сохранивший владения в Витебске и Крево, вынужден был признать этот факт и пообещать Кейстуту «николи противу его не стояти и завжды в его воле быти».