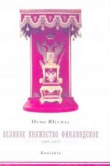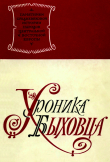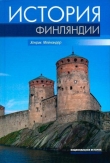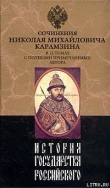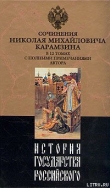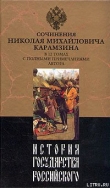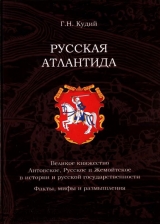
Текст книги "Русская Атлантида
Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское в истории и русской государственности. Факты, мифы и размышления"
Автор книги: Геннадий Кудий
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Ливонская война и образование Речи Посполитой
Московское государство перед Ливонской войной
Таким образом, всерьез проверив свои силы в серии войн друг с другом за прошедшие полвека, Московская и Литовская Русь сравнительно долго избегали серьезных конфликтов. Отчасти потому, что ставший в 1548 году полноправным правителем Польши и ВКЛ Сигизмунд II Август в делах внешних стремился поддерживать мир. Но главным образом в силу того, что внешнеполитические приоритеты Москвы тогда переместились на Восток. Венчавшись на царство, Иван IV Васильевич, позже нареченный Грозным, основные силы своего государства первоначально бросил на борьбу с Казанью, Астраханью и Крымом. Того требовали как цели полного контроля Москвы над Великим волжским торговым путем из Балтики в Персию и обратно, так и интересы дальнейшей борьбы молодого Московского царства за широкий выход к Балтийскому морю, немыслимой без возрождения его экспансии на земли Великого княжества Литовского и Русского.
Как известно, первого русского царя в детстве судьба не баловала. Отца он потерял, будучи трех лет от роду, а мать в 8 лет. Спустя шесть дней после смерти Елены Глинской бояре (князья И.В. Шуйский и В.В. Шуйский с советниками) избавились и от ее фаворита князя Оболенского. Следом от управления государственными делами были отстранены митрополит Даниил и дьяк Фёдор Мишурин – убежденные сторонники централизованного государства и активные деятели правительства Василия III и Елены Глинской. Даниил был отправлен в Иосифо-Волоцкий монастырь, а Мишурина «бояре казнили… не любя того, что он стоял за великого князя дела». Устранены также были сестра князя Оболенского и мамка Ивана княгиня Челяднина, князь Иван Федорович Бельский и др. Короче, в стране произошел новый государственный переворот, во многом ставший прологом опричнины и даже русской Смуты начала XVII века.

Сигизмунд II Август (1520–1572).

Иоанн IV Грозный (1530–1584).
Иван рос беспризорным, но зорким сиротой в обстановке придворных интриг, борьбы и насилия, проникавших в его детскую опочивальню даже ночью. Детство осталось в памяти Ивана как время обид и унижений, конкретную картину которых он лет через 20 дал в своих письмах к князю Курбскому. Особенно были ненавистны ему князья Шуйские, не только бесконтрольно распоряжавшиеся государственным достоянием, но и крайне оскорбительно относившиеся к маленьким великим князьям Ивану и Юрию.
Однако уже в 1543 году 13-летний Иван восстал против бояр, он велел схватить и отдать на растерзание псам князя Андрея Шуйского, после чего бояре присмирели (кстати, в ВКЛ такая расправа была невозможна в принципе). Власть перешла Михаилу и Юрию Глинским – дядям Ивана, устранявшим соперников ссылками и казнями и вовлекавших в свои меры юного великого князя, играя на его жестоких инстинктах. Не зная семейной ласки и страдая до перепуга от насилия в окружавшей среде по жизни, Иван тем не менее с 5 лет официально выступал в роли могущественного монарха в церемониях и придворных праздниках, что давало ему наглядные и незабываемые уроки самодержавия. Они же воспитывали литературные вкусы и читательскую нетерпеливость малолетнего правителя. Как писали многие исследователи его жизни, в дворцовой и митрополичьей библиотеках Иван книги не прочитывал, а вычитывал в них все, что могло обосновать его власть и величие прирожденного сана в противовес личному бессилию перед захватом власти боярами. Ивану легко давались цитаты, не всегда точные, но ими были переполнены все его писания, что создавало репутацию начитаннейшего и богатейшей памяти человека XVI века.
По понятиям того времени в 1545 году Иван Васильевич достиг совершеннолетия и стал полноправным правителем государства. 13 декабря 1546 года он впервые высказал митрополиту Макарию намерение жениться, а перед этим венчаться на царство «по примеру прародителей» из Византии, которая всегда были образцом для православных стран. Но Византия к тому времени уже давно пала под ударами турок. Поэтому через династическое родство с Софьей Палеолог, а значит с византийскими императорами, Московское государство, по понятиям его православных подданных, вполне могло претендовать на духовное наследие Царьграда-Константинополя. Данная идеология к московским делам, мягко говоря, была притянута за уши, но торжество самодержавия олицетворяло для митрополита Макария и торжество Православной веры, тем самым интересы царской и духовных властей сплелись воедино. Торжественное венчание на царство Ивана IV состоялось 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля. Митрополит возложил на него знаки царского достоинства – крест Животворящего Древа, бармы и шапку Мономаха, Иван Васильевич был помазан миром, а затем митрополит благословил царя.
В 1558 году константинопольский патриарх Иоасаф II сообщал Ивану Грозному, что «царское имя его поминается в Церкви Соборной по всем воскресным дням, как имена прежде бывших Византийских Царей». Это «повелено делать во всех епархиях, где только есть митрополиты и архиереи». Царский титул позволял Московскому государству занять принципиально иную позицию в дипломатических сношениях с Западной Европой и остальным миром, поскольку великокняжеский титул тогда обычно переводился как «принц» или даже «великий герцог», тогда как титул «царь» в иерархии стоял наравне с титулом «император». Уже с 1554 года новый титул безоговорочно предоставлялся Ивану IV Англией. Сложнее стоял вопрос о титуле в католических странах Европы, в которых крепко держалась теории единой «священной империи». Но в 1576 году с титулом Ивана IV смирился и император Максимилиан II.
Гораздо упорнее оказался папский престол, который, с одной стороны, отстаивал исключительное право пап предоставлять королевский и иные титулы государям, а с другой стороны, не допускал нарушения принципа «единой империи». В этой непримиримой позиции папский престол находил поддержку у польского короля, отлично понимавшего подоплеку и значение притязаний московского государя. Сигизмунд II Август представил в Рим записку, в которой предупреждал, что признание папством за Иваном IV титула «Царя всея Руси» приведет к отторжению от Польши и Литвы земель, населенных родственными московитам «русинами», и привлечет на его сторону молдаван и валахов. В свою очередь Иоанн IV придавал особое значение признанию его царского титула именно в Литовско-Русском государстве, но ни ВКЛ, ни Польша в течение XVI века так и не согласились на это. Из преемников Ивана IV его мнимый сын Лжедмитрий I использовал титул императора, но Сигизмунд III, посадивший его на московский престол, официально именовал его просто князем, даже не «великим».
После венчания Ивана IV на царство в январе 1547 года его родня (Глинские) обрела большое влияние, но в государстве было неспокойно. Противостояние боярских кланов продолжалось, а 1547 год был к тому же насыщен пожарами. В апреле сгорела часть Китай-города, через неделю кварталы за рекой Яузой. В конце июня заполыхала почти вся остальная Москва. В течение двух дней горели Арбат и Кремль, сохранившаяся ранее часть Китай-города, Тверская;, Дмитровка, Мясницкая и другие городские районы. В выгоревшей 100-тысячной Москве было найдено свыше 3700 обгорелых трупов. По городу поползли слухи, будто его спалили колдовством Глинские. С подачи их соперников (царского духовника Бармина, боярина Федорова-Челяднина, князей Скопина-Шуйского, Тёмкина-Ростовского, Нагого и Захарьина) утверждалось, что княгиня Анна Глинская якобы разрывала могилы и вырезала сердца покойников, а высушив их, толкла в порошок и сыпала в воду, которой потом окропляла улицы и дома. Собравшаяся на Соборной площади Кремля после пожара толпа растерзала родственника царя Ю.В. Глинского, после чего сожгла и разграбила сохранившиеся дворы этого рода. 29 июня бунтовщики явились к Ивану IV в село Воробьёво и потребовали выдачи остальных Глинских. С большим трудом толпу удалось убедить, что их в Воробьёве нет.
Едва опасность миновала, царь приказал арестовать главных заговорщиков и казнить их, но восстание привело к падению рода Глинских, а юный правитель убедился в разительном несоответствии его представлений о власти с реальной действительностью. А посему рьяно взялся за государственные реформы и укрепление самодержавия. Именно в то время появился священник Сильвестр, «опустивший царя с небес на землю». Начиная с 1549 года вместе с Избранной радой (А.Ф. Адашев, митрополит Макарий, князь А.М. Курбский и протопоп Сильвестр) Иван IV осуществил ряд реформ, направленных на централизацию государства: Земскую и Губную реформы, ряд преобразований в армии. В 1549 году был созван первый Земский собор, в 1550 году – принят новый Судебник, ужесточивший правила перехода крестьян от помещика к помещику, в 1555–1556 годах – отменены кормления и принято Уложение о службе. Судебник и царские грамоты предоставляли крестьянским общинам право самоуправления, раскладки податей и надзора за порядком.
Иван Грозный запретил въезд на территорию Московского государства еврейских купцов. Когда же в 1550 году Сигизмунд Август II потребовал отменить этот запрет, Иоанн IV отказал ему в таких словах: «В свои государства Жидом никак ездити не велети, занеже в своих государствах лиха никакого видети не хотим, а хотим того, чтобы Бог дал в моих государствах люди мои были в тишине безо всякого смущенья. И ты бы, брат наш, вперед о Жидех к нам не писал», так как они русских людей «от христианства отводили, и отравные зелья в наши земли привозили, и пакасти многие людям нашим делали».
С целью устроить типографию в Москве царь обратился к датскому королю Кристиану II с просьбой выслать книгопечатников, и тот прислал в 1552 году в Москву через Ганса Миссингейма Библию в переводе Лютера и два лютеранских катехизиса. В начале 1560-х годов Иван Васильевич произвел знаковую реформу государственной сфрагистики. С этого момента в Московском царстве появляется устойчивый тип государственной печати – впервые на груди древнего двуглавого орла стал изображаться всадник – герб князей Рюрикова дома, изображавшийся до того отдельно. Новая печать скрепила договор с Датским королевством от 7 апреля 1562 года.
Весьма значимыми были преобразования и в военном деле. Основу вооруженных сил теперь составляло конное ополчение землевладельцев. Помещик или вотчинник должен был выходить на службу «конно, людно и оружно». Поскольку управление дворянским войском тогда чрезвычайно усложнялось обычаем местничества, на основе которого перед каждым походом (а иногда и в походе) происходили затяжные споры («С кем кого ни пошлют на которое дело, ино всякой разместничается», – отмечал в 1550 году Иван IV), то в 1550 году «избранная тысяча» московских дворян получила поместья в пределах 60–70 км от Москвы, а «Приговор о местничестве» того же года предписывал несение воинской службы «без мест». Это способствовало значительному укреплению дисциплины в войске, повышению авторитета воевод, особенно незнатного происхождения, и улучшению боеспособности московских вооруженных сил, хотя нововведение встретило большое сопротивление родовой знати, так как принцип занимать высшие посты в армии родовитыми княжатами и боярами тем самым нарушался.

Московские стрельцы.

Московская поместная кавалерия.
Кроме дворянского ополчения существовали служилые люди «по прибору» (набору): городская стража, артиллеристы, стрельцы. Сохранялось и ополчение крестьян и горожан – посоха, несшее вспомогательную службу. Стрелецкие части были учреждены в 1550 году и представляли собой постоянное пешее войско, вооруженное пищалями, бердышами и саблями. Эти войска были полурегулярными – стрельцы самостоятельно вели хозяйство, но государственное жалованье они тоже получали. Стрелецкие части вооружались новейшим оружием и организационно делились на московских и городовых, отдельно выделялись стремянные стрельцы. Командирами стрелецких частей назначались «дети боярские», обычно представители знатнейших родов и верхи Государева Двора. Оценки общей численности стрельцов колеблются от 10 тысяч до 25 тысяч человек. Со временем организационное строение стрелецкого войска было распространено и на все остальные войсковые части.
Резко выросло качество и боевые возможности московской артиллерии. Она стала разнообразной и многочисленной. Дж. Флетчер в 1588 году писал, что «ни один из христианских государей не имеет такой хорошей артиллерии и такого запаса снарядов, как русский царь, чему отчасти может служить подтверждением Оружейная палата в Москве, где стоят в огромном количестве всякого рода пушки, все литые из меди и весьма красивые». «К бою у русских артиллеристов всегда готовы не менее двух тысяч орудий…» – доносил императору Максимилиану II его посол Иоанн Кобенцль, а московская летопись сообщает: «…ядра у больших пушек по двадцати пуд, а у иных пушек немного полегче». Самая крупная в Европе «Кашпирова пушка» (гаубица весом 1200 пудов и калибром 20 пудов) принимала участие в осаде Полоцка в 1563 году. Также следует отметить долговечность московской артиллерии той поры – пушки, отлитые по повелению Иоанна Грозного, стояли на вооружении по нескольку десятилетий и участвовали почти во всех сражениях XVII века.
После двух неудачных предыдущих походов в 1552 году московское войско во главе с Иваном IV штурмом, правда лишь с третьей попытки, взяло Казань, а Казанское ханство с той поры стало частью Московского государства. В 1556 году та же участь постигла Астраханское ханство. Таким образом, весь Великий волжский торговый путь от Новгорода до Каспийского моря оказался под контролем Москвы. С неплохим результатом закончилась шведско-московская война 1554–1557 годов. Ее причиной стало установление прямых торговых связей между Московией и Британией через Белое и Баренцево моря вокруг Скандинавии, что сильно ударило по экономическим интересам Швеции, получавшей немалые доходы от транзитной московско-европейско-азиатской торговли. Согласно перемирию, подписанному в марте 1557 года сроком на 40 лет в Новгороде (вступило в силу 1 января 1558 года), граница между двумя странами устанавливалась по рубежу, определенному еще Ореховским мирным договором от 1323 года. Швеция безвозмездно возвращала Москве всех пленных вместе с захваченным имуществом. Московское государство тоже возвращало шведских пленных, но уже за выкуп. Наконец, успешно развивалась московская экспансия в сторону Сибири, начатая еще при Василии III и получившая достойное продолжение при Иване III.
Однако одной из самых больших проблем для Московского государства при Иване Грозном стали отношения с Крымским ханством. Став вассалами Османской империи, крымские ханы из династии Гиреев постоянно совершали опустошительные набеги на московские земли. В 1541 году они, например, дошли до Зарайска, в 1552 году – до Тулы, в 1555 году Девлет I Гирей хотел повторить нападение на Тулу, но вынужден был повернуть назад, бросив всю добычу. Так продолжалось и дальше, несмотря на то что победы Москвы на восточном и юго-восточном направлениях ограничили возможности для нападения крымских татар.
Руководитель внешней политики того времени А. Адашев настаивал на активных действиях против Крыма, однако встретил сопротивление со стороны Ивана IV, настойчиво стремившегося решить прежде всего балтийский вопрос. Кроме него и части московской аристократии, вступить в борьбу с турецким султаном Сулейманом I настоятельно требовали от Ивана Грозного римский папа и император Максимилиан, но царь благоразумно не ввязывался в эту историю. Правда, в целях обороны от крымцев в 50-е годы началось строительство Засечной черты – оборонительной линии из лесных засек, крепостей и естественных преград, проходившей южнее Оки, недалеко от Тулы и Рязани. Устройство Засечной черты оправдало себя уже в самое ближайшее время. Тем не менее крымскую опасность как таковую ни в XVI, ни в XVII веках ликвидировать не удалось.
Во внутренних делах тоже было не все ладно. Постепенно расстроились отношения царя с Избранной радой, то ли потому, что ее программа была исчерпана, то ли ввиду характера Ивана IV, не желавшего слушать людей, не согласных с его политикой, что гораздо более вероятно. За излишнюю самостоятельность во внешнеполитических сношениях с литовскими представителями в 1559 году в отставку был отправлен А. Адашев, а следом и Сильвестр. Как обычно, знать легко бы простила Грозному отставку своих прежних фаворитов, но она не желала мириться с покушением на прерогативы Боярской думы. Самым решительным образом протестовал против ущемления привилегий знати и передачи функций управления в руки приказных дьяков идеолог боярства Андрей Курбский. «Писарям русским князь великий зело верит, а избирает их ни от шляхетского роду, ни от благородна, но паче от поповичей или от простого всенародства, а то ненавидячи творит вельмож своих», – писал он. В общем, после 1560 года Иван IV становится на путь ужесточения власти, что быстро привело к репрессивным мерам, первоначально сравнительно мягким.
Тем не менее среди знати лавинообразно ширится стремление бежать от царя Ивана за границу, прежде всего в Великое княжество Литовское. Дважды пытался сделать это и дважды был прощен И.Д. Бельский. Были пойманы при попытке к бегству и на первый раз прощены князь В.М. Глинский и И.В. Шереметев. Зимой 1563 года в ВКЛ перебежали бояре Колычев, Пухов-Тетерин и Сарохозин. За попытку уйти туда же смоленского воеводу князя Дмитрия Курлятево сослали в отдаленный монастырь на Ладожском озере. Опасаясь опалы, в апреле 1564 года в ВКЛ перебежал Андрей Курбский. А в 1564 году московское войско было разбито на реке Уле, что послужило толчком к началу уже реальных казней тех, кого Иван Грозный счел виновниками поражения: были казнены двоюродные братья – князья Оболенские, Михайло Петрович Репнин и Юрий Иванович Кашин. Считается, что Кашина казнили за отказ плясать на царском пиру в скоморошьей маске, а Дмитрия Фёдоровича Оболенского-Овчину – за то, что он попрекнул Фёдора Басманова в гомосексуальной связи с царем. За ссору с Басмановым был казнен и известный воевода Никита Васильевич Шереметев. Короче, процесс репрессий пошел активно, а в 1565 году Грозный вообще объявил о введении опричнины.
Согласно его указу Московское царство делилось на две части: «Государеву светлость опричнину» и земство. В опричнину попали преимущественно северо-восточные земли Московии, где было мало бояр-вотчинников, ради ликвидации которых этот институт, собственно, и вводился. Центром опричнины стала Александровская слобода. А ее первыми жертвами – главный воевода в Казанском походе А.Б. Горбатый-Шуйский с сыном Петром, его шурин Пётр Ховрин, окольничий П. Головин (чей род традиционно занимал должности московских казначеев), П.И. Горенский-Оболенский (его младший брат Юрий успел спастись в Литве), князь Дмитрий Шевырёв, С. Лобан-Ростовский и др.
Началом образования опричного войска тоже считается 1565 год, когда был сформирован отряд в 1000 человек, отобранных из опричных уездов. Каждый опричник приносил клятву на верность царю и обязывался не общаться с земскими людьми. В дальнейшем число опричников достигло 6000 человек. В опричное войско включались также отряды стрельцов с опричных территорий. С этого времени служилые люди стали делиться на две категории: дети боярские, из земщины, и дети боярские, «дворовые и городовые», то есть получавшие государево жалованье непосредственно с «царского двора». Следовательно, опричным войском надо считать не только государев полк, но и служилых людей, набранных с опричных территорий и служивших под начальством опричных («дворовых») воевод и голов. Введение опричнины ознаменовалось массовыми репрессиями: казнями, конфискациями, опалами. С помощью опричников, которые были освобождены от судебной ответственности, Иоанн IV насильственно конфисковывал боярские и княжеские вотчины, передавая их дворянам-опричникам. Самим боярам и князьям предоставлялись поместья в других областях страны, например в Поволжье, причем далеко не всем. Напротив Кремля на Неглинной (территория нынешней РГБ) был построен каменный Опричный двор, куда переселился из Кремля царь.
В начале сентября 1567 года Грозный вызвал к себе английского посланника Дженкинсона и через него передал королеве Елизавете I просьбу о предоставлении убежища в Англии. Это было связано с известием о заговоре в земщине против него. По этому делу последовал ряд казней, а конюший боярин Иван Фёдоров-Челяднин, крайне популярный в народе своей неподкупностью и судейской добросовестностью, был сослан в Коломну. Вскоре его обвинили в том, что с помощью слуг он якобы собирался свергнуть царя. Фёдоров-Челяднин и еще 30 человек, признанные его сообщниками, были казнены, их поместья разгромлены, а все слуги перебиты. В целом, однако, репрессии носили беспорядочный характер. Хватали без разбора друзей и знакомых Челяднина, уцелевших сторонников Адашева, родню находившихся в эмиграции дворян и т. д. Побивали всех, кто осмеливался протестовать против опричнины. В подавляющем большинстве случаев казнили даже без видимости суда, по доносам и оговорам под пыткой. Как утверждают, Федорову-Челядину, например, царь собственноручно нанес удар ножом, после чего его изрезали опричники. В 1569 году Грозный покончил со своим двоюродным братом князем Владимиром Андреевичем Старицким: он был обвинен в намерении отравить царя и казнен вместе со своими слугами, а его мать Ефросинию Старицкую утопили вместе с 12 монахинями в реке Шексне.

Московский застенок XVI в.

Аллегория тирании Ивана IV.
Считая новгородскую знать участниками «заговора» князя Старицкого и подозревая ее в намерении переметнуться в Литву, в декабре того же 1569 года Иван IV двинул опричное войско против Новгорода. По дороге опричники устроили массовые убийства и грабежи в Твери, Клину, Торжке и других встречных городах. Было убито 1505 человек, в основном сидевшие по темницам литовские и татарские пленники, а также выселенные из своих домов псковичи и новгородцы, застигнутые опричниками по дороге в Москву. В Тверском Отрочьем монастыре в декабре 1569 года Малюта Скуратов лично задушил митрополита Филиппа, отказавшегося благословить царский поход на Новгород.
В самом Новгороде с применением различных пыток казнили множество горожан, включая женщин и детей. Точный подсчет жертв велся лишь на первых порах, когда Иван Грозный целенаправленно уничтожал новгородскую знать и приказных, устроив суд в Рюриковом городище (было убито 211 помещиков и 137 членов их семей, 45 дьяков и приказных, столько же членов их семей). В том числе главные дьяки Новгорода К. Румянцев и А. Бессонов, боярин В.Д. Данилов, заведовавший пушечными делами, виднейший боярин Фёдор Сырков, принимавший участие в составлении «Великих Четьих миней» и построивший на свои средства несколько церквей (его сначала окунули в ледяную воду Волхова, а затем живьем сварили в котле). После этого царь начал объезжать новгородские монастыри, отбирая у них все богатства, а опричники напали на Новгородский посад (остававшийся до тех пор нетронутым), перебив неведомое количество людей. С храма Св. Софии были сняты Васильевские ворота и перевезены в Александровскую слободу.
Расправившись с Новгородом, царь выступил на Псков. Его слуги убили игумена Псково-Печерского монастыря Корнилия, старца Вассиана Муромцева (с которым прежде переписывался А. Курбский), двух городовых приказчиков, одного подьячего и 30–40 детей боярских. После похода начался «розыск» о новгородской измене, проводившийся на протяжении всего 1570 года, причем к делу были привлечены и многие видные опричники. От этого дела сохранилось только описание в Переписной книге Посольского приказа: «Столп, а в нем статейный список из сыскного из изменного дела 1570 году на Новгородского Епископа Пимена и на новгородских дьяков и на подьячих, как они с (московскими) бояры… хотели Новгород и Псков отдати Литовскому королю… а царя Ивана Васильевича… хотели злым умышлением извести и на государство посадити князя Володимера Ондреевича… в том деле с пыток многие про ту измену на новгородцкого архиепископа Пимена и на его советников и на себя говорили, и в том деле многие кажнены смертью, розными казнми, и иные разосланы по тюрмам… Да туто ж список, ково казнити смертью, и какою казнью, и ково отпустити…».
Были схвачены и ряд лиц, задававших тон в государственных делах после разгона Избранной рады: А.Д. Басманов с сыном Фёдором, дьяк Посольского приказа И.М. Висковатый, казначей Н. Фуников-Курцев, опричный келарь (снабженец) А. Вяземский и др. Все они были умерщвлены, некоторые – особо изуверским образом. Так, Фуникова попеременно обливали кипятком и холодной водой, его жену голой посадили на натянутую веревку и протащили по ней несколько раз, а с Висковатого живьем срезали мясо. В Александровой слободе были утоплены в р. Серой домочадцы казненных (около 60 женщин и детей). Всего к казни приговорили 300 человек, однако 187 из них царь помиловал.
В 1571 году на Русь вторгся крымский хан Девлет-Гирей. При этом разложившаяся опричнина продемонстрировала абсолютную небоеспособность в отражении напасти. Привыкшие к грабежам мирного населения опричники просто не явились на войну, так что из них едва набрали только один полк (против пяти земских полков). Москва была сожжена. Вот почему во время нового нашествия Девлет-Гирея на Московское государство в союзе с турками, последовавшего в 1572 году, опричное войско изначально было объединено с земскими полками. Под командованием выдающегося полководца князя Михаила Воротынского эти силы с опорой на Засечную черту в начале августа 1572 года нанесли сокрушительное поражение значительно превосходящему их крымско-турецкому войску (в разных источниках его численность оценивается от 80 тысяч до 120 тысяч человек) в трехдневной битве при Молодях, всего в 50 километрах от Москвы. Без всякого преувеличения можно утверждать, что эта победа спасла тогда целостность и независимость Московского царства, хотя в дальнейшем была незаслуженно забыта, скорее всего, потому, что царь Иван IV в это время находился далеко от Москвы, спасаясь от татар бегством.
По существу, битва при Молодях была последним крупным регулярным сражением между Русью и Степью. Получив тогда мощнейший удар, Крым больше не сумел оправиться от поражения, так как практически все его боеспособное мужское население оказалось уничтоженным, а Османская империя была вынуждена остановить дальнейшую экспансию на север и запад. Считается, что крайней точкой, где было остановлено османское наступление в Европе, является Вена. На самом же деле первенство принадлежит селу Молоди. Вена тогда находилась в 150 км от границ Османской империи, а Молоди – примерно в 800 км. Именно у стен российской столицы, при Молодях, был отражен наиболее дальний и грандиозный поход войск Османской империи вглубь Европы.

Князь Воротынский и Иван Грозный.

Иван IV, опричники и обречённый боярин.
Несмотря на все это, спустя всего 10 месяцев по доносу холопа герой битвы при Молодях князь Михаил Воротынский был обвинен в намерении околдовать царя, после чего Грозный якобы лично рвал ему бороду и подсыпал угли к бокам 63-летнего воеводы. Измученного пытками князя отправили в Кирилло-Белозерский монастырь, но по дороге туда он умер. Правда, в том же 1572 году Иван Грозный отменил опричнину и запретил само ее название, хотя под именем «государева двора» этот институт просуществовал вплоть до его смерти. Одновременно неудачные действия против Девлет-Гирея в 1571 году привели к окончательному уничтожению опричной верхушки первого состава: глава опричной думы царский шурин М. Черкасский (Салтанкул мурза) «за намеренное подведение царя под татарский удар» был посажен на кол; ясельничий П. Зайцев повешен на воротах собственного дома; казнили также опричных бояр И. Чёботова, И. Воронцова, дворецкого Л. Салтыкова, кравчего Ф. Салтыкова и многих других. Тогда же Иван Грозный обрушил репрессии на тех, кто помогал ему прежде расправиться с митрополитом Филиппом: соловецкий игумен Паисий был заточен на Валааме, рязанский епископ Филофей лишен сана, а пристав Стефан Кобылин, надзиравший за митрополитом в Отрочьем монастыре, был сослан в далекий монастырь Каменного острова.
Оценивая итоги деятельности царя по укреплению самодержавия и искоренению ересей, немец-опричник Штаден писал: «Хотя всемогущий Бог и наказал Русскую землю так тяжело и жестоко, что никто и описать не сумеет, все же нынешний великий князь достиг того, что по всей Русской земле, по всей его державе – одна вера, один вес, одна мера! Только он один правит! Все, что ни прикажет он, – все исполняется и все, что запретит, – действительно остается под запретом. Никто ему не перечит: ни духовные, ни миряне». Может, так оно и было. В исторической науке вообще широко распространено мнение, что Иван IV Грозный был далеко не самым кровожадным правителем. Например, считается, что в печально известную Варфоломеевскую ночь на 24 августа 1572 года во Франции от рук католиков, поддержанных матерью французского короля Карла IX Екатериной Медичи, погибло больше людей (до 40 тысяч), чем за все его правление.

Варфоломеевская ночь.

Генрих VIII (1491–1547).
Недалеко отошел от Ивана Грозного в смысле жестокости (и отошел ли вообще!) другой его современник – английский король Генрих VIII. Вместе с тем нам почему-то кажется, что все эти «художества» первого московского царя прямиком привели к страшнейшей государственной смуте, случившейся на рубеже XVI–XVII веков, и уж никак не способствовали укреплению любви к Москве со стороны знати и населения Великого княжества Литовского, жившего в несравненно более либеральном и правовом государстве. Одновременно ВКЛ вынуждено было искать защиты от «прелестей» совместной жизни под властью московского самодержца, пусть и не в сильно любимой, но в гораздо более предсказуемой тогда Польше.
Великое княжество Литовское и Русское накануне Ливонской войны и Люблинской унии
Несмотря на непрерывные войны с Московским государством и Крымским ханством, вторую половину XV – первую половину XVI столетия можно считать золотым веком в развитии исторического ядра ВКЛ – современных Беларуси и Литвы. Это время отличали расцвет городов, экономики, торговли и культуры, высокая степень социальной и религиозной гармонии общественных отношений, чему во многом способствовали четверть века практически мирной жизни, продолжавшейся с 1537 года до вступления ВКЛ в Ливонскую войну.