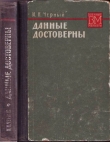Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
13
Ясь Пшевенда, по прозвищу Белесый, в то утро, как обычно, погнал коров из Блажеевиц на дальние пастбища, туда, за господский лес, в пяти с лишним километрах от деревни. Ясю уже исполнилось девять лет, волосы у него в соответствии с прозвищем были цвета выгоревшего льна, глаза небольшие, темно-голубые, штанишки, как и пристало пастуху, сильно потрепанные, ноги в синяках и царапинах. Три года уже он пас блажеевицких коров – сперва был помощником старика Палюса, а с весны, после смерти Палюса, стал самостоятельным руководителем этого отнюдь не последнего по значению деревенского ведомства; помогал Ясю один только пес Жуцай, известный своей ленью и капризами.
Обреченный ежегодно на семь и даже больше месяцев одиночества, Ясь стал не по возрасту серьезен. Коровы у него были хоть и тощие – ведь деревня каждый год начиная с января голодала, – но честные и благопристойные и границ отведенного им участка не нарушали. На пастбище Ясь обычно предоставлял им полную свободу действий. Жуцаю давал выходной до вечера, а сам принимался за технические изобретения.
Техника была его великой страстью. Еще несколько лет назад он сделал открытие – изобрел водяную мельницу. Для этого нужны две палочки, раздвоенные, как рогатки. Потом берут еще одну, круглую и прямую. Ее продырявливают посредине ножичком, в узкое и плоское отверстие всовывают кусок лучины, у самой оси в лучине делают врез, во врез вставляют другую лучину, все вместе немножко подравнивают и сглаживают. Потом ось с образовавшимися таким путем четырьмя «плавниками» кладут в расщепление двух первых палочек. Палочки вколачивают с обеих сторон какого-нибудь узенького ручейка так, чтобы вода доходила до «плавников» или как их там по-ученому назвать. Тогда они начинают вращаться. Если теперь эту конструкцию увеличить в несколько тысяч раз и кое-что в ней исправить, то получится настоящая мельница, как в Поробмке или Рожнове.
Блажеевицы были расположены в глухом углу страны, настолько далеко от границы, что о ней никто даже не думал. Война, однако, быстро сказалась на образе жизни Яся.
Самолеты, о существовании которых теоретически и раньше было известно в Блажеевицах, теперь стали одной из главных тем разговоров в деревне. Местные жители рассказывали, будто видели их, а несколько дней спустя дошли слухи о том, что в далеком воеводском городе сбрасывали бомбы, а в уездном местечке запретили зажигать свет. Яся все это очень взволновало, по ночам ему снились странные конструкции – телеги с крыльями, как у гусей, и другие нелепости. Он не стал медлить и сразу же изменил направление опытов своей лаборатории: гидроэнергетике он предпочел аэродинамику.
Жители Блажеевиц этот день провели, как обычно: с утра одни пахали под озимые (их мало сеяли, поэтому большинство крестьян справилось с пахотой еще на прошлой неделе), другие подкапывали увядшие кустики картофеля, ощупывали рукой клубни покрупнее и вырывали их, стараясь не разорвать корней, в надежде, что клубни поменьше до осени напьются соков тощей земли и подрастут. А многие крестьяне сидели в хатах или в овинах, гончарничали, стругали ложки из липы и даже рисовали по своему образу и подобию худых, преждевременно состарившихся Христосов, богородиц и святых.
Жителей этой деревни в округе презрительно называли халупниками – и потому, что халупы, хоть и покосившиеся, составляли их главное достояние, и потому, что из-за недостатка земли они большую часть времени проводили возле своих халуп.
Так получилось, что разразившиеся в тот день события застигли всех жителей деревни на месте. В знойный полдень, жаркий, как в июле, над двумя рядами – из-за отсутствия земли – тесно стоящих хат, над серо-зелеными от мха, прогнившими крышами раздался странный рокот. Вся деревня, услышав этот рев, выбежала на улицу, люди задирали головы, глазели; многие впервые в жизни видели нечто такое. Молодые не скупились на возгласы удивления, старики недоверчиво хмурились, как при виде всякой новинки, а наиболее грамотные стали считать черные крестики и насчитали целых пять.
Самолеты медленно сделали круг, как журавли, которые ищут спокойное место для пристанища, потом построились в ряд, будто дикие гуси, и вовсе исчезли.
Не успели крестьяне вернуться к своим ложкам, горшкам, рисункам, как от воя и свиста, напоминающего шум быстро мчащегося поезда, содрогнулась вся деревня. Теперь уже некогда было разбираться в том, что случилось. Над улицей пронесся один воющий самолет, вслед за ним другой, третий, четвертый и пятый; они летели так низко, что с высоких лип опали верхние уже пожелтевшие листья. Пять раз подряд тень промелькнула перед глазами, будто кто-то, удивившись, с молниеносной быстротой хлопал веками. Возле дома Войцеховских в болотце взметнулся черный фонтан ила, закрякали утки. И несколько раз подряд что-то мягко ударило в соломенные крыши, чмокая, как коровьи лепешки.
Сразу облетели листья с лип, а люди убежали с улицы. Старый Пшевенда, дед Белесого, из-за больных своих ног не мог встать с завалинки и увидел, как лепешка врезалась в крышу соседа и исчезла, подняв легкое облако пыли; почти тотчас распространился странный запашок, словно кто-то зажег огромную спичку, вроде серную. Потом на крыше появилось нечто до того белое, что даже глаза резануло, и затем уже огонь, вроде и обыкновенный, только не сразу вспыхивающий пламенем, а сперва, как колесная мазь, медленно расплывающийся, красными жидкими языками.
По деревне пронесся страшный вопль. Казалось, крик раздул огонь, который теперь ничем не отличался от обычного деревенского пожара, если не считать того, что он занялся не в одной лачуге, а сразу в двадцати. Пламя поднялось огромными, лениво колышущимися клубами, куполами, коронами. Прежде чем люди успели кинуться к колодцам, прежде чем выкатили первые кадки с водой, запылали все шестьдесят блажеевицких дворов. Крестьяне, которые пахали озимь, крестьяне, которые подкапывали картошку, заметив дым, прибежали в деревню, но их родимые гнезда уже превратились в груды докрасна раскаленных бревен.
Одного Яся судьба уберегла от этого зрелища. Господский лес был высокий и старый. Поглощенный очередным опытом, Ясь не обратил внимания на дым; два крылатых плода клена он проткнул посредине тонким сухим стеблем и подбрасывал это сооружение вверх, каждый раз передвигая стебель. Работа не клеилась, самолет кувыркался вокруг своей оси, нужно было продолжать опыты снова и снова.
Ясь услышал рокот самолетов и даже увидел их, однако они летели так высоко, что он не смог бы просто, глядя на них, постичь достижения господ Мессершмита, Юнкерса или Хейнкеля. Он рассчитывал, что самолеты снизятся, а когда они удалились и даже вовсе исчезли, мальчик вздохнул и с мыслью, что убогому и солнце глаза слепит, принялся за дальнейшие опыты.
В ту же минуту до него долетел необычный гром, но на этот раз он ничего не увидел. А пять минут спустя он снова услышал рокот в небе. Самолеты теперь шли ниже, он видел крылья, видел нимбы вокруг носовой части, сверкающие, как над головами святых, видел черные кресты с белыми ободками на бортах.
Их было пять. Ясь сиял от счастья, он таращил глаза так, что у него заболел затылок, и твердил не то самому себе, не то обращаясь к ним:
– Ниже, ниже, еще немножко! Что у вас там на хвосте устроено? Ну, еще немножко. – Он ласково уговаривал их, точно корову. – Ну, пестренькая, шевелись!
Один из самолетов словно услышал его просьбу: не то пестрый, не то грязно-коричневый, он оторвался от остальных, быстро сделал круг и с воем ринулся вниз. Ясь от счастья замахал руками, не замечая, что коровы задрали хвосты и галопом помчались в лес. А Ясь все еще махал руками, видя, как растет сверкающий нимб, а крылья превратились в два дула. Так он и умер, прошитый пулеметной очередью.
14
Цебуля завел разговор о Блажеевицах вечером, когда, удирая с очередных позиций, они проходили мимо деревни, уничтоженной артиллерийским огнем. Еще догорало несколько овинов, в горле оседал запах остывающей гари, даже папироса не могла перебить ее горький, противный привкус. То ли дело Блажеевицы… Как хорошо, что его деревня лежит далеко от границы, а от железной дороги, шоссе, ближайшего города – тоже километров десять с гаком. Одним словом, родным Цебули, все достояние которых (помимо половины морга земли) составляет лачуга, не угрожает судьба здешних крестьян.
А здешние крестьяне стояли возле пепелищ и смотрели на шагавших по дороге солдат. Несчастье словно оглушило людей; они молчали и не шевелились. На краю деревни одна хата сгорела так аккуратно, что печь сохранилась в полной неприкосновенности и над ней торчала труба, костлявая, как скелет. Изможденная женщина наклонилась к черной пасти печи и ставила на только что разведенный огонь горшок с водой. Двое детей уцепились за ее юбку, третий, лет пяти, с радостным криком тащил обугленную доску, чтобы бросить ее в этот семейный очаг.
– Ну, Блажеевицы далеко!.. – снова начал Цебуля, но тотчас замолчал, подбежал к женщине и протянул ей полбуханки хлеба из полученного утром солдатского пайка. Женщина не поблагодарила, она смотрела на него, не понимая.
– Не отставать! – строго прикрикнул на Цебулю Маркевич. Его точила новая боль, не похожая на ту, которая преследовала его в течение последних дней. Маркевич пытался заглушить эту боль, покрикивая на отстающих солдат, пытался убежать от нее: не смотрел в сторону разрушенных усадеб, искал глазами уцелевшие деревья, несожженные хаты, спешил скорее покинуть эту деревню.
Боль не унималась. В течение трех дней их батальон отступал, каждую ночь они рыли окопы, два часа прятались в них от бомбежки, от минометов и от самого худшего – массированного огня артиллерии, а потом отползали с ранеными за ближайший холм, лишь бы убежать от огня, строились в поредевшие колонны, на следующую ночь снова удирали на двадцать километров к северу, и снова повторялось то же самое: рыли окопы, сидели под огнем и так далее.
То, что происходило в первые дни, получило впоследствии в книгах военных историков название «битвы на верхней Варте и Видавке». А в конце концов их отбросили за Лодзь. Дело, конечно, не в названии, а в том, что это были три дня, заполненные страхом и ощущением своей беспомощности.
Роте Дунецкого больше ни разу не довелось идти в атаку. Ни разу больше на них не нападали немцы.
– Как в боксе, – объяснял Дунецкий, – только не по правилам. У немца и вес тяжелее и руки длиннее. К нему не подойдешь: он отскочит, а сам все время лупит тебя прямыми. К черту такую игру.
Маркевич плохо разбирался в боксе, но чувствовал себя именно так, как говорил Дунецкий; будто сразу, в первый же день его рубанули кулаком в челюсть или под ложечку и он отлетел вверх тормашками и потом его били еще и еще, а он машет руками в воздухе, как слепой (хоть разок задеть бы противника, хоть прикоснуться бы к нему!).
В этом сравнении было и нечто другое, другой смысл, с трудом проникавший в сознание Маркевича: его молотили два кулака, а не один. В первый день под Бабицами обнаружилось не только потрясающее превосходство немецких танков. Да, не спорю, танки были страшнее всего, но как расценивать бегство Потаялло со вторым взводом в полном составе; капитан не сказал ни слова, не крикнул нам, не дал сигнала, даже не попытался увести с собой, позаботиться о нашей судьбе… Он потерял голову – Маркевич ради собственного спокойствия хотел как-то по-человечески объяснить поведение, казалось бы, честного Потаялло: он растерялся, увидев такое множество танков; должно быть, шла целая дивизия, о которой теперь шепчутся между собой офицеры, рассказывая, как она рвет в клочья польскую оборону влево от них, на варшавском шоссе. Да, но и в этом случае…
А впрочем, что было потом, во время дурацкой операции двух батальонов против нескольких десятков немцев? Под Бабицами их подвел глупый капитан, командир роты. А здесь распоряжался сам полковник, с виду такой опытный, серьезный. И точно так же потерял голову, удрал, не вспомнив даже о своей головной роте. И еще Дунецкого обругал… За чьи же, черт их возьми, ошибки?
Второй кулак тоже был неуловим. Чем же объяснить, что уже два раза в решающие минуты начальники подводили Маркевича? Может быть, тем, что он не только урод, растяпа, но и неудачник, который постоянно нарывается на прохвостов?
Всякий раз, когда им приказывали отступать, у Маркевича возникали новые подозрения: неужели и теперь начальники бросили на произвол судьбы какого-нибудь простака вместе с его взводом, ротой или батальоном? Неужели в этих действиях опять столько же смысла, сколько в тогдашней атаке на дороге с тополями?
Два кулака били его в лицо, в грудь, в голову. Росло ощущение вражьей силы, росло убеждение в собственной слабости. И в результате где-то внутри начинала вызревать подлая мыслишка: а мне-то какое дело, все равно весь этот бордель разлетится, главное – спасти свою шкуру. Он пытался унять мерзкий голос инстинкта, но как его уймешь? Кто до сих пор влиял на его убеждения? А можно ли, не будучи уверенным в том, что существует нечто великое, более важное, чем твоя особа, можно ли, не будучи в том уверенным, выдержать хотя бы одну неделю такого сентября?
Любовь к родине, резко и болезненно им осознанная при виде разрушенных убогих деревенских хат, при виде детей, разорванных в клочья снарядами, при виде дыма пожарищ, преследующего их каждый вечер, любовь эта дошла до наивысшей точки, когда взгляд его привлекла сгоревшая хата и женщина у черной пасти печки, – и вот этой любви тоже грозило что-то вроде паралича: «Могу ли я один, ну пусть даже вместе с Цебулей, пусть с Дунецким, еще с двумя-тремя дельными парнями, – можем ли мы чем-нибудь помочь?»
Он боролся, отчаянно боролся с такими мыслями. Хватался за любой повод, лишь бы сломить апатию, лишь бы сохранить хоть крохи надежды.
Он думал о Потаялло, потом о командире полка и наконец в поисках утешения добрался до Рыдза: «О нем столько писали – ну, может быть, немножко и ради пропаганды, – но ведь самая малость, по крайней мере частица правды должна содержаться во всех громких словах, в заверениях, будто он настоящий вождь, опытный, мудрый, спокойный…»
Маркевич настойчиво повторял про себя эти фразы, когда прижимался к передней стенке окопа в ожидании очередной серии тяжелых снарядов, очередного налета пикирующих бомбардировщиков, очередного минного обстрела. Мысли о Рыдзе мало ему помогали, они были бессодержательны, пусты, просто у него была потребность поверить в существование чего-то прочного, что не рухнет с такой легкостью, как рухнули за эти несколько дней железобетонные красненские и подлясские аксиомы.
На третью ночь отступления с Видавки произошло событие, которое хоть и ненадолго, но все-таки укрепило хрупкую веру Маркевича. Их батальон выделили в походное охранение дивизии. Как-то так получилось, что они втроем – Маркевич, Дунецкий и командир батальона майор Олыпинский – сошлись у овина, набитого необмолоченным хлебом, ожидая, когда к ним присоединится последняя, шестая рота, которая в трех километрах позади тащилась по песчаной проезжей дороге. Над двумя заревами всходил блеклый, туманный рассвет; они ждали уже четверть часа, сперва им было жарко после быстрой ходьбы, но теперь стал пробирать предосенний холодок, а челюсти сводила зевота – результат нескольких недоспанных ночей. Ольшинский, коренастый блондин, из так называемой «свинячьей» породы, хмурил рыжеватые брови и хлопал светлыми ресницами, проклиная шестую роту, которая так отстает. Было тихо, даже канонада, преследовавшая их изо дня в день далеким тяжелым грохотом, притихла, будто и орудиям захотелось немножко поспать. В придорожном рву, как пораженные газом, навзничь лежали солдаты, храпели, открыв рты. Ольшинский не разрешил разместить солдат на сеновалах, пока не подтянется весь батальон, офицеров он тоже не отпускал от себя, такой уж у него был милый характер: «Пусть и другие помучаются, если мне так суждено!» Дунецкий злился на него еще за первую атаку; они стояли втроем и, насупившись, молчали.
Но вот Маркевич расслышал какие-то звуки, пока еще настолько далекие, что он не сразу смог определить, откуда они доносятся. Предположив, что это, быть может, приближается наконец шестая рота, Маркевич вышел на дорогу и стал вглядываться в туманно-серую предрассветную даль. И тотчас повернул назад: теперь с севера уже явственно слышался рокот мотора. Сперва он подумал, что летит самолет, и удивился, почему немцы так рано сегодня начинают.
Это был всего-навсего мотоцикл. Он ворчал за туманной завесой, долго его не было видно, а потом он вынырнул из мглы и оказался совсем рядом. Дунецкий поднял двоих солдат, их винтовки, взятые на изготовку, сразу остановили мотоциклиста.
– Свои, свои! – громко крикнул офицер, развалившийся в прицепе. – Кто тут старший? – Увидев офицеров, он выпрыгнул из мотоцикла и вежливо представился: – Я майор Гробицкий, из ставки Верховного командования.
Ольшинский тоже назвал себя. Гробицкий вполголоса сообщил ему, что едет вместе с генералом инспектировать части армии «Лодзь». Генерал на другом мотоцикле сейчас их нагонит. Ольшинский бросил красноречивый взгляд на Дунецкого, и капралы немедля кинулись расталкивать солдат, выгоняя их из рва, пытаясь построить в колонну по четыре в ряд.
Представитель ставки делал вид, будто не замечает суматохи. Он стал расспрашивать Олыпинского, как проехать в двадцать восьмую дивизию. Ольшинский не знал, но, вероятно, стыдился в этом признаться. Гробицкий извлек из кармана бумажку.
– Нет, нет, спасибо! – замахал руками Ольшинский. – Я ведь вижу…
– Бдительность прежде всего, – сказал Гробицкий. – Надо остерегаться шпионов. Немцы сбрасывают парашютистов.
Ольшинский в конце концов объяснил ему, как попасть в расположение главных сил их дивизии. Дунецкий вернулся в тот момент, когда Гробицкий обрисовывал всю ситуацию в целом.
Именно тогда Маркевич почувствовал облегчение. Дунецкий жаловался – вот сколько уже дней они только и делают, что отступают, а Гробицкий бегло пояснил: армия «Лодзь» служит приманкой – вовлеченные в ее преследование, немцы обрекают себя на фланговые удары с востока и запада. Ничего не поделаешь, армия «Лодзь» должна получить пинок в зад, зато потом…
Маркевич с напряжением слушал Гробицкого. Значит, есть какой-то смысл в этом почти неделю длящемся балагане. Там, наверху, о них думают, их страдания не напрасны и не безнадежны.
– Маршал Рыдз-Смиглый, – продолжал Гробицкий, словно читая в душе Маркевича, как в открытой книге, – сторонник маневренной войны, наполеоновского искусства сокрушать неприятеля малыми силами. Самое главное – держаться. Ну, тут у вас, я вижу, порядок. Мы с генералом были у ваших соседей справа, там, надо сказать, хуже. Правда, и немцы там нажимают сильнее.
Потом разговор перешел на политические темы. Гробицкий ругательски ругал коммунистов, уверял, что они сплошь диверсанты и шпионы. На Маркевича это произвело большое впечатление. Он непосредственно не сталкивался с коммунистами, но знал, что в Воложинском районе они представляют большую силу. Ему хотелось подробнее расспросить Гробицкого, но он не решился: из ставки! Маркевич просто принял к сведению это потрясающее сообщение и снова помрачнел.
Наконец пришла шестая рота. Олыпинский подозвал ее командира и в присутствии Гробицкого устроил ему головомойку за опоздание. А потом Гробицкий успокаивал его шуточками:
– Мой генерал тоже запаздывает, на войне всякое случается…
Гробицкий не дождался своего генерала и поехал его искать. Уезжая, напоследок дал совет: не размещать батальон в деревне. Вместе с Ольшинским они развернули карты. О, вот здесь кустики, замаскируйтесь, дайте людям отдохнуть, невыспавшийся солдат – это полсолдата.
Олышшский, разумеется, послушался его. Среди кустиков торчало несколько деревьев – сосны и ольха. Костры не разводили, ели хлеб и консервы. Солдаты стянули сапоги, и, когда наконец пригрело солнце, батальон храпел вовсю.
Маркевича мучили путаные невеселые сны. Далекие красненские воспоминания, лавина бабицких танков, сверкающая голова добродушно улыбающегося Рыдза. Недолгой была эта улыбка, ее сразу оттеснили какие-то кошмары. Человек в рваной меховой шапке хватал Маркевича за руку, лязгал зубами, тянул его куда-то, и он знал, что человек этот – коммунист. А потом грохот, перед глазами мелькнули обрывки сновидений, хмурое небо, какой-то просвет, сухая вершина дуба и тут же вырванные с корнем сосенки.
Маркевича разбудили крики и вновь настигший их рокот самолетов. Визг бомбы, взрыв, разворотивший землю. Он вскочил. Солдаты метались между кустами, часть из них удирала в сторону поля, несколько человек бежало к воронке, которая внезапно образовалась в расположении обоза.
Небо выло. Три самолета, вытянувшись в ровную линию, летели над кустами. У первого носовая часть опустилась, вой стал другим, более пронзительным.
– Ложись! – кричал кто-то.
– Беги! – ответили ему. Маркевич сделал несколько шагов, а потом упал со всего маху лицом в хвойные иглы. И в тот же момент – бомба, гул, вонючая горячая волна.
Едва они успели оттащить раненых, как подошло новое звено пикирующих бомбардировщиков. Бомбежка – с короткими перерывами, – в общем, продолжалась больше часа. Солдат, убегавших через поле, летчики обстреливали из пулеметов.
К вечеру попытались подсчитать потери: от батальона уцелела четверть состава. Помимо раненых и убитых, часть солдат попросту растеряли в этой панике.
Ночью они шли дальше на север. Чаще стали попадаться местечки, грязные, тесно застроенные, с множеством фабричных труб. Где-то справа осталась Лодзь. Связь с дивизией прервалась, высланные патрули не возвращались. Справа и сзади воздух сотрясала артиллерийская канонада. Навстречу им брели разрозненные группки солдат; они клятвенно уверяли, что их преследуют тысячи танков.
Ольшинский срывал злобу на Дунецком, Маркевиче, капралах, на любом, кто подворачивался под руку. Дунецкий пробовал возражать. Они поспорили из-за налета. Ольшинский упрекал Дунецкого, уверял, что его рота плохо замаскировалась. А Дунецкий возражал, утверждая, что место привала было плохо выбрано.
– Как это! – орал Ольшинский. – Сам майор Гробицкий из ставки мне посоветовал! Погодите, я снова подам рапорт о наложении на вас взыскания, только бы найти полк!
Дунецкий презрительно фыркнул, против майора из ставки он не мог найти аргументов.
В полдень поредевший батальон остановился возле рощи; Ольшинский спешил догнать дивизию и не разрешил длительный отдых. Маркевич дотащился со своей горсткой людей до передних рядов и увидел, что солдаты обступили мотоцикл. Майор Гробицкий, не вылезая из прицепа, что-то объяснял подпоручику, командующему головным отрядом. Маркевич уловил конец фразы:
– …Я жду генерала, он должен сейчас подъехать…
– Как? Вы все еще не нашли генерала, пан майор? – Маркевич сам удивился своей смелости. – Со вчерашнего утра?
– А вы кто такой? – Гробицкий бросил грозный взгляд на Маркевича.
– Пан майор… – смутился Маркевич. – Вы уже были у нас, рассказывали… даже посоветовали… – И тут его внезапно озарила мысль: – Вы нам посоветовали спрятаться в кустах. Неудачно как-то получилось, налет…
Гробицкий тотчас же отвернулся, хлопнул мотоциклиста по плечу, мотор затрещал.
– Некогда мне болтать, – отрезал он и махнул рукой. Мотоцикл тронулся.
– Стой! – рявкнул Маркевич с опозданием на четверть минуты. – Стой, стрелять буду!
Майор и мотоциклист только нагнулись, взвелся голубой дымок.
– Стреляй! – кричал Маркевич.
Не успели. Мотоцикл с майором Гробицким исчез за поворотом дороги.
Ольшинский отказался верить. Он даже прикрикнул на Маркевича. Однако на этот раз Дунецкий не уступал майору и принудил его замолчать. Они шли всю вторую половину дня, свернули направо, в сторону Варшавы. К вечеру, едва они миновали какое-то местечко, их снова настиг самолет, из-за дома взлетела зеленая ракета, описав дугу в их направлении, и снова бомбы полетели в то, что уцелело от батальонного обоза.