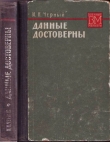Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 35 страниц)
Крики, сбегаются люди, раздается плач. Новак три раза кряду рассказывает одно и то же:
– В двух шагах отсюда, ни с того ни с сего, могли бы и меня…
Потом он уходит; нахлынувшая отовсюду толпа оттеснила его, он чувствует себя одиноким, ему не хочется повторять свой рассказ, потому что в его голове вдруг все мешается, родится новая мысль, она с трудом вылупляется и протискивается по окостеневшим от забужанского бытия мозговым извилинам. Новак чувствует, что мысль эта важная, инстинктивно, как животное, ищет тихий угол, где сможет все обдумать. Он идет, идет все дальше и обнаруживает удобный закуток возле своей лавки.
С трудом родится эта мысль, потому что все сильнее раздирают его два чувства: «Меня, они могли бы и меня!.. Что для них значит всадить пулю в живот, спустить курок?.. Что для них значит? Для них! Что им! Они плевали на все божьи и человеческие законы. Какая же это сила! На орла плюнули, над нами, надо мной смеялись, над нашей мостовой, над нашим городом! Они сильные». Великая скорбь наполняет сердце Новака, словно смех и плевки немцев предвещают смерть не только польского орла, но и его самого. А впрочем, в ту секунду он не ощущает разницы между смертью своей страны и собственной смертью.
Плакать надо от скорби. Скупые обрывки знаний, сохранившиеся с очень давних школьных времен и убогих третьемайских торжественных заседаний в Забуже, скупые обрывки истории Польши, тень Сомосьерры, несколько лавровых листков из венка князя Юзефа Понятовского [50]50
Юзеф Понятовский (1763–1813) – польский политический и военный деятель, участник восстания Костюшко; впоследствии командир Пятого корпуса наполеоновской армии в кампании 1812 г.
[Закрыть] – плакать, плакать бы над польской и Новаковой недолей, над смертью, осмеянной, оплеванной убийцами.
«Они могли бы и меня…» – снова заговорило это чувство. И, только переломив его, Новак наконец находит ту мысль, которая толкнула его от ратуши к домику Кагана: «Нет, именно меня не могли бы. Потому что я не ношу пейсов. Подошли, посмотрели – и ничего. Я не обрезанный. Великая сила. Могли бы, но не захотели. Им чихать на божьи и человеческие законы, но другие законы они уважают. Другие, свои. Божья заповедь гласит: не убий! Их заповедь гласит: не убий, но обрезанного можно. Значит, и другие заповеди… Как там насчет того, чтобы не пожелать ни осла, ни вола ближнего твоего?»
Домик Кагана смотрел на него слепыми прямоугольниками черных окон, и Новак тоже на них смотрел. Должно быть, взор его был полон такого ненасытного желания, что хозяин домика вышел на улицу.
– Добрый вечер. – Каган любезно поклонился, хотя был сильно напуган. – Вы слышали, какая беда с несчастным Иойной?
Новак утвердительно кивнул, но рассказ свой не стал повторять: несколько минут они вместе сокрушались по поводу гибели Иойны, прихода немцев, трагедии Польши.
– Но что же мы так, на улице, – спохватился Каган. – Извините меня, пожалуйста, не зайдете ли в дом? Вы стоите здесь, а может, у вас ко мне дело?
– Нет, я просто так! – ответил Новак. – Покойной ночи, я пойду. Да, такое горе… – И он очень быстро пошел домой, сжимая в кармане смятые бумажки.
Трагедия Польши мучила Новака всю ночь, его преследовали кошмары, несколько раз он просыпался, тяжело вздыхал. И только та подспудная, заботливо извлеченная наружу мысль принесла ему облегчение. Когда два дня спустя в местечко пришел немецкий полк, Новак встретил его совершенно спокойно и даже объяснял другим: немцы строги, но у них свой порядок. И, выговаривая слово «свой», он незаметно для себя округлял губы, словно облизываясь.
8
Они миновали задворки местечка. Направо и налево по тропинкам, по дорожкам, которые вели в одиноко стоявшие усадьбы, растекались небольшие группы людей в бурых халатах.
– Как вода из дырявого ведра, – заметил Вальчак.
– Правильно, – равнодушно, но твердо ответил Сосновский: он всегда соглашался с фактами. Кригер, разумеется, возразил:
– Ничего подобного. Как раз неправильно. Идя всем скопом, мы становимся силой, более того, становимся проблемой, – сказал он, многозначительно подняв палец. – С нами тогда надо считаться. А так, – он надул губы и презрительно махнул рукой, – по нескольку человек, в этих халатах… Любой полицейский нас сразу загребет…
Вальчак фыркнул.
– Как ты считаешь, Макс, пожалуй, и нам пора?
– Что пора, почему пора? – забеспокоился Кригер.
Кальве молча кивнул.
– Выметаться из толпы, – ответил Вальчак. – Из проблемы, – иронически повысил он голос и тоже сделал рукой затейливый жест. – Пока нас не захватили немцы…
Кригер вскипел и еще раз привел вещественные, по его определению, доказательства.
– А по существу дела… – продолжал он, когда они уже свернули на узкую мощеную дорогу, обсаженную ровненько подстриженными вербами, – …я принципиально считаю…
Впрочем, он послушно шел за ними, не делая практических выводов из своей столь красноречиво выраженной позиции. Он привык оставаться в меньшинстве и был достаточно дисциплинирован, чтобы вопреки собственному мнению выполнять решения большинства. Кажется, ему принесли большой вред иронически-лестные слова, высказанные по его адресу тем же Кальве давно, лет пятнадцать тому назад: «Из нашего Кригера когда-нибудь выйдет сильный диалектик». Хотя Кригер и тогда был недоверчив и всюду ему мерещились подвохи, но почему-то эти слова он принял за чистую монету и, поскольку довольно высоко (надо иметь в виду характер Кригера) ценил Кальве, решил не обмануть его надежд. Кальве, конечно, не догадывался, что Кригер в какой-то степени ради него раздувает почти до масштабов партийной дискуссии каждый самый пустяковый вопрос. Иногда Кальве выходил из себя, но чаще применял более действенный метод: тушил пламя речей Романа мелким песком молчания. После примерно часового монолога пылкий Кригер обычно трубил победу и затихал.
На этот раз он замолчал раньше: они дошли до конца дороги, до закрытых ворот, за которыми прятался среди георгинов и сирени одноэтажный домик.
– Рудольф Мюллер, – с удовлетворением прочитал Вальчак. – Именно это нам и требуется.
Кригер хмурился и ворчал во время предварительных переговоров с угрюмым толстопузым хозяином. Мюллер в конце концов уступил натиску Вальчака, позвал свою прекрасную половину, во всем уподобившуюся ему за тридцать лет совместной жизни, и приказал ей достать какое-нибудь тряпье. Всей гурьбой они вошли в чулан, где хранились в сундуке вычищенные и подштопанные «гарнитуры» для конюхов, вероятно, еще со времен «железного канцлера». Здесь на Кригера снова нашла вдохновенная жажда спора: он решил, что ему нарочно всучили самое скверное тряпье.
– Почему мне досталась такая рвань? Чем я хуже других?
– Ты попросту меньше всех…
– Ничего подобного! Сосновский такого же роста! Почему не ему? И почему этот кулак не дает белья?
Они стояли в тюремных подштанниках, серых, плохо выстиранных, слишком тесных, слишком коротких, с большими, в ладонь величиной, черными штампами управления тюрьмы. Сквозь дверную щель заглядывал в чулан угрюмый хозяин, недоверчиво косясь: не стащит ли чего-нибудь эта странная компания? Вальчак торопился; он считал, что они слишком долго здесь проканителились. Что касается белья, то из-под одежки его не видно, менять не обязательно. Зачем доводить этого субъекта, Мюллера, до крайности?
Наконец они тронулись в путь: Мюллер провожал их угрожающим ворчанием. Вальчак с улыбкой показал на кучу халатов.
– Они стоят больше, чем ваши не скажу какие лохмотья, перешейте их на спальные пижамы! Привет!
Шоссе уже опустело. Друзья двинулись вперед, Пройдя с километр, Кальве запыхался. Пришлось идти медленнее. Вальчак попытался шуткой приободрить товарищей и толкнул Кригера в бок.
– Эй, Куба, пошли в корчму! Сосновский со всей серьезностью спросил:
– Почему Куба, ведь Кригера зовут Роман? – После чего наставительно заметил: – Нет времени для корчмы, нам надо спешить, да и вредно пить с утра. – Минутку подумав, он добавил: – Впрочем, и денег нет.
Вальчак вынужден, был объяснить, что распространенное в деревни имя Куба и слово «корчма» должны символически подчеркнуть типично крестьянский облик Кригера в мюллеровском наряде. Только вот очки…
Шутка не удалась. Они шли молча, убийственно медленно проходили мимо однообразных кирпичных поселков, желтеющих садов, сжатых полей, гряд картофеля. Слева на горизонте темнел лесок, и житейски умудренный Вальчак, умевший ценить малые, но конкретные задачи, если большие пока что невидимы, воодушевлял товарищей:
– Лишь бы дойти до леска, в лесочке отдохнем.
К полудню наконец дотащились. Сосенки были тонкие. Они росли ровными рядами. Быть может, путники и отдохнули бы немного, если бы Кригера вновь не обуяла страсть к дискуссиям: он пустился в пространные рассуждения, на этот раз о влиянии земельной ренты на сокращение площади лесных посадок – Кригер по профессии был экономистом. Вальчак почувствовал, что больше не вытерпит, и призвал своих спутников идти дальше.
На сеновале под Кротошином они, совершенно обессиленные, повалились на солому. За день друзья прошли около тридцати километров. Кальве был бледен, он лежал на спине, полуоткрыв рот, насупив черные брови. Кригер похрапывал, устав двигать ногами и чесать языком. Сосновский тоже дремал. Только Вальчак, быть может больше всех измученный – столько километров пути после стольких лет тюрьмы! – выполнял «светские» обязанности, поддерживал беседу с хозяином, который угостил их картошкой и молоком, а теперь сидел на колоде возле сеновала и рассуждал:
– Черт его знает, что творится. Раньше было известно, война – это война. Раз мобилизация, так мобилизация! А меня вот вызвали на сегодняшнее утро, прихожу – никого. Ни в старостве [51]51
Уездное управление.
[Закрыть], ни в полиции. Люди сказывают, собрались начальники в восемь часов и на подводах укатили в Калиш. А другие говорят – в Познань…
– А по радио что передают?
– Да ничего такого. Напротив, обещают даже, будто мы победим. Но где и как – неизвестно.
– Немцев не видно?
– Никогошеньки. Нашлись в городе охотники – на границу ходили. И там тоже вроде все убежали.
– Ну а если немцы придут, что вы будете делать?
– Да почем я знаю… Немцев-то я помню, в ту войну у них служил. Как пристанут, так не дай боже, всем тебя попрекнут, каждое лыко в строку поставят. Но опять же порядок у них есть. Теперь, говорят, с тех пор, как появился Гитлер, они стали настоящими разбойниками. Но мне что-то не верится, должно быть, просто так, пропаганда… будто евреев выгоняют? У нас ведь их тоже тормошат. Коли надо, ничего не поделаешь. А мужику и у нас нелегко, виданное ли дело: за квинтал зерна дают двенадцать злотых, а то и десять. Говорят, цены у них получше…
В конце концов, полный сомнений, ни в чем не уверенный, хозяин пошел в дом. После всего, что Вальчак услышал, ему не хотелось продолжать беседу. Он сердито сплюнул, в задумчивости вернулся на сеновал, повозился еще с минуту, устраивая себе ложе из соломы, наконец лег и вздохнул глубоко и безнадежно.
– Не расстраивайся, – вдруг вполголоса заметил Кальке, – не такие решают…
– Что же ты… – начал было Вальчак.
– Я слышал ваш разговор. Не могу заснуть, слишком устал. Чего ты от него хочешь? Мужик знает, что он один на свете. Если он на свою семью не заработает, так вместе с нею с голоду подохнет, и никому до этого дела не будет. Вот он и боится, как станет жить, если убежит отсюда. Он сам себя убеждал, будто можно остаться, будто не такой уж Гитлер страшный…
– Да-да… Что с ним сделаешь, если его пять гектаров важнее ему всего на свете, если интересы общества и всякая такая штука для него – пустой звук. Лишь бы своего кабанчика выкормить и несколько телег навоза заготовить, до остального ему нет дела…
– Ну, не забывай, что местные жители не типичны для Польши в целом. Тут с немецких времен в деревне почти не было безработицы, излишки рабочей силы уходили в прирейнскую промышленность. Зато в Жешувском или Келецком…
Вальчак не ответил, словно ему хотелось оборвать разговор именно на этой бесспорной теме. Еще несколько минут он слышал, как харкает и кашляет Кальве, потом заснул быстро, без снов, будто упал в глубокий обморок.
Ночь заглядывала в ворота, когда Вальчак проснулся – его дергали за руку.
– Вставайте, вставайте, – настойчиво повторял кто-то, и однообразие этого призыва несколько приглушало испуг, звучавший в голосе. – Вставайте…
– Что случилось? – вскочил Вальчак.
– Вставайте, – уже не мог остановиться хозяин. – Вставайте… – Он вдруг осекся и наконец договорил: – Бегите. Немцы в Кротошине…
И тут же бросился на двор, где суетилась женщина.
– Магда! – крикнул он. – Ступай в чулан, собирай одежу. Войтек, запрягай, черт возьми!
Вальчак вышел во двор.
– Хозяин, откуда вы знаете, а может, это только слухи?
– Да ну! – Хозяин пробежал мимо него, сгибаясь под тяжестью мешка ржи, с трудом взвалил его на воз и снова побежал. На этот раз он остановился возле Вальчака и заговорил испуганным шепотом: – Утек оттуда один человек; рассказывает, пришли и первое, что сделали, – бургомистру пулю в лоб. Бургомистру! А я в восемнадцатом году в восстании участвовал, под Бедруском. – Он снова кинулся в амбар с криком: – Я поляк, под немцем не останусь!
Вальчак вернулся на сеновал. Кальве уже встал.
Остальных двоих тоже наконец расшевелили. Они вышли в темноту, потягиваясь и дрожа от холода. Сосновский с надеждой в голосе спросил:
– Хозяин, куда вы едете? Может, нам по дороге?
– Как же! На Калиш, но сами видите, столько хлама, поросята…
– Понятно, – согласился Вальчак. – Чепуха, сами справимся.
– Войтек, чтоб тебя, когда ты запряжешь?
– Поди сюда, отец, гнедая что-то словно…
Они уже вышли со двора, но на дороге их нагнал хозяин.
– Пан, – он схватил Вальчака за рукав, – что делать, кобыла у меня жеребится…
– Другой лошади нет?
– Есть-то есть, да вишь, кобыла…
– Попросите кого-нибудь из соседей приглядеть за ней…
Мужик схватился за голову, с полминуты он бормотал «Иисусе, Мария, Иисусе, Мария», наконец швырнул шапку наземь и крикнул:
– Что будет, то будет, останусь! Войтек, не жмись, распрягай!
Не теряя больше времени, они пустились в путь. Было еще совсем темно, за лесом медленно загорались звезды ранней зимы, как назвал их Кальве, астроном-любитель. Кригер что-то ворчал про себя, Сосновский замыкал шествие. Они отошли от усадьбы, где злосчастный великопольский повстанец все еще бранил нерасторопного Войтека, и, пройдя с километр, вступили в зону полнейшей тишины. Так шли они до утра, пока солнце не заблестело на росе.
Какой-то городок, еще сонный. У дверей пекарни им ударил в нос приятнейший запах свежего хлеба. Они остановились как по команде. Вальчак выразительно похлопал себя по карману – денег у них не было.
– Что делать? – вздохнул он. – Пойду просить подаяние.
Он вошел в пекарню, остальные с беспокойством ждали. Минуту спустя они услышали пламенную речь Вальчака. Он рассказывал, что они убегают с границы, переоделись, чтобы их не узнали, а деньги у них отняли бандиты, выпущенные из тюрьмы.
Тишина, затем в дверях появился усатый толстяк, а за его спиной Вальчак.
Усач поглядел на них без особой симпатии, но все-таки вынес буханку еще теплого черного хлеба.
В городе шла нормальная, обычная жизнь: парикмахер протирал стекло витрины, в ресторане шипели сковороды, дети бегали по улицам, размахивая палками, которые им заменяли винтовки и сабли.
На шоссе Кальве заметил:
– Что же это за война, в самом деле? Наш хозяин был по-своему прав. Мы находимся совсем близко от границы, и вокруг так спокойно.
Они шли, отдыхали час, снова пускались в путь. Близился теплый, безоблачный, прозрачно-синий вечер. Где-то очень далеко на востоке они увидели легкий розовый просвет.
– Месяц всходит, – пробормотал Сосновский.
– Тише! – прошептал Вальчак, выражение лица у него было выжидательное.
Прислушивались минуту-две. Где-то далеко что-то происходило. Казалось, предосенний холодок медленно сковывал землю и она слегка – но всякий раз неожиданно – вздрагивала.
– Артиллерия! – наконец произнес Вальчак. – Должно быть, километров за сто…
– В какой стороне?
Они снова стали прислушиваться. Но пожалуй, не через слух доходили до их сознания эти ощущения – беспредметные, не имевшие точного направления, – они воспринимали их всей кожей. Несколько минут спустя на бесшумном фоне возникло нечто новое: уже не вибрация, а глухие и тупые звуки, вернее, даже шорох.
– Что же это с луной? – Кальве не дождался объяснения физической природы шороха. – Запаздывает…
– Это вовсе не луна, – нехотя возразил Вальчак, – а пожар, но очень далеко.
– В нашем направлении, на востоке…
– Вероятно, бомбили…
Они прошли еще с полкилометра, наткнулись на деревушку. Должно быть, там все спали, было безлюдно и темно, даже собаки не лаяли, не предупреждали хозяев о появлении чужих. Друзья решили постучаться в какую-нибудь хату и снова остановились.
Смутный шорох стал приобретать определенный смысл: будто огромная гусеница ползла по дорожке, досыпанной гравием. Глухое трение о землю, иногда звучное эхо, чаще дробный топот. Вдали заржала лошадь, ее ржание донеслось сюда и показалось тонким, почти таким же мелодичным, как трель дрозда.
– Войска идут. – Вальчак даже вышел на середину улицы, словно надеясь что-то увидеть.
– Немцы! – испуганно и недоверчиво прошептал Кальве. – Надо бежать!..
– Куда? Назад в Козеборы?
Кальве сразу остыл и некоторое время молчал.
– В самом деле, с востока… А может, это свои?
– Что бы они стали делать в этой пустыне?
– Черт подери! Может, их разгромили? Они ищут выхода…
– Прямо в центр Германии? Невозможно!
– Значит, что? Наступление на Берлин? – с гневной иронией высказал Кальве глупейшее из возможных предположений. Шум становился все более отчетливым, на фоне ритмичного топота слышался скрип колес, даже обрывки разговоров…
– Это не могут быть немцы! – уговаривал себя Вальчак. – Это пехота. Немцы, наверно, передвигаются на машинах…
Кальве смотрел во все глаза, стараясь уловить в темноте контуры приближающегося отряда. Но оттого, что зарево осветило часть неба, еще сильнее сгустилась темнота вокруг них. Только черные треугольники крыш деревенских хат вырисовывались на синеве неба. Как тогда, в тюрьме, недавние узники ждали, когда же прозвучит первое слово, которое решит их судьбу…
Наконец случайный порыв ветерка пригнал к ним кислый и резкий солдатский запах, а вместе с этой удушливой смесью железа и пота долетел, словно окутанный мягким мхом, нежный цветок солдатского красноречия: «Заткни глотку, сукин сын!»
Стремительно нарастала масса звуков. Из темноты внезапно вынырнули силуэты солдат в касках, со штыками на винтовках. Солдаты шли по обе стороны дороги, слегка наклонившись, упругим, хорошо натренированным шагом, Кальве инстинктивно отступил назад, и сразу грянуло «hände hoch!» [52]52
Руки вверх! (нем.)
[Закрыть] с явно привисленским акцентом.
– Свои, свои, спокойно! – крикнул Вальчак.
– Что за деревушка? – подскочил к ним с пистолетом какой-то человек, видимо унтер-офицер. Вальчак молчал. Черт, они не знали, что ответить – пришли сюда ночью.
– Ну? – грозно прорычал тот же голос. – Говори или…
– Дембина, – неожиданно пришла Вальчаку на помощь темная фигура у ворот.
– Где немцы?
– Нет, нет, ничего не слыхать, – продолжал тот же голос, и Вальчак вдруг заметил, что во всех дворах стоят люди, белеют силуэты женщин, пожалуй, даже дети вышли на дорогу.
– Марш-марш! – рявкнул на своих унтер-офицер. Солдаты сразу же двинулись двумя недлинными рядами.
– Головной дозор, – пояснил Вальчак.
Через несколько минут подошла вся рота. По команде – пятиминутная остановка, чтобы напиться воды, оправиться. Солдаты разбежались по дворам, заскрипели колодезные журавли, и сразу у многих ворот завязались разговоры на одну и ту же тему: что происходит, не отдавайте нас немцам, куда идете?
– На Берлин! – отвечали солдаты на все вопросы, и неизвестно было, отделываются ли они злой шуткой, чтобы не выдавать военную тайну, или хотят утешить неразумное гражданское население ослепительной перспективой победы.
Отряд двинулся дальше, невидимая пыль пахла уходящим сухим летом. Спустя полчаса в деревню пришло в три раза больше солдат. Вальчак взял Кальве под руку.
– Пойдемте ляжем спать. Так может тянуться всю ночь. Батальон в полном составе. Может быть, это фланговый отряд крупной части? Черт возьми, а вдруг и на самом деле не так уж все плохо? Зачем бы они лезли сюда?
Казалось, что он прав. На следующее утро Вальчак и его друзья прошли через станцию, на которой стояли три длинных товарных поезда. Паровозы шипели, повернувшись мордами на запад, в вагонах полным-полно солдат, несколько платформ забито орудиями, прикрытыми зеленым брезентом.
Не останавливаясь, они проталкивались сквозь толпу женщин, глазевших на поезда. И здесь обрывки разговоров звучали одинаково: «На Берлин!»