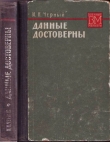Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
Вернуться к работе над этой «оперативной мыслью» ему удалось не сразу. Зазвонил телефон – резервный, прямой.
– Как дела, Густав? Все работаешь? Это твой старый товарищ, легионер, из Варшавского военного округа. Ну, не буду мешать, хотел только тебя поздравить. С чем? С новым успехом Нелли, конечно! Она была вчера в резервной дивизии под Варшавой. Играла в каком-то спектакле. Отличная идея. Офицеры просто с ума сходили. Она прекрасна, необыкновенно прекрасна!
Ромбич невежливо проворчал что-то в ответ и прервал разговор. Едва не проговорился, что впервые об этом слышит. Его охватило бешенство: не послушалась, болтается среди офицеров, они с ней любезничают, пожирают глазами. Дрожащими пальцами Ромбич набрал ее номер.
Нелли встретила его упреки мощной контратакой: в последнее время они почти не видятся, он ее совсем забросил…
– Ты ведь знаешь, что я сплю по два часа…
– И то не со мной! – эта шутка означала, что она великодушно прощает его упреки, после чего Нелли снова перешла в наступление: у нее столько хлопот, неприятностей, все ей надоело. А в театре одни обиды: с этой выдрой Гостинской подписали новый контракт, Нет, ставка, конечно, не выше, чем у нее, но и не намного ниже. Нелли требовала сочувствия и немедленного вмешательства. Ромбичу пришлось посетовать на скверные порядки в театрах и пообещать Нелли куда-то позвонить. Но обещал он это без особого энтузиазма. Гостинскую он знал и ценил, и, что особенно важно, она была не в ладах с женой Бурды из-за какого-то дипломата. Нелли не дала ему опомниться: прибыли новые осенние модели из Парижа. Но от ее предложений пойти вместе на выставку моделей все же отказался и повесил трубку, радуясь, что кое-как вышел из положения. Однако он тут же вспомнил, что она вовсе не обещала прекратить выступления в воинских частях.
Совершенно развинченный, Ромбич вернулся наконец к своему распорядку дня. Замечания Кноте. Ромбич еще раз отодвинул штору и, задрав голову, занялся картой. Допустим, армию «Познань» отвести назад, ну, скажем, к Бзуре. Но после объявления о всеобщей мобилизации в Познаньском воеводстве образуется несколько больших соединений. Бросить их на милость врага? Отдать самую богатую польскую провинцию? Какой политический эффект!
Но сделать это теперь – значит признать, что готовившийся в течение пяти месяцев оперативный план ничего не стоит. Как глядеть потом в глаза столь многочисленным завистникам и соперникам? Один Бурда…
Ромбич смотрел на карту, на три крупных скопления голубых флажков, особенно внизу, в районе Ополя. Теперь он вспомнил наконец, о чем шла речь в марте. Тогда еще не было такого сосредоточения войск противника – разведка сообщала лишь о нескольких дивизиях. На основе тогдашних данных он и разработал первый вариант. С тех пор чуть ли не каждую неделю прибывало по новой немецкой дивизии, а план почти не менялся.
Ромбич побледнел, облокотился о стол, потом тяжело опустился в кресло и, подперев рукой голову, долго вглядывался в свое детище. Так сидел он минут пятнадцать, весь во власти какой-то странной физической слабости, чувствуя себя так, будто где-то внутри у него отвинтился какой-то самый важный, самый сокровенный винтик. Он был не в силах уловить даже обрывки хоть каких-то мыслей. Потом в памяти всплыли чьи-то, лица, улыбки, слова, комплименты. «Наш Прондзинский» – кто это сказал? Каспшицкий? Гнусные глаза Пороли и «львиные когти». Он, конечно, льстил, ну а тот, другой? Нет, это невозможно! Лучшие умы армии, высшие чины – не могли же они все ошибаться? Что-то разумное в этом плане все же было?
Волна сомнений и отчаяния отхлынула. Ну, хорошо. Опольскую группу немцы усилили, наверно, раза в два… Но разве от этого изменилась политическая обстановка? Разве мы можем себе позволить в первые же дни войны отдать половину страны, лучшую половину, наиболее богатую, с промышленностью, арсеналами – словом, со всем, что в ней есть? И разве мы успеем вовремя передислоцировать части, переместить этапы, склады? Дивизия – не пешка на шахматной доске. Попробуйте сдвинуть с места эти двадцать две тысячи солдат, две тысячи лошадей, все эти повозки и сотни орудий. А если немцы ударят завтра или послезавтра, как раз во время перегруппировок? Это же будет разгром.
Ну что ж, ничего не поделаешь. Никакие кардинальные изменения уже невозможны. Разве только несколько передвинуть резервы на юг и на запад. Группу «Любуш» расположить так, чтобы она затормозила быстрое продвижение немецких войск, не позволила им растечься по всей низменности под Варшавой. А Кноте?
Прилив бодрости, вызванный воспоминаниями о недавних комплиментах, был еще так силен, что с Кноте ему удалось быстро разделаться. Завистник, претендующий на теплое местечко в штабе. Ищет дыр там, где их нет, – ну что же, это его право. Но как он все-таки глуп! При нынешней ситуации отказаться от командования – значит подписать себе смертный приговор. Это гражданская смерть.
Ромбич встал, прошелся взад и вперед по кабинету. Второй пункт – Фридеберг. Итак, он снюхался с Бурдой. Да, они ведь были вместе в третьем легионе. В таком случае дело предрешено заранее. Он остановился, посмотрел на Ополе и на два флажка группы «Любуш». Глаза его сузились, кончиком языка он провел по пересохшим губам. Когда же эта армия «Пруссия» будет готова? Он вытащил из письменного стола папку, перелистал бумаги. Нарев, Модлин, Карпаты. Где же дислокация армии «Пруссия»? Да, я показывал эту бумажку Кноте, а потом с досады смял и куда-то выбросил. Ромбич заглянул под стол, под шкаф, во все углы, еще раз выдвинул ящики письменного стола. В пепельнице кучка пепла. Наверно, нечаянно сжег вместе с телефонограммой.
Впрочем, детали не так уж важны. Важен замысел в целом!
Эта удачная стратегическая концепция настолько улучшила настроение Ромбича, что, когда его мысль перескочила от Бурды к странному поведению Вестри, он без всякого раздражения отнесся к своему предположению, что и Вестри снюхался с Бурдой; и даже решил, что за этой историей кроется что-то заманчивое, Вестри – богач. Вестри – хитрая лиса. И вот он в такой момент скупает акции тяжелой промышленности да еще платит наличными. Нет, он не умалишенный, те, которые продают, спятили. Да, но ведь он переводит деньги в заграничные банки. Акции упали, наша промышленность мало чего стоит, это ясно. Итак, Вестри играет на понижении? Вкладывает деньги теперь, в такое тревожное время? Может, он немецкий агент? Глупости. Зачем им покупать то, что в случае войны они и так заберут?
Оставалась только одна гипотеза. После недавнего приступа отчаяния настроение улучшилось. Ромбич даже улыбнулся. Он с радостью ухватился именно за эту гипотезу. Старая лиса Вестри знает, что делает. Если бы он рассчитывал на войну, то не стал бы вкладывать свои миллионы в гиблое дело. Наверно, бельгийские, английские и скандинавские родственники заверили его, что все в порядке! В последний момент, когда пальцы уже будут на курках, спасение принесет ловкий дипломатический ход, какое-нибудь обещание, может быть, даже уступка. Как же он разбогатеет! Вот уже две причины для радости. Первая – замечания Кноте будут представлять только академический интерес. Вторая – правы были те, кто называл его «наш Прондзинский». Вот она, наиболее разумная, наиболее проницательная интеллигенция Польши времен санации. Неплохо бы встретиться с этим Вестри! Приятно разговаривать с человеком, которого видишь насквозь.
Без двадцати два – пожалуй, можно собираться. Ромбич еще раз подошел к карте. А как же все-таки быть с группой «Любуш»? Обождем! Пусть Бурда понервничает, пусть не воображает, будто он такой всемогущий. Впрочем, выходит так, что вся эта группа может оказаться ненужной. А если бы… Ну, тогда мы уступим натиску Бурды, пусть Фридеберг покажет, на что он способен…
Мысли его почему-то вернулись к Нелли, к ее выступлениям в полку. На душе стало неприятно. Люди – свиньи, никому нельзя верить. Почему это ему вдруг пришло в голову?
Ах, из-за Слизовского. Ни словом не обмолвился о поездке Нелли в воинскую часть. А он знал, как же, они все сплетни собирают. Черт подери! Значит, и за Слизовским нужен глаз да глаз?
Ромбич смотрел на карту и думал о том, как, в сущности, одиноки великие люди. Потом на какое-то мгновение мысль, словно догоревшая спичка, угасла. Перед глазами замаячили лишь зелень на карте да красные и голубые пятна. Все-таки голубые флажки выглядят очень грубо. Он взял один голубой флажок и смерил его с красным. Нет, размер тот же. Черт! Может немного подрезать? Завтра наверняка приедет маршал, хоть на полчаса.
Закрывая дверь, уже после «спокойной ночи», он бросил Лещинскому:
– Немецкие флажки нужно заменить. Какой-то дурацкий цвет. Они должны быть… может, лучше их сделать бирюзовыми?
10
Вплоть до самого Розвадова Фридеберг неподвижно сидел у окна; грудь выпячена, подбородок немного опущен, руки на коленях. Он старался не прислоняться к стене, не вставать, даже не курить. Таким образом он пытался избавиться от скверного настроения. Нельзя сказать, что сидеть так было очень удобно. Впрочем, несмотря на солидное брюшко и нездоровый румянец, Фридеберг держался молодцом, у него была отличная офицерская выправка. Зато этот щенок Минейко!
Бедный поручик, разумеется, не мог позволить себе ни задремать, ни хотя бы расстегнуть воротник мундира… Поза генерала, его всевидящее око вынуждали Минейко быть все время начеку. Фридеберг упорно избегал его взгляда, не желал слушать его объяснений, всячески подчеркивал свое нерасположение.
Это давалось ему нелегко. Совсем не так просто разжигать в себе злость на кого-либо, если у тебя нормальный польский темперамент. Не более часу генерал помнил о том, как он дозванивался в рестораны и как неприязненно ему отвечали лакеи. Вся эта возмутительная история уже потеряла свою остроту: во-первых, Минейко все же нашелся и вел себя весьма смиренно, а во-вторых, его отсутствие не имело никаких практических последствий, на поезд они все-таки поспели и едут.
Хуже всего было то, что он никак не мог забыть основной причины всей этой неприятной операции. Бурда-старший, Казимеж, Стахевич, командование армией; Бурда Ян – возможно, будущий адъютант. Если не вдаваться в столь неприятные для солдатской совести генерала подробности, все сводилось к одному: нужно избавиться от Минейко.
Но сам Минейко никак не хотел облегчить генералу эту задачу. Ему уже не раз приходилось испытывать на себе генеральский гнев, и он отлично разбирался во всех его фазах. В момент взрыва – покорное усердие; то же усердие и исполнительность, но уже в более официальных рамках в течение последующих двух часов. Самое лучшее – не попадаться генералу на глаза; потом снова безукоризненная исполнительность, но уже в более теплых тонах, тут можно обнаружить и личную заботу о генерале и одновременно с помощью осторожных шуток выведать, не миновала ли гроза. И наконец, возвращение к нормальным отношениям – и никаких напоминаний. Это очень важно. Какой-нибудь намек, вроде: «Ну слава богу, генерал, вы уже не сердитесь», – мог вызвать новый взрыв гнева, еще более затяжной и грозный. Лучшее лекарство от плохого настроения – срочное дело, особенно чей-нибудь приезд. К сожалению, до возвращения на место ничего такого не предвиделось. И Минейко продолжал неподвижно сидеть, героически борясь со сном, не осмеливаясь даже закурить сигарету или опереться на спинку скамейки и расстегнуть воротник. Сидел, бессмысленно уставившись в одну точку, чуть левее генеральского лица.
Фридеберг лихорадочно старался припомнить все провинности Минейко: приключение с какой-то девкой, не поданный вовремя рапорт, беспорядок в канцелярии. Но все это мелкие провинности, к тому же давно уже пережитые и забытые. Наконец сонливость одолела генерала. Правда, назло Минейко он все еще боролся с нею, хотя и позволял себе на одну-две секунды забыться в дремоте. Это давало новый повод к раздражению: из-за паршивого Минейко не могу позволить себе даже вздремнуть.
Но в Розвадове это искусственно подогреваемое раздражение исчерпало себя. Фридеберг и Минейко вдвоем вышли на перрон и стали ждать поезд. Стояла теплая
августовская ночь, откуда-то издалека доносилось кваканье лягушек. Генерал взглянул на вокзал, и на него повеяло чем-то близким и родным: «Наконец-то я дома».
Когда они сели в пригородный поезд с дверями в каждом купе, это приятное чувство усилилось. Не только вокзал, но и вагоны были галицийские. Волна воспоминаний нахлынула на Фридеберга, и его неподвижная фигура понемногу оплывала, как свеча в жаркой духоте костела.
Фридеберг был родом из Кракова. Неясно, словно сквозь туман, вспоминался отцовский магазин на Казимеже, – неясно, потому что в школьные годы да и позднее он жил на бульварах, сначала на окраинных, Детловских, а потом на настоящих, близ Флорианских ворот. Здесь уже не было магазина. Отец богател быстрее, чем подрастал его единственный сын. Хозяин небольшой лавчонки, затем оптовый торговец и владелец маленькой фабрики в Подгуже стал потом главой весьма солидного для Кракова банка. Отец спасался от собственного прошлого, меняя квартиры, мебель, обычай, всячески ограничивая связь с родственниками, которым не удалось вырваться из Казимежа, и с раннего детства старательно оберегал своего сына от запаха еврейской нужды.
Сын хорошо все это усвоил. Еще в гимназии он почувствовал, что еврейское происхождение связывает эму руки, и вскоре перещеголял отца. Теперь он стыдился не только родственников из Казимежа, но и родного отца. И не только в присутствии друзей, но иногда они оставались дома, вдвоем. Отец раздражал сына тем, что слишком уж откровенно и поспешно бежал от прошлого. А главное, тем, что бегство это оказалось бесполезным именно потому, что оно было столь откровенным и поспешным.
Ошибки в языке, ужасное произношение, полное незнание истории Польши, литературы, искусства – всего, что скрепляет отношения на определенном общественном уровне, – и, наконец, навязчивое стремление во что бы то ни стало завести знакомства в новой для него сфере – все это унижало отца в глазах сына, даже если ему и не приходилось видеть тех улыбок, того пренебрежения, которые вызывал старый Фридеберг именно у тех, с кем он больше всего хотел поддерживать знакомство.
Сын довольно рано понял: отец обречен. «Настоящего поляка» из него никогда не получится, он так и. умрет, не переступив порог «земли обетованной». Поэтому, чем скорее сын порвет с отцом, тем легче ему будет перешагнуть заветную межу. Но от понимания такой необходимости до ее осуществления путь далек и тяжел. Отец был одинок, очень добр и совершенно беззащитен перед сыном. Кроме сына, ничто не связывало его с жизнью. Каково лишать его единственного ребенка?
Но стремление «ополячиться» так сильно овладело сыном, что он возненавидел не только свое происхождение, но и ту среду, в которой вырос. У евреев всегда было чрезмерно развито чувство семейных уз. И вот Фридеберг-сын создал целую теорию вредности таких уз. Он так долго настраивал себя против отца, что впоследствии, когда стал студентом, дал себе торжественный обет – не иметь с ним ничего общего…
Но это оказалось не так-то просто. Отец кричал, проклинал, отрекался, но потом умолял, пробирался потихоньку вечерами в бедную мансарду, терпеливо поджидал сына и незаметно исчезал, если сын возвращался не один. К тому же он регулярно присылал деньги. Сначала сын гордо отсылал их обратно: нет, он не хочет брать деньги у «кровавого эксплуататора пролетариата» (В это время сын заигрывал с социалистами.) Отца это не отпугнуло, он подкупал хозяйку очередной квартиры, вкладывал банкноты в книги сына, заранее оплачивал учебу в университете. Он не просил сына вернуться в семью и ничего не требовал, кроме позволения украдкой видеть его иногда по вечерам. Демонстративное возвращение денег только ухудшило положение. Старик искал новые ходы и частенько бывал вынужден посвящать окружающих в тайны семейного конфликта, а иногда, что еще хуже, в его причины. Пришлось капитулировать.
Но дальнейшие шаги оказались еще более трудными. Это было время удивительного брожения умов. Маленький, придавленный ярмом бесплодной истории галицийский городишко внезапно стал центром различных противоречивых, порой враждебных друг другу идей и устремлений. Каждый мог найти в них что-то и для себя. Надо было только уметь выбирать.
Фридеберга сразу же потянуло к темной и вместе с тем обаятельной личности Лютославского [41]41
С именем и деятельностью Винцентия Лютославского (1863–1954), философа-идеалиста, проповедовавшего идеи «неомессианизма», связано движение «элеатов» (название «элеаты» заимствовано у древнегреческой философской школы).
[Закрыть]. Он побывал на одном из его выступлений – и этого оказалось достаточно. Быть может, больше всего Фридебергу импонировал откровенный антисемитизм оратора, в котором он усмотрел родство с собственными рефлексами… В идеях Лютославского он надеялся найти наиболее действенный, наиболее радикальный способ для того, чтобы избавиться от своего происхождения. Достаточно принять идею «элеатов» и всех об этом оповестить, как сразу избавишься от намеков на твои еврейские корни.
Однако «элеаты» вовсе не были склонны распространять свою программную любовь к ближним и на евреев. Фридеберг охотно отказался от привычки курить, еще усерднее выполнял другие «обеты», ходил на все собрания и несколько раз публично выступал в духе верности и преданности. Он ждал, что к нему подойдут, заинтересуются, но так и не дождался. Тогда он принялся сам напоминать о себе, и его стали избегать. Вскоре наступил первый кризис этого движения. Лютославский отправился в очередную поездку не то в Америку, не то в Вестфалию, и движение «элеатов» увяло. Теперь оно уже мало чем отличалось от обыкновенного религиозного братства.
Фридеберг отошел от «элеатов» и довольно легко перенес свой разрыв с ними. Вскоре он обнаружил в движении «элеатов» слишком много искусственного и не без основания пришел к выводу, что у них мало шансов на успех в Польше. Религиозность среднего поляка никак не отвечала возвышенным требованиям тирад Инициатора, от которых иногда мороз по коже подирал. При всей своей привязанности к католическому обряду поляк не любит обременять себя проникновением в догматы веры и тратить время на совершенствование духа. Вот почему в Польше такую большую роль играли клерикалы. Так, польская шляхта в свое время охотно отдавала евреям на откуп торговые дела, а ксендзам поручала все заботы о душе, лишь бы иметь свободные руки для бренных наслаждений, лишь бы не бояться кары господней… Если и согрешу, ксендз вымолит мне прощение. Инициатор не мог этого обещать, и не удивительно, что церковь без энтузиазма, а порой и с явным неодобрением присматривалась к этому, казалось бы, столь полезному для церкви движению.
Да и сами «элеаты» были подозрительно незначительными, какими-то чересчур мелочно-благопристойными. Нет, эти чистюли были способны вызвать только скуку, в Польше они не могли рассчитывать на успех.
Вскоре у Фридеберга появился новый кумир – независимость. Еще в школе он поклонялся его могуществу. Однако тогда этот культ был общепризнанным. Никто не подвергал его сомнениям, он носил почти официальный характер и воспринимался в чисто теоретическом плане. Учителя охотно соглашались, что «независимость» – высший смысл существования каждого поляка, но никаких практических выводов из этого не делали. Все они были исправными имперско-королевскими служаками, в дни тезоименитств надевали черные пиджаки с орденами и дрожали за свою пенсию.
В университете после короткого увлечения «элеатами» Фридеберг на ходу переключился и стал поборником независимости. У него это совпало с ростом симпатий к социализму – этому верному противоядию против юношеских сомнений, возникших при сопоставлении окружающей его нищеты и отцовского богатства. Таким образом, бунт против старых истин, как религиозных, так и общественных, усугублялся еще и личным, семейным конфликтом. Фридеберг при случае не забывал на него сослаться – отец, мол, банкир. К тому же краковские социалисты более спокойно относились к происхождению.
В течение нескольких лет Фридеберг в этой группе принадлежал к «самым красным». Он отрицал привычные моральные нормы: религию, семью, государство – все, за исключением независимости. Как ни странно, но новые его товарищи не принимали все это всерьез, относились к нему благожелательно и вместе с тем посмеивались. Его якобинство теряло всякий смысл из-за банкира-отца и милых шуточек с подсунутыми под подушку банкнотами.
Фридеберга это выводило из себя. А между тем совсем рядом в Королевстве Польском назревали революционные события 1905 года. Фридеберг сразу стал апостолом террора и просил дать ему боевое задание. Но из этого ничего не вышло: партийная дисциплина! Ты нужен здесь, какие могут быть разговоры! Кроме того, ты… гм… слишком субтильный.
Нет, и тут Фридеберг не сумел избавиться от тяжелого груза своего происхождения. Особенно сильно он это почувствовал, когда в единой до сих пор партии социалистов наметился раскол.
Революция была проиграна. Но в Кракове эту истину не сразу усвоили и не заметили, как на смену великой волне всеобщих забастовок пришла суета мелких покушений и экспроприации. Фридеберг еще долго считал, что не все потеряно, и по-настоящему понял свою ошибку лишь после того, как произошел раскол.
Он ни минуты не колебался, какой выбрать путь. Тут имело значение и то, что большинство товарищей примкнуло к левым, но решающую роль сыграли его общие установки. Левые спорили, ссылались на Маркса, на новые авторитеты – Бебеля и Ленина. Они были для Фридеберга слишком принципиальными и категоричными. Он и сам имел известные задатки полемиста и диалектика, но всячески старался их вытравить. В новой среде он почувствовал себя иначе. Именно так, по его мнению, должны были вести себя истинные поляки. Правда, его несколько смущало их преклонение перед Пилсудским («Мы никогда не имели абсолютных монархов»), но в данной ситуации едва ли можно было избежать уступок: пора покончить со старопольским бунтарством! Создадим мощную современную державу!
Все остальное его полностью устраивало. Весьма расплывчатые идеалы, которые так легко принять на веру, «Пусть старик за нас думает, зачем мне ломать голову?» В противовес галицийской лояльности – активное стремление к независимости, стремление бурное, но не настолько, чтобы навлечь полицейские репрессии. Оружием против левых служил лозунг: мы – революционеры; против эндеков [42]42
Эндеки – члены партии «Народова демокрация» (НД).
[Закрыть] – другое, не менее грозное оружие: мы – деятельные борцы за независимость, не чета «лояльным», а среди своих – нарочитая фамильярность, панибратство, разгульное веселье и ставка на армию.
Наконец-то Фридеберг нашел то, что искал. Нам не нужны ни религия, ни революция: Польша – это армия. В редкие минуты раздумий он приходил к выводу, что слово «солдат» наиболее полно выражает польский национальный характер. Был бы только хороший командир, а солдат, не задумываясь, выполнит любой приказ. Тут даже его природное бунтарство можно отлично использовать. Ну хотя бы в мелких, но рискованных разведывательных операциях и диверсиях.
В первые же дни Фридеберг вступил в один из повсеместно возникавших в то время кружков. С нежностью поглаживал он бурое от грязи ложе старой австрийской винтовки, одолженной для занятий в каком-то военном учреждении. По ночам зубрил разные уставы и вскоре стал образцовым кандидатом в офицеры.
Первую звездочку он получил уже в 1914 году, как раз на рождество, после ряда забавных стычек, мучительных переходов, преследований и бегств во время первого рейда в Келецком воеводстве. Пришлось пережить не одно разочарование. Ему казалось, что первый за последние пятьдесят лет польский отряд уже одним своим появлением на свет должен вызвать бурные всплески патриотизма. Но этого не произошло. Паненки бросали им цветы, в местечках их угощали яблоками и молоком, но никакого всенародного ликования не было. С тех пор он с особым удовольствием пел тот куплет из песни легионеров, в котором говорилось, что они не нуждаются в признании.
Вручение звездочки, быть может, было самой светлой минутой в его жизни. Они стояли на отдыхе в маленькой прикарпатской деревушке. Он знал заранее, что должен получить звездочку, но, когда в списке повышаемых в звании прочитали и его фамилию, чуть не упал в обморок. Ни одно повышение, даже последнее, когда он пять лет тому назад стал бригадным генералом, не было для него столь сладостным.
Это был не только вопрос самолюбия. Согласно его новейшей концепции «ополячивания», звездочка приобщала его к шляхте и навеки избавляла от мрачного комплекса происхождения. Он даже подумал, не закрепить ли свершившееся переменой фамилии. Но это все же показалось ему излишним. Его все знали, и, переменив фамилию, он рисковал привлечь к себе особое внимание.
Недолго, совсем недолго длилось ликование по поводу избавления от комплекса неполноценности. Через несколько дней пришло распределение. Он надеялся получить хоть какой-нибудь взводик, но его назначили квартирмейстером. Фридеберг написал рапорт, но его высмеяли. И почти в течение четверти века он ничего не мог добиться. Старался как мог, прямо из кожи лез – все напрасно. В общем, его ценили и любили, но именно это больше всего ему и вредило. Во-первых, его ценили. Все знали, что он ловкий, оборотистый и к тому же честный. Какой командир откажется от такого квартирмейстера? Во-вторых, его любили. Это значит, что все желали ему добра. А переубедить даже самых близких, что тоска Фридеберга по передовой – вовсе не поза, что он действительно стремится в окопы, он никак не мог. Приятели добродушно посмеивались над ним. Все были уверены, что это притворство. Даже те, которые считали себя знатоками человеческих душ, в ответ на его очередную просьбу хлопали по плечу и с большой доброжелательностью объясняли, что способные и опытные люди всюду нужны, брось, мол, свою фанаберию, и отсылали обратно – на склады и в санитарные части.
Фридеберг отлично понимал, в чем дело. Ему не простили происхождения. Было несколько евреев, которые попали в строевые части, воевали, получали повышения и награды. Но они были не из числа любимцев. Их держали там как бы в наказание. Другие сидели в тылу и были вполне этим довольны. Все считали, что им там и место. Это был даже не антисемитизм, а что-то похуже. Глубокое убеждение в принципиальном различии между евреями и поляками. Все, мол, евреи – трусы, боятся фронта, предпочитают теплые места в тылу. В принципе Фридеберг был готов с этим даже согласиться, но, когда ему отказали в командовании хотя бы небольшим отрядом, он убедился, что его по-прежнему считают евреем и все его усилия избавиться от своего происхождения пошли прахом.
Однако он не отступал и упорно искоренял в себе все, что считал отцовским наследием. Между прочим, полностью отказался и от всего, что связывало его с красными. Порвал как с теми товарищами, которые не вступили в легионы, так и с теми, которые вступили. С издевкой посмеивался он над недавними своими убеждениями и очень быстро усвоил стиль жизни и образ мышления легионеров. Он проявил стойкость, не примкнул к разбежавшимся в период Сулеювека [43]43
Речь идет о государственном перевороте Пилсудского в мае 1926 г. (Сулеювек – дача Пилсудского под Варшавой).
[Закрыть] и вскоре вынырнул и оказался среди горсточки «самых последовательных и преданных». Однако только после мая ему удалось частично взять барьер. Пройдя непродолжительную подготовку во Франции, он получил штабную должность и довольно быстро дослужился до чина генерала. Только назначение командующим округом помогло бы ему освободиться от комплекса неполноценности. Но вскоре он убедился, что он больше квартирмейстер, чем штабист. Проклятый комплекс вернулся, вернулся на гребне высоко поднявшейся волны официального антисемитизма. Генерал всячески изворачивался, рассказывал антисемитские анекдоты, плел про евреев разные небылицы, чуть ли не повторяя избитые лозунги эндеков: Все, конечно, смеялись, но и только. Казалось, что до конца дней своих он будет нести это тяжкое бремя. Иногда ему приходило в голову: а надо ли было бросать дом и тратить столько сил на странное и недостижимое «ополячивание»? Может, это был ложный путь?
События последних месяцев отодвинули все эти сомнения на задний план. С марта началось «деловое оживление». Формировалось командование армий, создавались оперативные группы. Несколько повышений, много назначений. Будет война или нет? Для Фридеберга не это было существенно. Мысли его шли в двух направлениях. Во-первых, будут ли своевременно выполнены все инструкции? Удастся ли справиться с запасами вооружения? И во-вторых, обойдут ли его и на этот раз? Оставалась последняя возможность для сведения счетов с проклятым происхождением и неудавшейся, отравленной жизнью. Сейчас или никогда!
Он действовал необычайно активно и сразу в обоих направлениях. Разговор с Бурдой был одним из многих и отнюдь не самым главным. Но сейчас благополучный исход разговора заслонил в генеральском сознании другие подробности этого вечера, затушевал многие весьма грозные признаки: имеет же он наконец право утешиться хотя бы в мечтах.
Поезд постукивал, посвистывал, покачивался, снопы искр разрисовывали черные окна вагонов красными точками. Неподвижный Минейко, почувствовав на себе генеральский взгляд, с трудом приподнял веки.
«Противный щенок, это все из-за него…» В чем он виноват, Фридеберг уже не помнил. Да и не это сейчас важно.
Стучит машинка, попискивает радио, на стол падает? бумажная лента. «Струмиловка еще обороняется, прошу поддержки в направлении на Выгоду и высоту 265». Дураки, пусть держатся, главный удар еще не разгадан. Солнечное утро, березы цветут розовым цветом, как южные каштаны, ветер их развевает, и они похожи на поставленные торчком тучи. Как забавно, ведь это новые снаряды. Что ж, пора в контратаку, где танки? Он влезает в танк, но танк ему мал, грудь и руки торчат из башни. Неужели этот сукин сын Минейко не мог подобрать танк по росту? Не было больших номеров? Надо было растянуть на колодке. Давит под мышками, Но зато так лучше наблюдать. Обождите, пока вернусь… Березы потемнели. Видно, подтянули тяжелые орудия. Нет, деревья ломаются. Взрыв! Скорее, туда – все трещит, лопается, падает. «Вперед, колоннами повзводно!» Они уже в окопах. Вот танк встряхивает – это те бросают гранаты. Они удирают. Скорее, в погоню! Нет бензина. «Черт возьми! Подталкивай, подталкивай!» Он с трудом вытаскивает ногу из башни. Какая гениально простая мысль: танк, построенный по принципу самоката. С нашими дорогами! Надо будет сделать заявку, пусть дадут патент. «Вперед!» – «Пан генерал, командорская лента ордена Виртути Милитари». – «К черту! Дайте ее Пороле, Пороле дайте. Мне эти игрушки не нужны. Я как Костюшко». Вот дети с цветами. Булава. «А это что за страшилище?» – «Это, господин маршал, ваш памятник. Памятник в виде дуба, это символ. Комендант ждет, пожалуйте сюда…» – «Эй, слушай, Фридеберг, что случилось с обмотками? Кто тебе позволил, чертова морда?» – «Комендант!» Какой комендант? Коменданта нет. Перед ним какой-то тип – короткие усики, смотрит вытаращенными глазами, подбородок трясется от бешенства… Так это он? Значит, это для него, для него он всю жизнь… А-а-а…