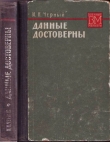Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)
– Во всяком случае, не от твоего Казика. Была у него вместе с Нелли Фирст. Необыкновенная женщина, не правда ли? – Скарлетт, нахмурив брови, молчала. – Казик о политике и говорить не хотел, все только об искусстве и театре… А с Фирст глаз не спускал.
На этом они и простились. Жена Бурды двинулась быстрым шагом. Как большое, хищное животное, она заранее оскалила зубы – жертва была уже намечена… Гейсс зловеще усмехнулась и побежала строчить очередную статью.
13
– Геновефа Кравчик? – повторил господин в очках и вопросительно взглянул на полицейского. Тот пожал плечами. Господин в темном костюме зашевелился в кресле.
– С ее мужем не все в порядке…
– Ах, это та? – Полицейский взглянул в блокнот. – Забастовка у Бабинского и Гелерта, так-так, Игнаций Кравчик… гм…
– Ну, что там? – с раздражением сказал господин в очках.
– Ничего особенного, только он больной, парализованный. После забастовки…
– Коммунист?
– Отчасти… Как и все они.
– Кравчик – баба горластая. Я как-то послал за квартирной платой, так она столько наговорила… Чуть кипятком не обварила. – Господин в темном костюме с видом мученика поднял глаза. – Работы, мол, не дают, все время плати да плати…
– За такие вещи судят, – заметил полицейский. – Надеюсь, вы возбудили против нее дело?
– Где там! Сам виноват, напустил бедноты в дом, одну засудишь, другие все окна у меня выбьют…
– Ну ладно! – оборвал его излияния господин в очках. – Итак, запишем: Геновефа Кравчик…
Господин в черном костюме с сожалением вздохнул, а господин в очках тут же прочел ему чуть ли не политическую лекцию:
– Сами говорите, что такая, как все. Подумаешь, какое дело – на крыше дежурить. На той крыше, не дай бог, может, придется пожар тушить, на смерть себя выставлять. Она вашу собственность защищать будет, а вы вздыхаете. Может, не надо бояться, эти дружины революцию не сделают. Кто следующий?
Геня не знала, что только вмешательство господина в очках дало ей возможность войти в дружину противовоздушной обороны их дома. Впрочем, не стала бы горевать, если бы и запретили. Она и в самом деле была горластая баба и на этот запрет не обратила бы даже внимания. Дома у нее свое, куда большее горе…
Вот уже полтора года, как Игнаций лежит в постели после забастовки. Его схватили вместе с другими пикетчиками и так сильно избили в комиссариате, что хотя как будто ничего и не сломали, но ни правой рукой, ни ногой он пошевелить не мог. Доктор из страхового общества, которого спустя две недели удалось затащить в дом, объявил, что у Игнация паралич правой стороны тела.
– Функциональный! – добавил он, как будто это могло их утешить.
– А это пройдет?
Доктор только руками развел:
– Может, и пройдет. Если б электротерапия…
– А сколько это стоит? – настаивала Геня.
Бросив взгляд на их комнату, доктор не захотел даже назвать сумму.
– Иногда бывает, и так проходит…
По совету заводских товарищей Кравчик пошла к другому врачу. Тот сказал, что электролечение иногда помогает, но редко, а стоит очень дорого.
– Страхование… – улыбнулся он.
Пока Казик был дома, она пыталась заработать на лечение стиркой белья. Но в марте сына взяли в армию, и тех нескольких злотых, которые он приносил из мастерской по ремонту велосипедов, не стало. Теперь не хватало даже на картофель, поэтому деньги, заработанные стиркой, шли не на докторские причуды, а на то, чтобы кое-как свести концы с концами.
Игнаций лежал и смотрел в потолок. Читал книжки, которые приносили соседи, но очень немного – быстро уставал. Пустоту своего существования заполнял думами – думать он мог сколько угодно. Думал и слушал, что говорят. Горевал и радовался вместе с соседями. Почти каждый вечер приходила к ним соседка Драпалова.
– Мой снова напился! У Енчмыков дети заболели корью, все трое… Стасика Нарембского, ну, того, что арестовали за забастовку, выпустили из тюрьмы, отсидел срок. Теперь им будет полегче, Стасик парень с головой. Витека выгнали с работы. У них сокращение. Дочка Михаляков пошла по дурному пути, недоглядели, им все некогда, все ссорятся… Нарембского снова забрали, на этот раз отправили в концлагерь, в Березу…
Такова была жизнь: десять огорчений, одна радость, и та недолгая.
Когда начали создавать дружины противовоздушной обороны, Игнаций почувствовал себя еще хуже. Измотавшейся Гене и так было трудно с мужем-инвалидом, а теперь стало, совсем невмоготу. Его не только надо было кормить, за ним надо было ухаживать, как за малым ребенком…
Из подвалов выгребали гнилую солому, остатки угля, разный мусор. Готовились укрытия и убежища. Что же будет с ним, с Игнацием? Кто его потащит в подвал? Он и так словно камень на шее у Гени, а теперь эта ноша для нее стала вдвое тяжелее.
К Гене прибегали бабы, болтали, будто за домом возле мусорных ящиков будут копать рвы – не то окопы, не то укрытия. Бабы копали и звали с собой Геню. Она убегала из дому украдкой. Когда Драпалова сообщила, что пан Паенцкий отнес список жильцов в комиссариат, насчет дружин, Геня заявила, что она и не думает защищать эту развалину, пусть горит! Она так кричала, что не сразу можно было понять, в чем дело. С этими, мол, дружинами людям одна морока, кругом один обман… и так далее, и тому подобное. Это, мол, только для безусых мальчишек, а не для взрослых мужчин, отцов семейств и матерей… Тут Игнаций вспомнил: когда Казику было лет шесть, у него разболелся живот. Как раз тоже в августе. И вот мальчику вдруг захотелось съесть огурец. Игнаций вспомнил, как они оба с Геней уговаривали его: и горькие, дескать, эти огурцы, и невкусные…
Так легко разгаданная хитрость Гени немного утешила Игнация. Он почувствовал, что он ей нужен, нужен, несмотря ни на что, даже увечный. Она все продолжала стоять на своем. Но тут он повысил голос и велел идти. Она прибежала из кухни вся раскрасневшаяся, поправила ему подушки, поставила кувшин с водой, принесла несколько сигарет и спички.
Зная, что он не может сдвинуться с места, вечером возле его кровати собрались соседи. С фабрики Бабинского и Гелерта, где он раньше работал, пришел только Драпала.
Говорили о том, что квартальным назначили Паенцкого, а тот свой подвал не хочет отдавать под убежище, хотя он у него и самый большой, и сухой, и с крепким потолком. Раздобыл себе где-то противогаз, о других и думать не хочет, не человек, а собственник. А хозяин магазина Рачкевич припрятал сахар… Толковали еще о шпионах, которых будто бы поймали на Главном вокзале…
– Нечего и говорить, война на носу. В четырнадцатом году тоже все началось с сахара.
Старый Ракец, прозванный Эдисоном и Изобретателем, подождал, пока бабы обговорят все свои глупости, и перешел к политике:
– Главное, что у нас капиталистическое правительство, ведь верно? А Гитлер, как известно, тоже капиталист. Вот и возникает вопрос: должен ли рабочий класс помогать одним капиталистам против других? А может, правильнее будет остаться в стороне или ударить по обоим сразу?
Игнаций слушал его с болью в душе. Эдисон был человек неглупый и начитанный. Но в молодости, еще в девятьсот пятом, его попутали анархисты, с тех пор в голове у него что-то перевернулось. Пока говорит, все как будто гладко, логично, не к чему даже вроде придраться. А кончит говорить – чувствуешь, что все это скверно пахнет. Так оно получилось и сейчас.
В сотый раз пожалел Кравчик, что раньше мало интересовался политикой. Варшавский слесарь, он хорошо помнил девятьсот пятый год, много раз участвовал в забастовках и различных демонстрациях, но ни к какой партии никогда не принадлежал. Все говорил, что политика для ученых людей, в чем интересы рабочего класса, он и так понимает, а остальное его не касается. Глупости говорил. Теперь ему и самому это было ясно. Без политики как без головы.
Был бы тут хоть кто-нибудь из их забастовочной группы! Ну, хоть тот, седой, в очках, как его, Роман? Или молодой металлист из Домбровы Гурничей. Или Ядя с фабрики Веделя. На худой конец хоть Стасик Нарембский. Все исчезли. В промежутке времени от тюрьмы до ссылки в Березу Стасик всего один день был на Охоте – ночью уже забрали. Единственным политиком, который тут оказался, был Малиновский из потребительской кооперации. Он был членом ППС и к тому же, как шофер фирмы, часто ездил по стране вместе с бухгалтером, товарищем Жачиком. От него-то он, конечно, и наслышался немало умных вещей. Ведь Жачик был чуть ли не членом варшавского окружного рабочего комитета.
Малиновский осудил позицию Ракеца:
– Что с того, что капиталисты? Товарищ Жачин считает, что мы должны сами со своими капиталистами справиться, а чужие пусть не суются. А потом, фашизм – это тоже капитализм, только еще похуже. Это уже моя мысль. Правильно говорю?
Кравчик охотно с ним согласился. Женщины молчали. Драпала пробормотал что-то одобрительное. Окрыленный успехом Малиновский разошелся вовсю:
– Позавчера я был на митинге. Выступал сам товарищ Гавалек, из Центрального исполнительного комитета. Он говорил, что хотя у нас режим, можно сказать, санационный, однако под руководством Польской социалистической партии и ее Центрального исполнительного комитета рабочий класс успешно борется за изменение этого режима. На днях он сам лично побывал у санационных руководителей и выдвинул требования рабочего класса… Говорит, что этот режим можно постепенно изменить. Я-то этого толком не знаю, но, наверно, он прав.
Кравчик с сомнением покачал головой:
– А о Голендзинове ничего не сказал?
– Чтобы подробно говорил, не скажу. Скорее так, в общих чертах, в принципе. Спрашивали, не обещает ли правительство амнистию для антифашистов. Но товарищ Гавалек забыл на этот вопрос ответить. – Малиновский вздохнул. – Нелегко с этой политикой.
Эдисон снял очки в проволочной оправе и погладил седую бороду:
– Все это одно очковтирательство. Только непосредственные действия… Гитлер или санация – один черт!
– Это уж извините! – Малиновский даже подскочил. – На это товарищ Гавалек дал ясный ответ: мы обязаны помочь правительству, даже санационному. Потом оно вынуждено будет нас отблагодарить.
– Жди у моря погоды. Глупые теперь люди пошли. Всему верят. С каких это пор капиталисты стали выполнять свои обещания?
Они долго спорили, один козырял Гавалеком, другой – каким-то Кропоткиным. Кравчик лежал и был готов застонать от бессилия. Каждый из них был в чем-то прав и в то же время неправ. Но в чем прав и в чем неправ? Женщины не слушали, толковали о дочке Михаляка и о том, где достать крупу. Драпала по очереди признавал правоту обоих спорщиков. А Кравчик никак не мог разобраться, где правда и где ложь.
Когда спорщики умолкли, так ни о чем и не договорившись, Геня снова завела разговор об убежище:
– Нельзя допустить, чтобы из-за жадности Паенцкого люди гибли. Он живет всего за два дома от нас, у них там над подвалом железные рельсы, да и дом на этаж выше. А убежище хочет готовить не у себя, а здесь. У нас стены трухлявые, дом просто от ветра может развалиться. Наши женщины ходили в комиссариат, но так ничего и не добились. В полиции прямо заявили: как Паенцкий решит, так и будет. Где же справедливость?
– Вот вам ваши капиталисты! – засмеялся Эдисон тонким и блеющим, как у козы, голосом.
– А щели? Где их будут копать? Возле мусорной свалки. Видно, для того, чтобы люди смрадом вдоволь надышались. У Паенцкого там красивые газоны, цветы, грядки с помидорами – конечно, свои помидоры дороже, чем люди.
Эдисон снова ехидно рассмеялся. Добродушием он никогда не отличался, а к старости становился все ворчливее и чудаковатее. Кравчик знал его больше тридцати лет. Еще подростком смотрел на него с уважением: люди говорили, что он делает бомбы из консервных банок. Однако ничего этими бомбами он не завоевал. Жил одиноко и последние годы сидел у себя на чердаке. Зарабатывал столько, сколько ему давали женщины за починку кастрюль. Когда увечье приковало Кравчика к постели, Эдисон к нему зачастил. Хочешь не хочешь, а больному приходилось выслушивать его болтовню. Зато если попадал на такого же, как он, любителя поговорить, мог проспорить часа два, а то и больше. Не так-то легко было с ним справиться.
На этот раз Малиновский не выдержал и довольно скоро ушел. Драпалу сморила послеобеденная чарка, и он мирно дремал в углу. Жена с трудом его разбудила и, как всегда, громко ругаясь, повела домой. Остался только Ракец. От всех этих разговоров Игнаций очень устал, и Геня, чтобы поскорее выпроводить последнего гостя, побежала на кухню, схватила старый примус и всучила его Эдисону:
– Воздух пропускает, где-то, наверно, дырка.
Он понял ее и ушел. Так они ни до чего и не договорились.
Ночью Кравчик снова не мог уснуть. Он уже привык к бессоннице, к одиноким своим мыслям в темноте, к черному потолку и серому окну. Чтобы как-то развеять безнадежность этих ночей, нужно было думать о чем угодно, только не о себе. О Гене, о Казике, о Драпалах. Мысли о политике не приносили облегчения, уж слишком все становилось сложно.
Но на этот раз его захватила именно политика. Война подбиралась все ближе и ближе. Что такое война? Он вспомнил, каким был во время той, первой войны, четверть века назад. В армию его не взяли. Бабинский добился. Потом, когда царская полиция велела всем эвакуироваться, он спрятался, переждал. Пришли немцы, был голод, приходилось ездить в деревню, менять нехитрые слесарные поделки на картошку и сало. Выкрутился, переждал – война, в сущности, прошла мимо него. Может, и правильно говорит Рацек, не рабочее это дело. Пусть капиталисты дерутся, если хотят, а меня, искалеченного санационной полицией, это не касается.
И все же чувствовал, что это его касается, да еще как. Вспомнил все, что вычитал из газет о немецком фашизме. Как можно допустить, чтобы и в Польше… Правда, у нас тоже полиция… Там бьют евреев, а у нас орудует буржуазия и разные пикетчики. Но ведь не вся Польша пикетчики да полиция… А Гитлер и фашизм…
Все ясно, спорить тут не о чем. На Гитлера надо идти пусть даже с голыми руками, все сделать, все отдать, но его не пустить. И все-таки Малиновский говорит что-то не то. Послушать его – у нас все хорошо: и санация, и голендзиновское правительство… Кричат, что и они против Гитлера… А почему Паенцкий такое вытворяет?
Не хотел политики. Ну и лежи, как дурак, на своей кровати и вздыхай, что ничего не понимаешь. А Казик? Казик в армии, где-то под Краковом. Ему грозит опасность, Гитлер, а ты…
Охваченный внезапным волнением, он потянулся за папиросой. Прижав ладонью коробок, раз пять чиркал спичкой, пока не зажег: дрожали пальцы. Потом глотал дым, кашлял, но папироса не принесла ему желанного облегчения, разве только минут пять, пока затягивался, ни о чем не думал.
Ни сна эти мысли не навевали, ни радости не приносили. Пытался думать об убежищах, о щелях, о спасательных дружинах… Выходки Паенцкого не были для него неожиданностью. И тут как-то легче ему было найти связь между эдисоновским отрицанием и соглашательством Малиновского. Даже удивился, почему это ему раньше не пришло в голову посоветовать женщинам и Драпале, что им следует предпринять.
Как только Геня проснулась, он сразу выложил ей свой план. Жена выслушала спокойно – уж очень она любила такую шумную работу. Вскоре прибежала Драпалова:
– Всех зовут копать, какой-то министр должен приехать.
Игнаций с нетерпением ждал возвращения Гени. Он чувствовал себя так, словно послал армию в бой и не знает, с чем она вернется. Жена оставила ему полбуханки хлеба и воды – горячего ничего не было, Эдисон примус еще не исправил. Старую газету, принесенную Малиновским, он перечитал уже в десятый раз: немного о Данциге, много о Кухарской, застрелившей брата, и еще о том, что министры тоже копают траншеи.
В полдень под окном поднялся шум. Во дворе тоже кричали. Сражение велось точно по намеченному плану. Он очень беспокоился: неужели не выиграют боя? Несколько раз он хватался за последнюю папиросу, но удержался: закурит, когда вернется Геня.
Наконец она явилась, пришла вместе с Драпаловой. Обе раскрасневшиеся, возбужденные, будто и в самом деле участвовали в драке. Драпалова веселая, а Геня сердитая. Говорили обе сразу, и понять что-нибудь было нелегко.
– Не дождется он, чтобы в этой норе…
– И просил, и молил… а нам наплевать, копаем, и все тут…
– Я ему кричу: и так жизни от вас нет, хотите еще на тот свет отправить? Фигу вам!
– Собралось нас человек сорок. И всей гурьбой… Правда, лопат было мало.
– Я скорее к дверям и поленом по замку… а он за полицией…
– Не успел оглянуться, как мы дерн порезали и давай копать.
– Прибежал полицейский: разойдись!
– Досок не хватило, так мы их сразу притащили…
– Стоим, ничего. А он к нам. Пошел, кричу, к черту!
– Ну и порядок, щель что надо. Дерн сверху положили, может, еще примется…
– Не дал подвала, собачий сын! Те, что напротив живут, оказались такими тряпками, покричали, покричали и ушли…
Итак, не победила ни та, ни другая сторона. Щель в огороде Паенцкого вырыли, но подвал он свой не отдал. Особенно радоваться было нечему. Но на Кравчика этот маленький успех подействовал лучше лекарства. Оказывается, и они могут кое-что сделать, правда, не очень много, но все же пошли наперекор Паенцкому и полиции. Больше всего его радовало настроение Гени. Можно подумать, что она всю жизнь только тем и занималась, что штурмовала чужие подвалы. Она долго не могла успокоиться, все вспоминала старые обиды и клялась, что не позволит больше Лавицкому эксплуатировать себя.
Когда вечером снова пришли гости, Кравчик сидел в подушках. Усы свои, сохранившиеся еще с довоенных времен, разгладил, зачесал вверх, и они завились колечками. Он протянул гостям руку и улыбнулся. Ракец принес исправленный примус. Малиновский – газету. Пришли женщины. Драпала, как всегда, был навеселе, но не сильно. Разговор зашел о Паенцком и скандале.
Выслушав женщин, Эдисон сразу сделал вывод:
– Я был прав, на них надо идти с кулаками…
Малиновский также считал себя правым:
– Копают щели, готовят убежища – я же говорил вам…
Взяв на вооружение последнее событие и широко используя его в качестве главного аргумента, спорщики снова ринулись в бой. А Кравчик лежал, слушал и постепенно сползал с подушек все ниже и ниже. Молодцевато подкрученные усы как-то поникли, и к концу он почувствовал себя таким же беспомощным, как вчера. А ведь так готовился к этой беседе, ждал ее с нетерпением и был так уверен, что именно сейчас выявит слабые стороны обоих спорщиков. Но вместо этого в голову лезли лишь какие-то мелкие, незначительные мысли. Копать рвы, разумеется, нужно, готовить убежища – тоже. Но надо это делать по-настоящему, без обмана. А если Паенцкий вздумал отлынивать, надо его заставить. Нужно действовать сообща, как во время забастовки, со всеми Паенцкому не совладать. Рассуждения эти были правильны, кто может против них возражать? Но все это такие мелочи и связаны только с их домом. Даже с этими спорщиками по-настоящему Кравчику не справиться. Приходится ждать, пока они выговорятся.
Наконец спорщики замолкли, так и не придя к соглашению. Снова женщины принялись ругать спекулянтов. Смеялись над Рачкевичем и Паенцким, которые для встречи с министром вырядились во все черное, как на свадьбу.
– В такую жару! – хохотала Драпалова. – Рожи красные, как свекла, ботинки начищены. Я незаметно песочком плеснула на его лакированные сапожки. Подпрыгнул, как будто на огонь наступил!
– А как этот министр выглядит? Очень важный? – спросил Кравчик.
Драпалова посмотрела на Геню, а та в сердцах только рукой махнула.
– Это из-за него с подвалом ничего не вышло. Столько полицейских понаехало министра охранять!
– Ну, ты-то не больно испугалась! – Драпалова повернулась к мужчинам. – Только мы вышли из подвала, и он подъехал. Полицейские честь отдают. А наша Геня прямо к нему. Что это, говорит, мы тут щели копаем, убежища готовим, а нас полицией стращают! Так ему в лицо и выпалила!
– Я его знаю. – Геня небрежно махнула рукой. – Он как цыган со скрипкой, по всем свадьбам бродит. Неделю назад, когда пулеметик вручили, тоже здесь был…
– Ну и что он тебе ответил?
Ответ, видно, пришелся Гене не по вкусу, и повторять его не хотелось. Драпалова поспешила подруге на выручку:
– Строгий мужчина! Как закричит! Дело, мол, идет о государственных интересах, а вы, мол, только о себе думаете… А она ему – что все это один обман…
– Пани Геновефа! – Малиновский только головой покачал. – Сказать самому министру, что это обман!
– А что он мне сделает? Что могли, то уже сделали! И верно, обман. Сами кричат, будто убежища нужны, а как до дела дойдет – один обман!
– А он снова… – с волнением продолжала Драпалова, – что государственные интересы превыше всего, что все должны жертвовать собой…
Геня сидела вся красная и смотрела в окно. Кравчик дотронулся до ее руки.
– Не расстраивайся. У них всегда так, как только какое-нибудь жульничество, сразу кричат – государство! И норовят, чтобы кто-нибудь другой приносил жертвы…