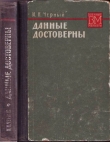Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
9
– На Берлин! – повторяла Гейсс в течение всей субботы. – На Берлин, наши пошли на Берлин! Армия «Познань», генерал Кутшеба, я его знаю, он замечательно танцует английский вальс! – Она несла добрую весть всюду, где встречала людей своего круга.
Представители этого круга еще не нашли для себя форм гражданского существования применительно к новой исторической ситуации. Теперь из-за воздушных тревог число постоянных посетителей кафе сильно сократилось. Все чаще случалось, что люди, не связанные службой, внезапно ощущали привязанность к квартире, к дому, к ближайшему углу своего квартала, и если им приходилось куда-либо отлучаться, то они торопились вернуться к себе. Поэтому кафе стали похожи на железнодорожные вокзалы в уже далекую предвоенную эпоху (три дня тому назад) – четверть часа дикой давки, а потом сразу становится пусто и тревожно.
Нелегко было поддерживать отношения с этой изменчивой, нервной публикой, в неопределенные промежутки времени то появлявшейся, то исчезавшей. Гейсс весь день металась между Саксонской площадью, Краковским Предместьем и площадью Унии, не успевала менять туалет после обеда, так и не снимала свой любимый темно-серый костюм, который уродливо подчеркивал ее бурно вздымавшуюся грудь; у Гейсс не хватало времени, чтобы хорошенько подгримировать щеки и ресницы: капельки туши, растаявшей от сентябрьской жары и быстрого морганья веками, падали на мешки под глазами, украшали бороздки возле носа, пудра слипалась в комочки; Гейсс сразу постарела лет на десять.
Она этого не замечала. Ведь, помимо забот, испуга, страха, она испытывала и удовлетворение самого возвышенного свойства, вплоть до колотья в сердце. Публика была трудной, но и благодарной, как никогда раньше. Достаточно намекнуть, процедить полслова, иногда только открыть рот – и ближайшие слушатели уже подхватывают добычу, несут, передают другим и в своем более узком кругу делятся каждым словом Гейсс, как святой облаткой.
Люди жаждали утешения, как дети сластей. К счастью, в первый и особенно во второй день раздобыть эти сласти было нетрудно. Подумайте только: десятки танков уничтожены под Ченстоховой! В течение одного дня! Сколько танков у Гитлера? Ну, тысяча. Значит, если дальше так пойдет, то через две недели у него не останется ни одного танка. Это во-первых. А во-вторых, факт, что наши вторглись в Восточную Пруссию. В-третьих, теперь на Берлин!
Гейсс не поленилась и внимательно разглядела карту, даже отмерила линейкой: от Мендзыхуда сто шестьдесят километров, ни больше, ни меньше!
В воскресенье – то самое жаркое, пыльное воскресенье, когда мосты были забиты обозами и каждые полчаса раздавались сигналы воздушной тревоги, – копилка Гейсс с самого утра пополнилась свежими новостями. Пришли они в самую пору; Гейсс, как добрая тетя, весь предыдущий день запихивала в рот встречавшимся ей «детишкам» карамельки, начиненные «Берлином», и спустя какое-то время оделила, кажется, всех. Нервно переминаясь с ноги на ногу, она смотрела теперь, как сыплются в ее сумку новые «ракушки» или «ландринки»: на этот раз речь шла об английском и сразу после него – о французском ультиматуме.
Вот это было удовольствие! Репродукторы раструбили на улицах весть о радостном событии, и, таким образом, чтобы выдержать конкуренцию польского радио, Гейсс пришлось пока что научиться петь – как она сама себе говорила – колоратурой. Это было не особенно трудно: она называла несколько цифр, касающихся английского военного флота, и делилась воспоминаниями, заимствованными из какого-то шпионского фильма о линии Мажино. Последнее в особенности действовало безотказно. Люди замирали от удивления, слушая ее болтовню о мощных подземных укреплениях на Рейне и в Лотарингии, а наиболее изобретательные комментировали ее слова так: «Гитлер не переползет через эти укрепления и за два года»; при этом они причмокивали и радостно хлопали друг друга по плечу, словно линия Мажино обладала волшебной способностью задержать немецкие танки за тысячу километров к востоку, где-то под Радомско или Цеханувом.
Во второй половине дня, подхваченная течением, которое родилось где-то на Новом Святе, Гейсс двинулась через площадь Трех Крестов по направлению к парку Фраскатти. Здесь говорили уже не только о том, что союзники объявили Германии войну, но и о последствиях этого акта.
– Англичане высадились в Гдыне, – уверял какой-то толстячок.
Гейсс его лицо показалось знакомым – румянощекий, в пенсне, с усиками. «Ведь это Кулибаба, людовец!» – вспомнила она и мгновение колебалась: пять лет назад она тиснула о нем статейку, разоблачая какие-то махинации в банчишке на Свентокшиской. Кулибаба не унимался, он даже называл броненосцы: «Рипалс», «Принц Уэльский», «Редаун», которые встали на якорь в Оксивье [53]53
Оксивье – район в Гдыне.
[Закрыть].
Гейсс обрадовалась: «Я тогда не подписала статьи, чувствовала, что…» – и протянула руку:
– Пан адвокат, какая встреча!
До французского посольства они дошли вместе. Толпа позади становилась все более плотной и нажимала на них. Впереди позолоченная решетка двора и ворота, которые как раз в этот момент закрывали три лакея в темных ливреях.
– Вивляфранс! Вивляфранс! [54]54
Да здравствует Франция!
[Закрыть] – кричали сзади; люди в передних рядах ломились в ворота, на них напирали восторженные поклонники Франции, а французские лакеи их отталкивали. Гейсс и Кулибаба внезапно очутились впереди, их притиснули к решетке.
– Ой! – крикнула Гейсс, едва успев вытащить туфлю из-под нижней перекладины ворот. – Осторожнее, господа! – напрасно молила она.
– Вивляфранс! – громко скандировала толпа.
– Poussez, poussez donc! – тоже кричал, но тише старший лакей на двух младших лакеев, подталкивая их: – Merde alors! Foutez les dehors! Foutez les donc. Ils sont bien emmerdants, ces braves Polonais! Braves Polonais! [55]55
Толкайте, толкайте же! Черт! Гоните их прочь! Гоните же их! Они очень надоедливы, эти славные поляки! Славные поляки! (франц.)
[Закрыть]
Только немногие избранные, затесавшиеся в толпе, поняли смысл этих слов, поэтому последовала новая волна «вивляфрансов». У Гейсс, которую притиснули к решетке так, что она не могла податься ни вперед, ни назад, явилась спасительная идея:
– Марсельезу! Споем Марсельезу!
Запели одновременно несколько голосов; замечательная мелодия и любовь к патетическим сценам подействовали на толпу, она застыла, словно ее привинтили к мостовой. Старший лакей ловко этим воспользовался – захлопнул ворота, щелкнул ключом.
– Уфф! – Он вытер пот со лба и вполголоса прокомментировал: – On ne sait jamais avec les Polonais! Lа bas, les tapisseries, des merveilles!.. [56]56
Никогда не знаешь, чего ждать от поляков! Здесь ковры, роскошь! (франц.)
[Закрыть] – и добавил еще несколько бранных слов.
– Taisez-vous [57]57
Замолчите! (франц.)
[Закрыть] – не выдержала Гейсс и с безупречным волынским акцентом объяснила через решетку лакею, что многие в толпе могут его понять.
Лакей сделал гримасу, махнул рукой, потом задумался и встал навытяжку.
Пение кончилось, и тогда на втором этаже отворилось окно; человек с круглым, благообразным, добродушным – если бы не хитроватые глазки – лицом показался толпе, милостиво помахивая правой рукой. «Посол! Посол!» – мелькнула у всех мысль. Энтузиасты еще дружнее закричали «вивляфранс».
– Тише! – запищали и зашикали на них. – Он будет говорить!
– Мсье Ноэль! – похвастала Гейсс перед Кулибабой. – Я его знаю! Тише!
Тишина. Ноэль по инерции еще с полминуты щедро наделял толпу улыбками и махал ручкой, пока наконец не понял, к чему его обязывает воцарившаяся тишина. Он начал беспокойно вертеться, хитровато-добродушное выражение его глаз потускнело, вместо улыбки на лице появилась тень физического страдания, словно у него внезапно разболелся живот.
– Посол, скажите что-нибудь! – повелительно прозвучал из дальних рядов чей-то одинокий голос, тотчас заглушенный услужливым шиканьем.
Ноэль стиснул зубы, но потом все-таки произнес речь, состоявшую из восьми или самое большое двенадцати слов. Из них три поняли все: «Та страфствует Польша!»
– Вивляфранс, вивляфранс! – закричали в толпе. Посол улыбнулся и исчез. Публика продолжала кричать.
Кричали бы, вероятно, еще долго, но вернулся лакей и сказал своим помощникам:
– Allez, on va cacher les tapisseries, laissez ces pauvres diables! [58]58
Ладно! Пошли прятать ковры, оставьте этих жалких бедняков! (франц.). (См.: Leon Noël, L'agression allemande contre la Pologne, Paris, Flammarion, 1946, p. 488–489. – Прим. автора.)
[Закрыть]
– Господа! – сейчас же подхватила Гейсс. – Довольно, у них тут тоже важная государственная работа. По домам!
– По домам! – затрубил Кулибаба. Толпа пришла в движение, еще немножко покричала «вивляфранс», но второй хор начал скандировать «по домам» и быстро взял верх. Люди медленно поплелись через парк Фраскатти на Вейскую. Всего полчаса постояли возле посольства, а этого оказалось достаточно для новой порции утешительных «сластей». Теперь говорили, будто французы прислали авиацию – от двухсот до тысячи бомбардировщиков. А по пути – трах-тарарах по Берлину; потом они возьмут бомбы в Люблине и в Бялой и полетят назад через Берлин.
Гейсс слушала эти сказки со смешанным чувством – облегчения, оттого что у нее есть верный помощник, фантазия народа оправдывает ее надежды, и гадливости, вызванной пресыщением, как бывает у ребенка, который объелся шоколадными помадками и его тошнит при виде украшенной цветочками бонбоньерки от Веделя. Кулибабе очень хотелось услышать ее авторитетное мнение.
– Как насчет самолетов, вы не шутите?.. Что скажет самое просвещенное лицо?.. Польская Женевьева Табуи!
Ему ответили сирены.
10
На этот раз первая волна налетела еще до того, как умолкли сирены. Четыре черные тучки загрязнили ситцевую голубизну неба, и тотчас рядом с ними появились четыре другие, словно по небу мчалось, оставляя следы, большое животное с грязными копытами; застрекотала зенитная батарея в Гоцлавеке. На улицах люди бросались врассыпную, прижимались к стенам домов, прятались в воротах, воем сирен и моторов их сдувало как ветром; на мостах солдаты стегали кнутами рыжеватых лошадок.
Грохнуло у мостов со стороны Праги, лошадки пустились галопом. Длинноствольные орудия раскачивались в такт гигантским ямбам – удар и взрыв, удар и взрыв. Застрочили пулеметы, их трескотня, перебиваемая раскатами грома, казалась по-домашнему безопасной, как стук швейной машины.
Вой в небе нарастал, приближался, его не удалось ни заглушить, ни отогнать земным шумом. Задрав голову, можно было различить в голубых облаках, уже насыщенных этим воем, черные, очень мелкие ядрышки. Они медленно надвигались на город, и город перед ними замирал, распластывался, втягивал голову в плечи.
Геня Кравчик сперва побежала домой – она еще не успела привыкнуть к ужасному вою сирен, инстинктивно искала, где бы от него укрыться, и ей казалось, что лучше всего быть поближе к Игнацию. Правда, в комнате ей нельзя было распускаться, и, чтобы как-то оправдать свою бледность, дрожь, блуждающий взгляд, Геня по старой привычке стала бранить хозяина, издеваться над его скупостью, рассказывать о нем анекдоты.
Потом супруги повздорили. Еще несколько дней назад Игнаций решительно, раз и навсегда попросил не переносить его в убежище; Геня даже не возражала, она не очень-то верила в надежность перекрытий их подвала. Сегодня, однако, Игнаций к ней пристал, чтобы она спустилась в убежище. Действительно, сирены гудели дольше, чем обычно, похоже было, что предстоит серьезный налет.
Сирены выли отчаянно, пронзительно, а Кравчики уже минут десять спорили. Геня заупрямилась и не пошла в подвал. Назло Игнацию она заявила: если от нее этого требуют, то она пойдет, но только не в подвал, а на чердак. Игнаций возражал не особенно настойчиво, однако достаточно для того, чтобы Геня поставила на своем.
Она дрожала от страха, поднимаясь по темной грязной лестнице. С четвертого этажа ей навстречу спускалась бабушка Бульковская с тремя внучатами; старушка уговаривала Геню вернуться: наверх уже пошла наша Лоня, это хорошо для молодых, а мы с вами…
– А я что же, старая? – крикнула Геня, и эта новая вспышка уязвленного самолюбия после стычки с мужем словно подтолкнула ее; она быстро поднялась по прогнившей лестнице, которая вела на чердак.
Там было душно, пахло высохшей глиной. Наклоняя голову, чтобы не стукнуться о раскаленную, как сковорода, железную крышу, обходя торчащие балки и доски, стропила и трубы, Геня шла на звук голосов в противоположный конец чердака, где виднелись человеческие фигуры. «Лишь бы вместе с людьми, – убеждала она себя, – с людьми и страх не так страшен».
Впрочем, их было только двое. Драпалова, женщина нестарая, но измученная пьяницей мужем, казалась еще более хрупкой, чем Геня. С ней был Енчмык, товарищ Игнация; он тоже работал у Бабинского и Гелерта, а сегодня случайно оказался свободен. Енчмык просунул голову в слуховое окошко, смотрел на небо и сообщал Драпаловой, что там происходит.
Последние несколько шагов Геня почти бежала, чтобы скорее присоединиться к ним. И как раз в этот момент раздался грохот. «Бомбы!» – подумала она, по-мертвев, и испуганно вскрикнула; Драпалова услышала и обернулась.
– Ах, это вы, вот хорошо! А мы тут одни, без вас мне как-то не по себе.
– Бомбы!.. – начала Геня.
– Нет, зенитные пушки, – боязливо, но вместе с тем уверенно возразила Драпалова. – Бомб еще не бросали.
Геня с удивлением и завистью посмотрела на нее. А Драпалова тут же схватила Геню за руку: летят! Енчмык втянул голову в плечи, поджал узкие губы и вслушался в звуки, доносившиеся с грохочущего городского неба. Геня отступила на шаг от окошка. Страх стучал у нее в груди, она проклинала себя за то, что, как всегда, не послушала мужа и не пошла в подвал.
Дом задрожал от четырех громовых раскатов, и одновременно оглушительно загремела железная крыша.
– Попали! – пискнула Драпалова.
– Вацек! – раздались на крыше восхищенные голоса. Енчмык с таким видом, словно он собирался прыгнуть в холодную воду, высунул голову в слуховое окошко; он что-то кричал, и ему в ответ тоже кричали. Енчмык быстро обернулся.
– Снова бьет артиллерия возле вокзала, поэтому такой шум.
– Вацек, вернись! – закричала Драпалова. – Вернись, а то отцу скажу!
Теперь сквозь гул пушек, сквозь грохот железных листов, по которым стучали чьи-то башмаки, стало слышно отвратительное завывание; в нем можно было различить два тона – высокий и чуть пониже, словно кто-то тянул: «Ээу-ээу-ээу», – однообразно, как при зубной боли. И вскоре всем троим уже мерещилось, что и у них заныли зубы, а может, даже не зубы, а голова, все тело. Маленькая худая Драпалова прижалась к Гене, стиснула ее руку, Геня, беззвучно шевеля губами, молилась своей покровительнице святой Геновефе, а потом подумала, не лучше ли помолиться святому Флориану; он, как известно, охраняет от огня. Енчмык позеленел. Все прислушивались.
Долгими были эти две минуты, пожалуй, самыми долгими в жизни Гени. Она успела бог знает что наобещать святым. Поклялась, что будет слушаться мужа, что не поддастся внезапным вспышкам гнева и прежде всего станет бороться с главным своим грехом – гордыней. В течение нескольких секунд вой все усиливался, и тогда при каждом ударе сердца казалось, что вот-вот упадет бомба. Потом, когда ожидание несколько затянулось, появилась бледная тень надежды: может, на этот раз пронесет? Еще минута. Вой стихает, стихает! Геня отчетливо это слышит, но боится сказать вслух – еще сглазит! Костлявые пальцы Драпаловой, впившиеся в ее руку, разжимаются. Енчмык подходит к окну – ушли.
Ах, какое облегчение! В окне появляются три улыбающихся лица. Драпалова накидывается на своего Вацека:
– Слезай сейчас же!
Парень сразу становится серьезным:
– Всегда вы что-нибудь придумаете, мама!
Веснушчатый Антек Нарембский, брат Стасика, самый большой озорник на всей Охоте, строит над головой Лони Бульковской рога из пальцев и уверяет, будто это модная прическа. Клочок неба над головами ребят тоже повеселел. «Сбегаю к Игнацию, – думает Геня, – не так страшен черт…»
– Ну, конец, – говорит она Енчмыку. – Мы свое сделали…
– Подождите, Геня, – бледно улыбается Енчмык. – Отбоя еще не было.
– Как это? Они ведь улетели…
– Тихо! – кричит Вацек, отскакивая от окна.
Не для того ли была дана передышка, чтобы страх вернулся с еще большей силой? Теперь они сразу услышали знакомый вой. Начинает бить артиллерия. Во флигеле звенят стекла, раза два стукнули по железу запоздалые осколки. Вой растет.
– Четыре, четыре сразу! – вопит Вацек.
– Ой, пятый, там сзади, высоко! – пищит Лоня.
Вой. Не такой, как раньше: теперь словно со свистом лопается струна, и тут же удар; дом дрожит, будто его трясет лихорадка.
– На Груецкой, за шлагбаумом! – кричит Антек. Лопается сразу несколько струн, удары следуют один за другим; то ли стало жарче на чердаке, то ли просто так кажется в этом вое и грохоте.
Драпалова закрыла глаза и прислонилась к дымоходу.
– Летят, летят! – Глупая жеребячья радость охватывает ребят на крыше. – Видишь, сбоку крест, это свастика…
– «Мессершмит», – говорит кто-то из них.
– Да где же! Те истребители, а это бомбардировщики.
– Тише, вы! – кричит Геня, ей кажется, что их громкие голоса могут привлечь внимание летящих чудовищ.
– Вацек, тише! – подхватывает Драпалова.
Енчмык нервно потирает руки, и даже этот жест раздражает Геню, ей хотелось бы прижаться к стене, исчезнуть.
– Ушли! – кричат с крыши. – На Окенте, нет, на Раковец!..
На этот раз никто не испытывает облегчения, ведь уже известно, какое оно непрочное. Несмотря на недавние клятвы, Геня снова сердится:
– Что такое, почему здесь так мало народу?
Драпалова объясняет:
– Муж на работе.
– А Малиновский? Столько тогда наболтал…
– Он еще до войны уехал куда-то в Познанское воеводство.
– А Рачкевич?
Драпалова не успела ответить: опять! Теперь даже удалая тройка на крыше притихла. Молчание ребят особенно пугало женщин. Прижавшись к дымоходу, они слушали, как воет небо. Геня больше не молилась: все, что она могла принести в жертву святым, она пообещала во время первого приступа страха.
– Много, – процедил Енчмык.
– Вацек! – тонким голосом позвала Драпалова.
О чудо! Загрохотало железо, и в окне появилось курносое лицо юного Драпалы.
– Поди сюда сейчас же!
– Вы всегда, мама!.. – начал он без всякой уверенности. – Много их, черт подери, штук двенадцать…
Беззащитные люди ждали своей судьбы. На этот раз недолго. Сперва донеслись отрывистые стоны летящих бомб – и тут же грохот. Целый океан стонов, целый каскад ударов.
– Бьют по вокзалу! – крикнул Вацек.
Он выпрямился, женщинам были видны только его ноги, но от окошка он теперь не отходил, словно близость матери хоть как-то его защищала.
Грохот усиливался. Двенадцать! Геня уже не надеется на спасение. Надо бежать к Игнацию. Но как объяснить Драпаловой, что ею движет не обычная бабья трусость, что она ищет смерти вместе со своим стариком, стало быть, только более легкой смерти, более легкой. К Игнацию, к Игнацию, скорее, пока бомба… Он там один-одинешенек, пошевелиться не может… Но и она не может двинуться с места, не может сбросить руки Драпаловой со своего плеча.
Страх, приумноженный раздиравшими ее чувствами. Когда видишь свою близкую гибель, вспоминаются отрывочные картины далекой молодости: Беляны в духов день, вишневое дерево в цвету, их первый с Игнацием собственный угол, чудесное исцеление Казика от скарлатины. Убогие радости всплывают в ее памяти. И жалкий итог: прожить такую долгую жизнь для того, чтобы теперь…
Визг – ах! Вопль Драпаловой. И грохот такой чудовищный, что его, пожалуй, даже не слышишь, а только чувствуешь всей кожей. Дымоход за их спиной качается влево и вправо, как трамвай на повороте. На противоположной стороне двора со звенящим стоном посыпались стекла. Крик ребят на крыше:
– За углом, за углом!
Темно – в окне появляются длинные ноги Лони, задравшееся платье.
– Скорее! Не копайся! – мальчики сталкивают ее вниз.
– Вацек! – Драпалова схватила Лоньку за пояс, ткнет и кричит:
– Вацек, что с тобой?
Мальчики прыгают один за другим.
– Вацек! – бросается к сыну Драпалова.
– Оставьте, мама! – Вацек отталкивает ее руки. – Скорее, обвалился дом на углу…
Их порывистость передается всем. Геня, спотыкаясь на неровном накате, с чувством облегчения покидает проклятый чердак, топает по лестнице, вбегает в свою квартиру. Игнаций лежит, подушка у него сбилась на сторону, он улыбается ей:
– Ты жива?
– Близко, на углу!.. – кричит она, поправляя подушку. – Я сейчас…
На улице движение, из ворот выбегают женщины, подростки. Дом за углом похож, как близнец, на тот, в котором они живут. Отсюда он кажется таким, как был, только стекол в окнах нет. Так вот какова смерть с неба!
Другое крыло дома… Как детская игрушка, которую разрубили пополам топором. На пятом этаже – железная кровать, одна ножка повисла в воздухе. На втором этаже – филодендрон, у него колышутся листья.
И куча кирпича, пыль, известка, кругом чад, словно после фейерверка. Крики.
Геня с минуту постояла, пораженная неожиданностью этого зрелища. Воет небо, где-то поблизости снова грохочут взрывы. Геня не сознает опасности, она полна скорби и страха при виде того, что от стольких семейств, от стольких существований осталась только куча красных кирпичей. Она старается вспомнить, кто здесь жил. Фамилий она не помнит, только лица и фигуры запечатлелись в ее памяти. Здесь жила портниха с дочуркой. Мать всегда чего-то боялась, девочка была послушная, тихая… такие светлые косички…
Кирпичи раскрошились. Несколько человек взобрались на эту кучу. Воет небо. Геня мысленно видит девочку с косичками, срывается с места, бежит, догоняет остальных. Вацек хватает кирпичи по одному, по два и отбрасывает в сторону.
– Их засыпало, засыпало в убежище! – кричит какая-то женщина.
– Я ей говорила: не ходите, коли умирать, так на свежем воздухе! А она молчит, побежала и ребенка с собой… Ну и… ну и…
– Черт! – сердится Енчмык. – Руками тут немного поможешь. Ломы…
– Ломы! – бессмысленно кричит Геня, словно сзади кто-то стоит и только ждет ее приказания, чтобы немедленно его выполнить.
– Ломы! Ломы! – подхватывают и другие. До сознания Гени наконец доходит смысл этого требования, и она соскакивает с кирпичей:
– Ломы у Паенцкого! Вацек!
Вацек не пошел, как и Енчмык, он продолжает отбрасывать кирпичи по одному. Кто-то приносит лопату – она ничтожно мала для этой горы окаменевшего цемента и кирпича, лопата хрипит и стонет, ее упрямо втыкают, а она забирает только щепотки, горстки кирпичной крошки. Геня бежит назад, хватает за руку какую-то женщину.
– За ломами к Лавицкому!
Дом Паенцкого стоит неподалеку. Современное пятиэтажное здание, одностворчатые окна – теперь стекла в них потрескались от воздушной волны. Даже странно, что Паенцкий построил такой красивый дом рядом с трущобами.
Лоня догнала Геню.
– У Паенцкого и ломы и кирки хранятся в подвале, – объясняет Лоня, словно Гене это неизвестно. Они быстро спускаются по лестнице (подвал глубокий), бьют кулаками в окованные железом двери. Тихо. Геня со злостью дергает замок – открыто.
Темно, электрическая лампочка обернута в голубую бумагу. Пан Паенцкий высовывает голову: что случилось? Он узнает Геню и хочет снова спрятаться, не гонит ее, только просит соблюдать тишину: без паники, здесь маленькие дети. В коридоре много дверей, как в гостинице, направо, налево, некоторые из них приоткрыты; жильцы испуганно поглядывают на незнакомых женщин, какая-то дама с модной прической кричит:
– Но это не у нас, не у нас?
– Нет, не у вас! – сердито отвечает ей Геня, и тотчас открываются все двери; из частных, односемейных подвальчиков высовываются женские головы, завитые или в модно, по-деревенски повязанных платочках. Глаза с искусственно удлиненными ресницами, подчерненные тушью и страхом, брови, подведенные углем, губы, подкрашенные в форме сердечка, уши с болтающимися сережками, шеи, вытянутые, как у гусынь. Испуганные рожицы детей, почувствовавших материнское волнение, крики, причитания, плач; мужчины, стыдливо спрятавшиеся сзади, пытаются успокоить детей, но своим шиканьем и брюзжанием только увеличивают общее смятение.
– Ну, не просил ли я! – ломает руки Паенцкий. – Вы, пани Кравчик, двух слов спокойно не скажете! А у меня теперь на добрый час суматохи.
– Ломы! – поворачивается к нему Геня. – Давайте ломы и кирки!
– Как-как? – Паенцкий бледнеет и отступает перед натиском Гени. – Что, в мой дом?..
– Быстрее! – снова кипятится Геня. – Нет времени, там люди под развалинами…
– Где? – Паенцкий хватает ее за руку. – Говорите, который, шестнадцатый?
– Какой там шестнадцатый!
– Ах! – с облегчением вздыхает Паенцкий. – Если не шестнадцатый… эти трущобы…
– Ну, давайте!..
Паенцкий послушно направляется в конец коридора, Геня и Лоня идут за ним. Он достает из маленького чулана ломы, лопаты и даже две кирки. Они чистые, не тронуты ржавчиной. Паенцкий нежно их гладит, вручает женщинам, пересчитывает: под ответственность Гени Кравчик.
– Ладно, ладно! – злится Геня. – Скорее…
– Так который же, в конце концов?..
– За углом! – бросает она, с трудом волоча ломы.
– Ну, это не мой! – пискливо восклицает Паенцкий. Не известно, то ли он рад, что разрушен не его дом, то ли ему досадно, что пришлось дать свои инструменты. Геня и Лоня спешат к выходу. Ломы и лопаты оттягивают руки, они громоздкие, тяжелые, их слишком много. Какой-то тип в галстуке-бабочке вылез из своего подвальчика.
– Осторожнее! – обиженно кричит он и быстро подтягивает живот, боится, как бы киркой ему не запачкали или даже не порвали сорочку.
– Ой-ой, какой нежный! – не дает ему спуску Геня. – А вы что тут делаете? Под юбками прячетесь?
– Но-но! Ты мне тут…
– Что «мне тут»? Чего ты меня пугаешь? Погоди, я сейчас сюда женщин приведу, вытащим вас, бездельников, на работу!
Тип орет, что он этого не допустит, он, мол, начальник отдела и не позволит всякой прачке давать ему указания. Геня задала бы ему как следует, но ее словно кнутом подстегивало: перед глазами неотступно стоит груда кирпича там, наверху. Протискиваясь в узкие двери, она бросала через плечо оскорбительные слова:
– Трусы, дармоеды, ни один не отважился…
Они с большим трудом поднялись по лестнице. Уже у самого выхода Геня почувствовала, что ее ноша стала легче. Она обернулась: какой-то пожилой господин в очках, с бородкой ухватил обеими руками волочащийся лом.
– Разрешите, – вежливо сказал он. – Не могу видеть, как женщины маются…
– Да идите вы! – огрызнулась Геня и вышла на улицу, таща свой груз. Один из ломов с громким стуком упал на землю. Пожилой человек с бородкой тотчас его поднял.
– Я, я сам! Не беспокойтесь!
Они втроем поспешили к развалинам. Людей стало больше. Кто-то их опередил, ломы уже крушили кирпич, в одном месте образовалась выемка, там докопались до лестницы в подвал.
Двое мужчин, Вацек и какая-то молодая женщина бросились к ним, вырывая принесенные инструменты. Человек с бородкой ни за что не хотел отдать свой лом.
– Я тоже, я тоже!
Вацек сунул ему свою лопату, а, лом отнял. Все кинулись на штурм развалин.
Надвигались сумерки. У Гени мелькнула мысль: «Небо хмурится, будет дождь…» Минуту спустя она сообразила, что где-то в стороне Желязной, за полотном, нависла большая серая туча дыма – пожар. Розовые отблески ложатся на мокрые от пота лица. Небо воет… знакомый вой, И только оттого, что бьешь изо всех сил по груде щебня ломом или лопатой, страх, преследовавший тебя час тому назад, не возвращается, как будто работать на улице безопаснее, чем прятаться в подвалах.
Потом пришлось разделить обязанности. Самолеты летели более плотным строем. Прибежал какой-то мальчик и крикнул им, что бросают зажигательные бомбы.
На чердаках никто не дежурил; поэтому было решено, что мужчины останутся работать на развалинах, а женщины поднимутся на крыши. Геня и Драпалова пошли в свой дом. По пути Геня заглянула к Игнацию; он лежал, не сводя глаз с окна. За крышей все сильнее розовело варшавское небо.
– Далеко это? – спросил он, и Геню взяло сомнение, правильно ли она поступает, бросая его одного. Лежит он и боится, что вспыхнет пожар, а от пожара ему не уйти, забудут о нем в суматохе. Значит, чтобы защитить его, не надо сидеть рядом с ним, гораздо важнее быть на крыше, оберегая их трущобу от огненных брусков, которые валятся с неба.
На чердаке темно, хоть глаз выколи. Женщины добрались наконец до окошечка, выглянули. Драпалова зажмурила глаза, увидев далекие пожары. А Гене крыша вдруг показалась менее страшной, чем чердак. Не без труда она убедила Драпалову, что торчать на чердаке нелепо, если никто не следит за крышей. Они вылезли на загремевшие под их тяжестью листы железа, боясь поскользнуться, встали возле трубы, уцепились за ее задымленные кирпичи.
Зато они все видели: ближние пожары, море пламени и столбы черного дыма, далекие красноватые стаи кучевых облаков. Зенитки умолкли. Небо воет, но уже нет смысла опускать перед ним голову. Геня беспомощно смотрела, как бомбардировщики опускаются все ниже, как из черных точечек они превращаются в черточки, как у черточек вырастают крылья и хвосты. Снова страх – что же иное можно чувствовать, стоя здесь, держась одной рукой за трубу, а другой за мачту антенны и ожидая, тебе ли принесет смерть этот черный крест или сбросит ее двумя кварталами дальше. Страх снова находил волнами: крест приближается, крест над тобой… Геня не сразу поняла: смерть эта настолько быстрая, что она угрожает тебе, когда летит в твою сторону, а когда она прямо над головой, то значит, что угроза уже миновала.
А потом и этот страх прошел, подобно огню, который угасает, пожрав все, что было возможно. На соседней крыше появились две девушки и несколько подростков. Они держались за веревки для белья, за перегородку голубятни, еще за что-то и смеялись.
– А вы там что?! – с удивлением крикнула им Геня. – У тети на именинах?!
– Ребята, перестаньте! – крикнул один из подростков. – Тетки боятся.
Геня погрозила им кулаком. Она рассердилась на них; как они могут смеяться, когда кругом столько слез и горя? Но тут налетела новая волна, опять завыло небо, опоганенное черными крестами, и кулак Гени невольно взметнулся вверх, словно она проклинала это небо за свою беззащитность.
Как из пригоршни, посыпались небольшие шипящие бруски; железная крыша загудела, как натянутый барабан. На крышах и во дворах засверкали целые хороводы крошечных красноватых лун, и сразу же из них стали рождаться маленькие, мягкие, добела раскаленные солнца. Геня с Драпаловой набросились на сверкающее пятнышко, которое было поближе к ним. В душе вспыхнула ярость, и вместе с тем Геня обрадовалась. Она била лопатой, сыпала песок на огненные глаза словно оглушенной змеи, топтала головку потушенной зажигалки своими сбитыми каблуками. Она дрожала от ярости и радости: наконец-то можно по-настоящему драться, хотя бы с этими осколками гитлеровской мощи.
Налет длился долго. Долго копались люди в руинах разрушенного дома. Женщины уже спустились с крыши – прерывистый вой сирен подействовал на них успокоительно, как сигнал об окончании затянувшегося рабочего дня на фабрике, – и тогда пришел Вацек: ничего не вышло, в подвале обвалился потолок, всех задавило.