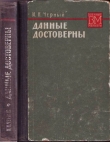Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 35 страниц)
15
Путники бодро шли; близился вечер, и дымок, подымавшийся из труб, внушал надежду: значит, в городишке кто-то готовит пищу, там можно будет расположиться, снять сапоги, вытянуть ноги, поспать. Кригер все еще что-то бормотал, он не мог успокоиться, не сказав последнего слова в очередной дискуссии, но даже терпеливый Сосновский больше его не слушал. Вдруг Вальчак остановился.
– Что? – вопросительно посмотрел на него Кальве.
Вальчак словно принюхивался, вертел головой направо и налево. Нет, тихо, почти абсолютная тишина. В городишке залаяла собака и тут же умолкла.
– Пойдемте. – Кальве потянул Вальчака за рукав.
Внезапно совсем близко от них раздался рев. И тотчас они увидели сероватый корпус самолета. Кригер инстинктивно втянул голову в узкие плечи. Рев пронесся над ними, снова стал виден корпус удлиненной формы, над городом самолет слегка рванулся вверх. Два громовых удара сотрясли землю, перед костелом вдруг вырос серый куст дыма, медленно поднялся на высоту колокольни и еще медленнее стал распадаться.
– Скорее! – неизвестно почему крикнул Сосновский. – Через тот мостик! – Все четверо побежали по шоссе вперед, к городку. Галопом преодолели маленький мостик. Сосновский замедлил шаг.
– Уф! – засопел он. – Сошло. Наверно, они в него целились.
Друзья прошли несколько сот метров.
Стояла предзакатная тишина. Лучи солнца косо падали на познаньское шоссе. В небе ни облачка. Возле первых домиков городка они снова услышали рокот самолетов, в этот раз на высокой ноте. Из подворотни выглянула собака, задрала морду, залаяла – не на них, – потом завыла.
Сначала завывание собаки сливалось с мелодией, звучащей в небе. Но по мере приближения мелодия разделилась на два голоса, ритмично чередующихся. Через минуту это «ээу-ээу» уже как бы нашло созвучную струну где-то внутри человека, и соответственно возрастало настроение тревоги.
– Это на мостик! – снова крикнул Сосновский. – Скорее, за город!
Он рванулся вперед, Кригер за ним. Перебежали пустую улочку, прямоугольную рыночную площадь с убогими каменными домишками вокруг костела. Остановились и секунд пять в нерешительности глазели по сторонам. Перед костелом чернели воронки от бомб, и домишки мрачно смотрели на них окнами без стекол.
Вой возрастал в геометрической прогрессии и вдруг прекратился. Взвизгнула первая бомба. Все четверо упали на мостовую одновременно со взрывом, и земля приветствовала их короткой отдачей, толчком. Вой и грохот, вой, вой и грохот, грохот. Снова завывание и четыре удара, один за другим. Какая-то сила приподняла Вальчака с мостовой и швырнула в канаву. Опять вой, оглушительный грохот. Угловой домик рухнул на площадь, что-то гремящее, как жесть, пронеслось над их головами, верхняя часть водосточного желоба упала на площадь и, бренча, подскочила. Теперь стало тихо, и снова вернулся только что пережитый кошмар – вой, повисший в сияющем небе, не приближающийся и не отдаляющийся, неизменный.
Кальве встал, рассеянно стряхнул с себя пыль и сухие листья, протер очки. Вальчак вылез, из канавы. Сосновский поднял Кригера.
– Мостик! – снова сказал Сосновский. – Хорошо, что мы успели оттуда убежать.
Вальчак оглядел рынок. Перед костелом лежал желтеющий тополь, разрубленный пополам. На площади теперь чернело пять воронок. Каменный домик, рассеченный сверху донизу, обнажил свои внутренности. В кухне еще топилась печь и шел пар из кастрюли. Соседний каменный домик, угловой, рассыпался, будто он был построен из кубиков и капризный ребенок пихнул его ногой. Зрелище было странное, неестественное.
– А где же люди?
Вальчак наконец понял. Впереди что-то слабо хлопнуло.
– Бежим! Возвращаются! – крикнул Кригер.
– Где?
Они увидели наверху зеленоватый свет. Ракета? Бросились через рынок. Вой настиг их на середине площади.
– В воронку! – Вальчак схватил Кальве за руку. Они упали на размолотую дочерна землю, мягкую, впитавшую подпочвенную воду. В первый момент им это показалось приятным: земля была доброй, она защищала их от враждебного, грозного неба, можно было прижаться к ней. Потом они начали задыхаться от запаха гнили из канализационных труб. Но это произошло позднее, после второй волны налета. Теперь они лежали дольше, чем в первый раз, не сразу поверили тишине, гудевшей у них в ушах после нескольких новых раскатов грома, все более глухих, долетающих откуда-то спереди, из-за каменных домиков и садов, мимо которых они должны были идти дальше, на Варшаву.
– Мостик! – упрямо повторил Сосновский, высовывая измазанное лицо из воронки.
– Тише! – прошипел Кригер, предусмотрительно стаскивая его за ногу вниз. – Ничего не известно, – добавил он с таинственным видом.
Небо наконец успокоилось, как гладь пруда, по которой прошли волны от брошенного камня. Возник и не прекращался другой шум, стоны и крики откуда-то из-за костела, из-за груды деревьев, поваленных одной или двумя бомбами. Вальчак встал, вылез на мостовую, прислушался.
Какая-то женщина монотонно кричала:
– Ой-ой, врача, ой-ой, врача…
Сердитые мужские голоса с раздражением повторяли одно слово:
– Ракета!
Наконец вылезли из воронки и остальные трое, с минуту отряхивались, потом кому-то из них показалось, что снова слышен вой, и все разом двинулись. Приступ страха быстро проходил, он продолжался несколько секунд, пока с самолетов сбрасывали бомбы, и одновременно с последним взрывом исчезал. Теперь, однако, они поняли, что страх остался, и все дружно решили как можно скорее удрать отсюда.
Голоса, доносившиеся из-за костела, приблизились. На площадь, озираясь, выбежали несколько человек.
– Наш стоит! – крикнул дискантом веснушчатый подросток с поцарапанным носом. – Смотри, отец, наш стоит, а Кулецкого черти взяли!
Два человека тащили за руки и за ноги женщину, которая звала врача; косы ее волочились по земле, она кусала губы, большие зеленоватые тени расползались из-под глаз на щеки. Увидев незнакомцев, все остановились.
– Идемте! – прошептал Вальчак сквозь зубы. Кригер не сводил глаз с раненой, пришлось его подтолкнуть. Пошли.
Между тем женщина снова застонала и потребовала врача. А разговор о ракете продолжался. Подросток пискнул: «Диверсанты!» – и замолчал. Некоторое время клокотали возбужденные и приглушенные голоса, и Вальчак с трудом заставил себя не оглянуться. Он чувствовал, что люди стоят, смотрят им вслед и обмениваются все более грозными замечаниями.
Друзья свернули на другую улочку, и Вальчак вздохнул с облегчением. Шоссе, которое ползло через городок, извиваясь между стиснувшими его с обеих сторон домами, снова выпрямилось и стало шире. Улица превращалась в обсаженную тополями аллею. Одно короткое мгновение Вальчак блаженствовал: в самом деле, в таких условиях свободное пространство дает ощущение большей безопасности. Но это блаженное состояние очень быстро прошло: он увидел истинную цель налета.
За тополем, срубленным бомбой, слабо ржали издыхающие лошади в упряжке. Группа солдат, вцепившись в ствол тополя, силилась оттащить его в ров, чтобы открыть путь остальному обозу.
– Лошадь, лошадь! – кричал солдат, очевидно наиболее рассудительный. – Лошадь впрягите!
Три человека в мундирах и касках, по-видимому офицеры, хотя никаких знаков различия у них не было, стояли в стороне и наблюдали за этой возней. Вальчак пошел медленнее, даже оглянулся. «Нет, – решил он в конце концов, – надо идти; если мы повернем, это покажется им еще более подозрительным».
Следом за ним подошли ближе и три его товарища. Они были поглощены тем, что тут случилось. А Вальчак беспокоился – и был прав: рядом с офицерами он разглядел штатского, того самого веснушчатого подростка с поцарапанным носом. Он уже, очевидно, успел поделиться с офицерами своей догадкой, потому что они встретили приближавшихся к ним четырех незнакомцев пристальными, бесцеремонными взглядами. Вальчак тоже на них смотрел, прикидываясь простачком, переводил взгляд на солдат и на ствол поваленного тополя, пытался даже что-то сказать тем, которые ствол тянули, и снова с опаской посматривал на группу, стоявшую с левой стороны дороги, на офицеров.
Их было трое, четвертый – подросток. Один красивый, молодой, с упрямым лицом и орлиным носом. Этот на них не смотрел, он покрикивал на солдат и, быть может, сам охотно бы им помог, если бы не всемогущее бремя офицерских звездочек. Второй, низкорослый, с красноватым мясистым длинным носом, ямочкой на подбородке и маленькими глазками, смотрел им прямо в лицо не то с ненавистью, не то с сомнением. Третий вышел на полшага вперед, по-наполеоновски сложил руки и весь напыжился: придал пронзительное выражение своим бесцветным глазам, хищно раздул ноздри, выпятил подбородок. «Этот уже принял решение, – подумал Вальчак, – да, ничего не поделаешь».
Как во сне, они сами лезли в пасть смерти, сознавали это и не могли отступить. Прошли мимо обоза, спрыгнули в ров возле поваленного дерева, затем вылезли и очутились рядом с офицерами. Вальчак попытался беспечно поглядеть им в глаза, офицер стоявший впереди, небрежно повернулся к подростку, тот с жаром подтвердил: «Да, именно эти, именно эти!»
Офицер со светлыми ресницами повернулся влево и прошипел:
– Подпоручик!
Офицер с большим носом откинул голову и прошипел:
– Сержант!
Четвертый, раньше не замеченный ими, невзрачный, стоявший возле дерева, не то крикнул, не то свистнул, пятый, шестой, седьмой, восьмой подскочили с винтовками на изготовку, и тогда сержант заорал:
– Руки вверх!
– Что значит руки… – начал Кригер, но Вальчак его толкнул в бок, и он закончил почти шепотом: —…вверх? – поднимая свои полусогнутые руки над головой.
Теперь из рва выскочили два солдата, быстро ощупали их карманы, хлопнули по спине и груди.
– Оружия нет! – щелкнув каблуками перед сержантом, сказал один из солдат.
Сержант подозрительно оглядел всех четверых, потрогал узелок, который уронил Вальчак, – хлеб, кивнул головой в глубокой задумчивости и в свою очередь щелкнул каблуками перед длинноносым.
– Привести их сюда! – потребовал офицер со светлыми ресницами.
Подгоняемые стволами винтовок и выразительными жестами сержанта, они сделали три шага от дороги к дереву. Офицер равнодушно посмотрел им в лицо, спросил, как их фамилии, зевнул и добавил:
– Где вас сбросили?
– Да вовсе нет… – начал Вальчак. Кригер перебил его, силясь с исчерпывающими подробностями изложить однажды использованную выдумку о том, как они гостили под Козеборами и как на них напали бандиты. Офицер поморщился, а сержант крикнул:
– Заткнись!
– Документы!
Вальчак с отчаянием поглядел на Кригера.
– Пан капитан…
– Что еще такое? – в бешенстве рявкнул офицер. – Из какого отделения?
– Из второго, – прикидываясь дурачком, вмешался Сосновский.
– Ах так? Сами признаетесь?
– Да нет же! – Вальчак сделал полшага вперед. – Из тюремного отделения.
– Значит, вас уже один раз поймали? Вы убежали? У, немецкое отродье!
– Да нет же, пан капитан, какие мы немцы…
Офицер посмотрел на своих товарищей, покачал головой.
– Ну и сукины сыны! Сами же признаются, что они поляки, а пошли на службу к Гитлеру!
– Да ничего подобного! – в ярости крикнул Вальчак, и снова сержант оборвал его:
– Заткнись!
– Подпоручик, – офицер со светлыми ресницами кивнул длинноносому, – возьмите их и кончайте.
Длинноносый спустился на дорогу, сержант подтолкнул Вальчака к остальным, солдаты окружили их. Пошли.
Вальчак все еще кипел от нанесенного ему оскорбления и чуть ли не с мстительной радостью шагал во главе своей четверки. Кригер, видимо, разделял его настроение, потому что шел и приговаривал:
– Что за порядки, без суда, скандал!
Сосновский был немного встревожен, но, как обычно, держался с достоинством. Вероятно, он еще полностью не разобрался в ситуации.
– Туда, в кусты, – сказал наконец подпоручик.
До кустов было метров сто. Вальчак остыл, вспомнил белорусскую поговорку: назло бабе пускай у меня уши мерзнут – и сделал еще одну попытку:
– Пан офицер, разрешите по крайней мере объяснить вам, кого и за что вы расстреливаете.
– Времени нет, – спокойно заметил подпоручик. – Кроме того, у меня приказ.
– Две минуты…
– Слишком много. Впрочем, говорите.
Вальчак вкратце рассказал всю историю. Подпоручик недоверчиво покачал головой, и Вальчак вынужден был признать, что у него есть к тому основание: очень все запутано.
– Из тюрьмы… – машинально повторил Вальчак.
– Есть у вас какие-нибудь документы?
– Откуда же, вы понимаете, начинается война, тюремная охрана разбегается, бросает нас. Откуда же документы…
Они дошли до кустов. Кусты были редкие, обломанные и потоптанные, всюду лошадиные и человеческие испражнения. Видимо, тут пряталась от самолетов воинская часть. Подпоручик махнул рукой.
– Стой! – крикнул сержант.
– Видите ли, – подпоручик подошел к Вальчаку. – Война есть война. Немцы совершают налет, кто-то в городке пускает ракету в нашем направлении. Немцы сбрасывают бомбы, мы несем потери. В местечке ловят неизвестных людей, не имеющих документов. Сперва они говорят, что их ограбили выпущенные из тюрьмы арестанты, потом уверяют, будто сами вышли из тюрьмы. Что мы должны с ними делать? Следствие, суд? К черту суд! – вдруг заорал он. – Я неделю не спал! Столько дней мы несемся галопом! Два раза мне взвод распотрошили! И я должен с вами нянчиться! Да катитесь вы к чертовой матери!
Вальчак хотел еще что-то объяснить, но последние слова офицера разозлили его тоже:
– Сами катитесь туда же! – крикнул он. – Стреляйте, растуды вашу… Я гнил в тюрьмах, борясь с фашизмом, еще когда вы с герингами в Беловеже… А теперь меня как гитлеровского агента… Чтоб вас.
Он плюнул прямо под ноги офицеру. Сержант подскочил к нему, замахнулся, но длинноносый его удержал. Вспышка Вальчака успокоила подпоручика. Он посмотрел Вальчаку в глаза и наконец сказал:
– Какое-нибудь доказательство, понимаете? Какую-нибудь бумажку, подтверждающую, что вы из тюрьмы, какую-нибудь печать. Сами понимаете…
– Поцелуй меня в… Нет у меня бумажки!
Подпоручик закусил губу, он, видимо, страдал.
– А одной печати будет достаточно? – вдруг отозвался Кальве.
– Достаточно, достаточно! – протянул было руки офицер, но потом задумался: «Что за бессмыслица, печать без бумаги». Он сердито махнул рукой сержанту и отвернулся. Сержант крикнул:
– Вставай, вставай туда под кустик, и побыстрее!
Вальчак с неприязнью поглядывал на окружающий его пейзаж – последний, предсмертный: надвигающиеся сумерки, городок, колокольня на бледном горизонте, серолистая ольховая роща, узкая лента шоссе. Ну что ж, смерть себе не выбирают, ничего не поделаешь. Сосновский и Кригер, подталкиваемые солдатами, оглядывались на него, еще не веря, что, собственно говоря, все кончено. А Кальве вел себя странно: он спустил брюки, стоял, согнувшись, в белых подштанниках, пытаясь что-то найти у себя на ягодицах. Сержант, стоявший рядом с ним, обалдел и даже не торопил его; разинув рот, он уставился на Кальве.
– Пан офицер, – воскликнул Кальве, – пожалуйста!
Офицер нехотя повернулся, сделал шаг, остановился.
– Пожалуйста! – повторил Кальве, выгибая заднюю часть тела и указывая пальцем на свои подштанники.
Сержант едва не задохнулся от бешенства, схватил Кальве за руку и толкнул по направлению к остальным:
– Пошел, пошел! – кричал он. – Я тебе покажу, как оскорблять офицера!
– Посмотрите, – повторил Кальве. – Печать.
Сержант отпустил его руку, а подпоручик подошел ближе; нагнувшись, оба разглядывали подштанники Кальве. Черный кружок, затушеванный сумерками, расплывался перед их глазами. «В Козеборах», прочел подпоручик. Потом – «дисциплинарная». Первое слово не могли расшифровать. Дисциплинарная и Козеборы. Значит, тюрьма, ничего, кроме тюрьмы? Подпоручик выпрямился, махнул рукой, и Кальве наконец стал застегивать брюки. Некоторое время все молчали.
– Коммунисты? – сухо спросил подпоручик. Не дожидаясь ответа, он отвернулся, с минуту постоял с опущенной головой, словно вспоминая все, что знал о коммунизме.
Со стороны шоссе бежал солдат. Тяжело дыша, он остановился:
– Майор велел, чтобы вы поскорее… Обозы двинулись.
– А ну, ведите их назад, – бросил сержанту подпоручик. – Быстро.
Третий офицер, тот, красивый, вышел им навстречу. Длинноносый что-то ему объяснял, красивый пожал плечами.
– Ну и ладно, пусть Ольшинский не валяет дурака!
– Ступайте! – крикнул подпоручик. – А в другой раз будьте поосторожнее. Отпустите их.
Сержант очень внимательно оглядел каждого из четверых словно намеревался их запомнить. Один из солдат, подождав, пока остальные отойдут, сунул Сосновскому в руку четверть буханки хлеба. Батальон ушел ускоренным шагом. Ночь будто ждала этой развязки – сразу стало темно.
Друзья постояли еще несколько минут молча. Сосновский неуверенно засмеялся.
– Они бы нас расстреляли, а?
– Я думал, ты заболел, – сказал Вальчак.
Кальве криво усмехнулся. Час спустя они добрели до деревушки. Лежали на соломе, усталые и голодные. Сколько было на их пути овинов, таких же точно, набитых соломой, с глиняным полом, скрипучими дверями, цепной собакой, и все деревни были похожие, и голодные вечера, и особенно усталость. Чем дальше брели они на восток, чем дольше тянулся сентябрь, тем больше они изматывались. Они шли двадцать километров, потом пятнадцать. Кальве уставал, сидел с четверть часа на обочине, поднимался, шел еще километр, пока Вальчак, махнув рукой, не давал команду: «Отдых!»
Усталость была не только физической. После трагического фарса с подштанниками война вокруг словно уплотнилась. У них было странное ощущение: неделю они шли от немецкой границы в сторону Варшавы. Казалось, они должны удаляться от фронта. А получалось наоборот. По вечерам они видели впереди и справа от дороги далекие и близкие зарева, красноватые полукруги на сине-черном звездном сентябрьском небе. Иногда на дороге попадалась тучка, и зарево разгоралось, ползло вверх, кровавым дыханием поражая все новые полосы неба. Иногда они видели сверкающие вспышки далекой артиллерии, тогда им представлялось, что злобное чудовище, часто-часто моргая, все ближе подбирается к ним.
Ночи были мрачные и грозные, но дни были еще ужаснее. Днем охотились самолеты. Друзья быстро прошли начальную сентябрьскую школу: научились правильно оценивать небо. Они шли и слушали, в самом ли деле небо такое спокойное, каким кажется. У Вальчака в особенности обострился слух, он чувствовал зловещую вибрацию лазури задолго до того, как она приобретала наглядные формы, визжала и выла. Они насмотрелись по дороге на покинутые дома, на людей и даже коров, расстрелянных с самолетов, и ничему не верили, даже бренности своего существования.
16
На пятый или шестой день войны Анна не выдержала и решилась наконец совершить далекое путешествие с Жолибожа в центр.
Виктор пытался ее удержать:
– Каприз! Зачем это нужно, в любой момент можно ждать налета, такая даль…
Однако он не вызвался пойти вместо нее и в результате, пожалуй, только подогрел решимость Анны. Ей стало горько при мысли, что он трус, боится больше, чем она, и цель похода показалась ей более важной, чем она могла предположить ранее. А впрочем, дольше сидеть в жолибожской дыре было невыносимо.
На санитарном пункте на нее смотрели как на Амундсена: подумайте, идет на Кручую! Варшава словно разрослась в этой военной неразберихе. Такси исчезли, трамваи уже спустя два-три дня после начала войны стали ходить нерегулярно, застревали где-то возле Гданьского вокзала или в другом месте; самым надежным средством передвижения были собственные ноги. Вернулись забытые уже четверть века назад заботы. Люди вспомнили, что вода – это вовсе не пустяк: стоит лишь отвернуть кран, и она льется в ванну с такой легкостью, как воздух входит в открытое окно; вода – это благословенная мутно-желтая жидкость, заслышав ее бульканье в трубах под потолком, все спешат подставить под кран тазы, кастрюли, стаканы. Свет надо добывать с помощью спички, а не поворотом выключателя. Словно из бабушкиного сундука извлекли некоторые глаголы, например коптить. Процесс закупки продуктов тоже вскоре приобрел новый смысл.
Дни, иссеченные налетами, проходили медленно, казалось, от избытка событий и слухов они стали длиннее. Каждый день разрушал тот или иной из устоев годами формировавшегося уклада жизни. Ползли слухи о жертвах, сначала далеких – чей-то знакомый, родственница друга, услышанные в магазинах сообщения о разрушенных убежищах, о людях, погребенных под развалинами. Гроза словно приближалась, гром ударял все чаще, вот первый траур у соседей, внезапно осиротевшие семьи, исчезновения, увечья. Людей преследовали два кошмара, и неизвестно было, что страшнее – лишиться жизни или повседневно преодолевать невыносимые трудности во имя ее сохранения.
К двум первым добавлялся еще один мучительный вопрос: как сложатся судьбы войны? Анна Залесская, подобно любой потомственной польской интеллигентке межвоенного периода, интересовалась политикой лишь в той мере, в какой это предписывалось современным светским кодексом, то есть почти вовсе не интересовалась. Теперь она начинала понимать, что от политики нельзя спрятаться в четырех стенах комнаты, а тот, кто думает иначе, похож на ребенка, который закрывает глаза, испугавшись собаки, ощерившей на него зубы, и верит, что и собака перестала его видеть.
Политика грубо вторглась в совершенно частные судьбы скромнейших, тишайших людей и каждодневно, все сильнее и яростнее била их по голове. В принципе такое битье должно возбуждать работу мысли и вызывать элементарный вопрос: за что? За что именно меня? Но в сознании, подвергавшемся жестокому испытанию, нескоро созреет логичный ответ. Когда же банковская служащая, жена врача, учительница, пусть даже учительница истории, сумеет понять трагически простую, хотя и многостепенную связь между зеркалом, разбитым взрывной волной, разрушенным домиком, смертью племянника под Млавой и явлением неравномерного развития капитализма и потоком вытекающих отсюда последствий?
Анна начинала понимать значение политики. Когда на санитарном пункте дамы обсуждали новости, переданные по радио, извлеченные из куцых газеток военного времени или дошедшие от внезапно расплодившихся гадалок, Анну начинало мутить. Она слушала, как дамы наперебой болтают об Англии и о предсказаниях новоявленных сивилл, и чувствовала, что еще минута, и… Пальцы сами собой сжимались в кулаки, ей отчаянно хотелось накинуться на нестерпимо разговорчивых дамочек, и тогда она вскакивала, убегала, еле сдерживая крик, подступавший к горлу.
С каждым днем такие приступы отчаяния приходили все чаще. После воскресного возбуждения в связи с заявлением союзников в понедельник наступило горькое похмелье. Настроение стремительно поднималось и затем стремительно падало. Вот появился чей-то родственник из Здуньской-Воли: город занят! Весь квартал впадает в уныние. Радио сообщает: Вестерплятте стойко защищается. Быстро подсчитывается, какой эффект это дает в целом, наступает разрядка. Снова сообщение из частных источников: Пултуск. Снова Вестерплятте. Лодзь взята. Лодзь обороняется. Кельцы. И снова Вестерплятте.
Чем хуже шли дела, тем отчаяннее дамочки из санитарного пункта искали утешителей, покровителей, святых. Они яростно вертели ручки радиоприемников. Сначала их пугали вторгавшиеся между маршами и обереками [63]63
Польский народный танец.
[Закрыть] грозные слова: «Внимание, внимание. Воздушная…» Потом они заметили, что предупреждений становится все меньше, а налетов все больше. И тогда они пристрастились к радиобеседам полковника Умястовского. Была какая-то соразмерность между их жаждой спасения, все более грозными известиями и его тоном, его доказательствами, его приказами. Например: «Укладывайте на шоссе бороны!» Анна ахнула: «Может, он еще предложит посыпать шоссе канцелярскими кнопками?» Дамы на нее накинулись, закричали. В их потрясенных душах Умястовский уже занял места где-то рядом со святой Бригиттой. Тогда Анна впервые подумала о Кручей. Умястовский всего лишь полковник, а дядюшка ведь генерал, и к тому же настоящий, а не такой, из радиопередач.
Бессознательно, как раненое животное, она теперь искала лечебную травку, прежде ей неизвестную, которая принесет спасение от страшного настоящего, а если нельзя, так хотя бы от еще более страшного будущего. На санитарном пункте она делала перевязки легкораненым. Ходила на дежурства ПВО. Но несоответствие между безграничностью несчастья, постигшего страну, и ничтожностью ее усилий стало невыносимым.
В то утро она ушла из дому почти украдкой, чтобы не наткнуться на Виктора: ей надоела его рассудительность. Чего она ожидала от кузена своей матери, генерала в отставке, Евстахия Кноте? «Правды, – говорила она себе, – только правды. Я должна знать, что нас ждет. Пусть самая горькая правда, лишь бы без гадалок, пророков, железных борон на шоссе. Кто же, как не дядюшка…»
Часам к двенадцати она добралась до центра. Здесь Анна пошла медленнее; пройденные километры утомили ее, она спешила, хотела поскорее миновать виадук: боялась, что налет застигнет ее именно там, возле железной дороги. День был прекрасный. Нежно-голубое небо. Солнце теплое, но не знойное. Цветы на клумбах по-осеннему пышные. Все было яркое, аккуратно прибранное, торжественное. День казался праздничным, и только некоторое время спустя Анна поняла: это оттого, что на улицах мало людей и почти все магазины закрыты.
Спокойная, еще не тронутая бомбами улица, как и прекрасный день, подействовали на Анну расслабляюще. Она шла, стараясь не смотреть в глаза людям, изредка попадавшимся ей навстречу, чтобы не выдать им, скрыть от самой себя свое отчаяние, горечь, бессилие. Ей казалось, что есть определенное сходство между судьбой Варшавы, Польши и ее собственной судьбой. Она толком не знала, на чем основано это сходство, и шла, сокрушаясь, быть может, уже только над своей участью.
Анна опомнилась, услышав грохот, доносившийся справа. Она ускорила шаг. Люди останавливались и тут же бросались в ворота, кто-то звал и ее. Тогда она побежала, откинув голову, подгоняемая страхом, что застрянет здесь, на полпути к Кручей. Анна увидела пятерку самолетов. Они шли невысоко и теперь даже снижались, вероятно миновав зенитное заграждение в предместьях.
Впереди, на расстоянии примерно полукилометра от Анны, появилось темное облако. Оно было небольшое, быстро порыжело, а затем исчезло, но сейчас же, одновременно с раскатами грома, взвилось другое – черное, огромное.
– Попали! – закричала женщина в воротах.
– Попали! – крикнул какой-то прохожий, с виду рабочий; он выбежал из ворот и кинулся вперед, по направлению к дыму.
Анна тоже бежала. Дым валил все сильнее. Склады горючего! Эту весть передавали из ворот в ворота. На улице полно народу. Тяжелый запах гари. В лицо Анне пахнуло жаром. Сделав над собой усилие, она помчалась вперед: на помощь или просто из любопытства – Анна и сама не могла бы объяснить. Отовсюду неслись крики, из окон соседних домов выбрасывали узлы, всякий хлам; плакали дети.
– Стой! – вдруг рявкнул кто-то и так крепко схватил ее за локоть, что у нее на секунду онемела рука. – Куда, черт возьми! Пожара не видала? Назад!
Это был офицер – небритый, глаза покраснели от усталости.
– Бегу на помощь! – кричала Анна, вырывая локоть из его костлявых пальцев.
– Только тебя там не хватает!
Анна объяснила, что ей надо на Кручую.
– Нет прохода! Перекройте улицу, гоните баб! – приказал офицер солдату, подбежавшему к ним.
Это был не единственный пожар. Анна свернула влево, добралась до Краковского Предместья – там тоже горело, и ее не пропустили полицейские; она прошла через Беднарскую к Висле, упорно стремясь попасть на злосчастную Кручую.
На улицах не было и следа недавнего спокойствия. Анна бежала, почти не чувствуя усталости, не чувствуя, что ее душат слезы, что ее толкают люди, мечущиеся взад и вперед. Налет прошел и этой стороной, разрушена стена каменного дома, еще не осела пыль штукатурки, множество людей копошится в развалинах. Немного подальше медленно разгорался пожар, пламя охватывало большой дом. Из ворот доносились крики, ржали лошади. На тротуаре несколько человек – праздные наблюдатели. Анна сунулась было в ворота, навстречу ей повалил дым, она закашлялась. Кто-то за ее спиной заорал:
– Что вы делаете!
Окрик этот только подстегнул Анну: ничего не видя, ничего не понимая, она бросилась вперед, нагнув голову, словно ныряя. Бесконечными показались ей эти ворота, она едва не задохнулась, пока наконец не выбежала во двор.
Дом был новый, большинство жильцов, видимо, заблаговременно выехали отсюда, потому что никто не боролся с огнем. В окне первого этажа вопили две женщины – они никак не могли справиться с огромными подушками, выпихнуть их во двор. И только на самом дворе, в углу, жались живые существа.
Пожар разрастался со стороны ворот. Языки пламени плясали на оконных рамах. В этот ясный солнечный день огоньки казались прозрачно-желтыми, почти как янтарь. Ленивые порывы ветра раздували их в пузыри, внезапно достигавшие гигантских размеров. Тяжелый, удушливый дым скапливался во дворе, хватал за горло. А там в углу – не меньше сорока лошадей и, кажется, трое совсем еще молодых солдат.
Анна остановилась, не понимая пока, в чем дело, почему солдаты не выгоняют на улицу отчаянно ржавших лошадей, Вдруг она рванулась в сторону – огненный столб мелькнул перед ее глазами: невыносимый жар, нечем дышать. Она инстинктивно побежала вперед, на середину двора.
Огонь торопился. Тяжелое облако беловатого дыма, пронизанного снопами пламени, заслонило ворота. Воздушная тяга превратила их в некое подобие печной трубы. Анна видела маячивший впереди прямоугольник улицы, темные фигуры людей, размахивающих руками. Дыхание пожара снова стало чувствоваться сильнее, Анна шагнула назад и очутилась возле лошадей.
Молодые солдаты совсем растерялись. Прижатые к стене огнем, подступавшим все ближе, они не знали, как справиться с лошадьми, охваченными паникой. Лошади визжали, ржали, выли, жались в кучу, оттесняли одна другую, лягались.
– Выводите! Выводите! – кричит Анна. Солдаты смотрят на нее, словно не понимая польского языка. – Выводите!
Женщины исчезли, остались только раскиданные во дворе узлы. Убогое имущество, черный с красным платок, пара высоких черных ботинок, возле ворот валяется раскрытый молитвенник. Новый порыв ветра – и вот почернели, обуглились вздыбленные страницы.
Анна это видит. Бежать! Она понимает, что сама попала в ловушку.
– Надо бежать! Бежать! – повторяет она.
Солдат, который стоит к ней поближе, блондин лет двадцати, смотрит на нее испуганными глазами и наконец в страхе бормочет:
– Лошади.
– Почему вы их не вывели раньше, как только загорелось? – Анна слышит свой собственный голос, он такой резкий, что голове больно.