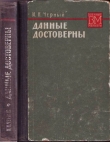Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц)
– Ты помнишь Янека? Моего сына… – начал Бурда с раздражением.
– Ну как же! – Фридеберг даже хлопнул себя по колену от радости, что наконец понял. – Янек, такой сорванец. Где он сейчас? Наверно, в лицее?
– Он подпоручик.
– Не может быть! Как время летит! И где служит? В Варшаве?
– Нет, в Бохне, командует взводом.
– Какой ты чудак, почему сразу ко мне не прислал? Давай его сюда… – Он остановился, подумав. – Правда, сам понимаешь, сейчас нет штатов. Но как только примусь за формирование штаба, милости прошу, возьму его в адъютанты…
– Очень тебе благодарен. Что ни говори, единственный сын. А в пехоте далеко не уйдешь.
– Ну ясно. Это я тебе твердо обещаю. Сразу же, как только получу армию… или какую-нибудь оперативную группу. Название меня меньше всего интересует, словом, как только приступлю к работе, сразу же заберу его. А в отделе кадров сам все улажу. «Ян Бурда», – записал он в блокноте. – Отлично!
– Когда ты возвращаешься? – спросил Бурда. – Ты ведь приехал на машине?
– Ну что ты! Там такие дороги! Машина может на ходу развалиться. Ужас! Смотри, как получается, иногда бедность и отсталость бывают даже на руку. Вот чехи, почему их так легко оккупировали немцы? Потому что они построили хорошие дороги. Нет, я утром возвращаюсь поездом. В десять часов восемь минут.
– А этот… твой адъютант, где он сейчас?
– Наверно, пошел к девочкам. Он у меня там все с ума сходил. Такая дыра, и к тому же все обо всех известно. Зато здесь! Я его отпустил, завтра в девять должен явиться.
Бурда улыбнулся, думая о том, как бы поскорее спровадить гостя. В холле снова зазвонил телефон.
Фридеберг несколько раз зевнул. Он тоже ждал удобного случая, чтобы встать и попрощаться: все дела тут были улажены. Обрадовал же его Бурда, заговорив о сыне! Теперь не одна дружба будет руководить хлопотами министра в генеральном штабе. Словно после тяжкого труда, он рассеянно посмотрел на хозяина: когда же наконец?..
Бурда взял телефонную трубку, бросил вполголоса «алло», скривился, добавил еще раза три «Да» и раза два «Слушаю», потом «Бурда у телефона», потом «Да, господин генерал». Вдруг он оглянулся, ища глазами кресло, тяжело опустился на сиденье и долго молча слушал. Но вот наконец хриплым, как будто потухшим, голосом буркнул: «Понимаю». Потом почти крикнул: «Я сейчас сообщу! Сегодня – нет? Завтра утром? Слушаюсь!» – и, продолжая держать трубку, несколько раз повторил: «Да, конечно». Обеспокоенный Фридеберг подошел к двери. Стало тихо, только голос незнакомого генерала неразборчиво бурчал в аппарате… «Слушаюсь!» – сказал напоследок Бурда, поднялся и швырнул трубку.
Это был уже совсем другой Бурда. Он сразу осунулся, щеки запали, резко обозначились монгольские скулы, глазные впадины углубились и стали почти черными, губы побелели, нос заострился.
Слегка приоткрыв рот, Фридеберг застыл в ожидании. Он тоже побледнел и был не в силах спросить, что случилось.
– Риббентроп полетел в Москву, – шепнул Бурда.
Они стояли на пороге гостиной и с полминуты смотрели друг на друга. Бурда первым отвел свой взгляд, вошел в гостиную и, глядя в окно, сказал каким-то надтреснутым голосом:
– Звонили из генерального штаба, спрашивали про тебя.
– Ну и что? – Фридеберг вскочил с места. – Приказали явиться? Я сейчас…
– Ничего не приказали. Приняли к сведению. Удивились, что ты до сих пор не уехал…
– Но я сию минуту. Уже еду! Казик, у тебя есть машина?
– Ну?
– Понимаешь, я должен немедленно ехать, нельзя ждать. Черт возьми, сукин сын! Где его теперь найдешь? – Фридеберг подбежал было к телефону, но вернулся. – Я должен немедленно выехать… Ты дашь мне машину?
– Ну конечно, пожалуйста…
– Большое спасибо! – Фридеберг схватил Бурду за руку и изо всех сил тряхнул ее. – Сам понимаешь, теперь в любой момент могут объявить… Поездом я приеду только завтра вечером. Это будет катастрофа! Подумать только, приходит приказ, а командир отсутствует. За это в порядочной армии отдают под суд. Очень прошу тебя, сейчас же распорядись…
Бурда встал и принялся звонить шоферу. Фридеберг застонал в отчаянии, когда выяснилось, что шофера нет на месте, и пришел в восторг, когда тот в конце концов нашелся, опрометью выскочил в прихожую и схватил пояс и фуражку.
Наконец Бурда все уладил. Некоторое время он стоял молча, не обращая внимания на благородное ликование Фридеберга. Лицо его уже не было таким бледным. Он думал о конкретных вещах. Подошел к столику и принялся листать книжку в голубой обложке.
– Послушай, Генрик, – сказал он наконец. – Прошу меня извинить, я не могу дать тебе машину.
Фридеберг остановился как вкопанный. Он глядел на Бурду, словно обиженный, беспомощный ребенок; нижняя губа отвисла и задрожала, казалось, он вот-вот расплачется.
– Ты же сам понимаешь… Могут быть разные срочные выезды… инспекция… Время горячее…
– Это твоя собственная машина? – Фридеберг со слабой надеждой взглянул на него.
– Да! – неохотно отозвался Бурда. – Но в министерстве может вдруг не хватить машин. В такие моменты можно рассчитывать только на себя.
– Но я завтра же отошлю ее обратно…
– Дорогой мой, ты же сам рассказывал, какие там дороги. Разобьешь машину, а потом что? Но ты не волнуйся, вот здесь… – он протянул Фридебергу голубую книжечку, – поезд отходит в два часа пятьдесят две минуты, – он взглянул на часы, – у тебя впереди три часа. Только одна пересадка в Розвадове.
– Наверно, без первого класса…
– Мой дорогой… – начал сухо Бурда, и тот сразу же сдался.
– Все ясно! Ты прав, я согласен. Но хоть здесь, в Варшаве, отвези меня на вокзал… – умолял Фридеберг. – Если б не этот Минейко! Где мне его искать?
– Обзвони ночные рестораны. Наверно, сидит в каком-нибудь кабаке.
– Ты прав! Задам же ему жару! Ну, я побежал.
– Постой, сейчас будет машина.
Фридеберг подбежал к телефону. Торопливо набрал номер и в ожидании ответа притопывал ногой. Всякий раз начинал со слов «Говорит генерал» и ждал, пока объявят в зале: «Нет у вас поручика Минейко?»
Безрезультатность поисков все больше злила Фридеберга, он проклинал несчастного адъютанта, вертелся, подпрыгивал и наконец, отчаявшись, объявил:
– Сам объеду на машине все эти бордели…
А машина опаздывала. Фридеберг шагал по комнате, упорно глядя под ноги. Бурда его понял: генералу было стыдно, стыдно за Бурду! Вот цена его тонким и мудрым расчетам – грозная действительность сдула их бесследно. Словно зубная боль, бередили его душу злость, отчаяние и обида. Наконец он сказал – скорее самому себе, чем собеседнику:
– Обманули, как обманули!
– Посадили в калошу, да еще в какую! Ах, Гитлер, Гитлер! – буркнул Фридеберг. – Я всегда говорил, что политика – глупость и обман, главное – армия!
«Нужно ее иметь», – едва не сказал Бурда, но тут пришёл шофер, и Фридеберг на прощание решил продемонстрировать свой дешевый оптимизм.
– Так ты помни! – почти кричал он. – Объясни им. А за своего Янека не беспокойся, я беру его на себя. Держись, черт возьми! Спокойной старости захотелось?! Впрочем, все будет хорошо!
Он так помчался вниз по лестнице, что шофер еле поспевал за ним. Бурда вздохнул свободнее, но это было лишь минутное облегчение. Он принялся звонить в Замок, на Вежбовую, в Главную инспекцию вооруженных сил. Но все начальники были заняты, для Бурды у них не было времени. Размеры катастрофы росли, из всеобщей она становилась и личной. Ему стало казаться, что о нем забыли, отстранили, выбросили на свалку. А еще эта история с Вестри – как он мог, как он мог так глупо поступить?.. Огромным усилием воли Бурда внушал себе: спокойствие, спокойствие, не думать!.. Он бродил из комнаты в комнату, смотрел на свою изысканно обставленную квартиру: вот солнечная столовая, картины Стрыенской и Скочиляса, Мальчевского, этих лучших художников Польши, потом заглянул в кабинет, машинально выдвинул какой-то ящик письменного стола, остановился возле книжного шкафа. «Что это, черт побери, прощаюсь я, что ли, со всем этим?» Окончательно разозлившись, направился в ванную, но по дороге вспомнил о Каролине… или Шарлотте… а в последнее время она зовет себя Скарлетт. Он заказал междугородный разговор и в ожидании звонка снова принялся бродить по квартире.
– Алло! Это ты, Карусь? Ну, как там на нашем море, от которого мы не позволим себя оторвать? Что? Ты тоже не позволишь? А я что, собака? Моя дорогая, я бы все-таки попросил тебя вернуться! Что? Нет-нет, это уже не шутки. Да. Лучше завтра, чем послезавтра. Нет-нет, ничего не случилось. Что? Ни в коем случае, это слишком долго. И знаешь что, захвати с собой мелочи – фарфор, серебро, картины. Мебель пусть остается. Да нет, клянусь! Просто я соскучился. Зачем фарфор? По нему я тоже соскучился. Ну, разумеется, меньше, чем по тебе. Сама понимаешь, какие-нибудь бродяги могут напоить сторожа, обокрасть… Что, тебя тоже? Но здесь тебя никто не украдет, не правда ли? Значит, завтра, ладно? Ну пока, целую ручки, спокойной ночи, спокойной ночи.
Минуты три он думал о Скарлетт. Они прожили вместе уже двенадцать лет, и он все еще не охладел к ней. Бывали, конечно, увлечения, но после каждого из них он еще больше ценил жену. Наверно, не последнюю роль в этой его привязанности играло поведение Скарлетт, которая умела возбуждать его ревность и искусно использовать этот козырь. Иногда это приводило его в бешенство. Нет, она совсем не похожа на тихую, убийственно верную Леокадию. Он думал о Скарлетт, и ему стало казаться, что присутствие жены помогло бы перенести навалившуюся на него тяжесть. А тяжесть эта придавила его так, что казалось, нечем было дышать. Бурда с трудом избавился от этого чувства и отправился в кабинет. Тут снова зазвонил телефон.
– Директор Хасько? Ну хорошо, чего хочет директор Хасько после двенадцати часов ночи? Да, да, да! Ну и что из этого? Какая там ситуация? Вы поменьше слушайте бабьи сплетни, а побольше – приказы своих начальников. Как? Что вы там снова обнаружили? Заключенные? С каких это пор они перешли в ведение министерства внутренних дел? Пусть ими занимается юстиция, только юстиция! Ага, они оттуда? Хорошо, согласуйте. Хорошо, транспорт из двухсот политических заключенных… Очень опасных… Хорошо. Коммунисты? Кто может быть опаснее? Ну а что вы скажете про Козеборы? Отлично. Прямо в Козеборы! Что, граница близко? Боитесь, что заразим немцев коммунизмом? Ну, к чему эти разговоры? Отправляйте их прямо в Козеборы! Спокойной ночи.
Бурда с раздражением повесил трубку. Тупость Хасько становилась просто невыносимой. Иногда он думал, что тот нарочно строит из себя дурачка, чтобы тянуть начальников за язык. Бурда нервно зевнул. Потом подошел к сейфу в виде небольшого библиотечного шкафа, набрал номер, отомкнул три замка и вытащил толстую тетрадь в переплете из телячьей кожи.
«21 августа, понедельник». Бурда написал и остановился. «Риббентроп полетел в Москву. Это известив передал мне взволнованный Целинкевич. Разволнуешься! Обвели нас вокруг пальца. На месте Бека я пустил бы себе, пулю в лоб. Он всегда был так уверен, что удержит Гитлера за руку. Я еще тогда, в марте, чувствовал, что эта комбинация опасна, советовал, предостерегал…»
Бурда не мог вспомнить, от чего именно он предостерегал, и перелистал несколько страниц назад.
Мартовская заметка, однако, выглядела совсем иначе, чем он предполагал минуту назад. «Бек владеет собой лучше, чем можно было ожидать. Это должно кое-кого успокоить. Он считает, что все можно будет уладить и основную политическую линию удастся удержать. На эти требования нужно ответить призывом резервистов и угрозой союзов – но только не с Москвой… Это успокоит Гитлера, а через некоторое время можно будет вернуться к принципиальному разговору о наступлении на Восток. Беку нельзя отказать в логике и фантазии. Это настоящий политик».
Бурда сидел, курил сигарету и с отвращением, словно на изменившую любовницу, смотрел на заполненные ровненькими равнодушными буквами светло-желтые страницы тетради. Со злостью перечеркнул написанную сегодня страницу. Раз и еще раз. Какое безобразное черное пятно… Взял ножик, прижал к тетради, оторвал злосчастную страницу и сжег.
Пришлось начать снова: «21 августа, понедельник. Риббентроп полетел в Москву. Я полностью сознаю историческое значение ближайших дней. Это тяжелое испытание, это божий суд. Хватит ли у нас сил изменить неблагоприятную для Польши ситуацию? Сумеем ли мы укротить этот народ скандалистов? Вежинский [30]30
Казимеж Вежинский (1894–1969) – польский поэт, представитель литературной группы «Скамандер», созданной в 1920 г.
[Закрыть] был прав, говоря: «Я обрекаю вас на величие, иначе вас всюду ждет гибель».
Тут Бурда остановился, снова закурил, на минуту задумался и продолжал писать: «С раннего утра я на ногах. Все роют траншеи. Население преисполнено энтузиазма. Никогда еще не было такой благоприятной ситуации внутри страны. Передача оружия. Меня всюду встречают с уважением и любовью – народ нуждается в символах. В министерстве толпа просителей, насилу отобрал наиболее важных. Решил вопрос о культурно-воспитательных мероприятиях среди наших солдат». Вспомнил Нелли Фирст – какая она все-таки привлекательная, – но мысль о Риббентропе сразу подействовала как холодный душ. «Оппозиция, – продолжал он писать, – это бедные политические торгаши, куда им до нас…» Бурда снова остановился. Какое значение имеет сейчас его жалкая победа? Но уже через минуту он овладел собой: это важно для истории, пусть знают, как люди Пилсудского отдают все силы во имя родины. «Вестри – мерзкий делец. Какую подоплеку имеет скупка акций тяжелой промышленности? Я подсознательно почувствовал подлог и не отдал ему Пекары. Во второй половине дня – несколько незначительных заседаний. Звонил старик из Влодавы, беспокоился о воздушных заграждениях. Милый, хотя и ограниченный. Бек неуловим, договорился о встрече, но в последнюю минуту ускользнул. Зато был Фридеберг, по-прежнему мнит себя Наполеоном. Я обещал помочь. Вот они, заботы государственного деятеля! При нынешней административной технике государство разъедает специализация. Необходимо упорядочить работу ведомств и согласовать их действия. Та же несогласованность царит в нашем обществе. Скарлетт завтра вернется. Хотела побыть до середины сентября, насилу уговорил. Хасъко – дурак».
Еще раз перечитал все. Чего-то не хватало. Он добавил: «Искренность – не порождение воли, а особое умение. Желания быть искренним недостаточно, надо уметь быть искренним. Я лично с надеждой взираю на будущее. Верю в то, чего мы уже добились».
Бурда спрятал тетрадь в сейф и лег спать. Он боялся бессонницы и выработал особую технику засыпания.
Нужно было приказать сознанию освободиться от неприятных мыслей. Но попробуй-ка в такой день избавиться от огорчений. Каждая более или менее радостная мысль при воспоминании о поездке Риббентропа таяла как дым. И до чего же жалки его сегодняшние победы! Днем еще казалось, что его победа в схватке с четырьмя политиками свидетельствует о том, что он, Бурда, повзрослел на десять лет. Каким ребячеством казалось ему теперь все, чем он еще сегодня утром так гордился. Бурда отчаянно отбивался от горьких мыслей, а они надвигались на него со всех сторон.
А тут еще ужас перед бессонницей. Будешь слоняться в халате по квартире и, зевая от скуки, раскладывать пасьянс. Но где взять те легкие, светлые мысли, после которых приходит сон? Скарлетт? Ну и что? Фридеберг. Сейчас, сейчас! Хорошо, что хоть с Янеком уладил… Но, может быть, это не так уж хорошо? Не лучше ли было поговорить с Шембеком из министерства иностранных дел? Мальчик знает французский язык… Нет, плоды всех его усилий не выдерживали испытаний даже одного дня.
Вдруг что-то радостное замаячило на пороге сознания. Он не сразу понял. Машина! Как удачно, что он не дал ее Фридебергу. Почему? И, не додумав до конца, чувствуя только, что поступил разумно, уснул.
7
Они проснулись от толчка. Где-то далеко гудел паровоз, поезд медленно двигался. Кальве поглядел в зарешеченное окно. Скудно освещенные станционные строения уплывали назад.
– Кросневицы, – прочитал полицейский, – черт их побери, полсуток мы тут проторчали. Спятили они, что ли?
– Куда мы едем? – спросил Кальве.
– Не ваше дело! – проворчал полицейский. – Да и откуда мне знать?
– Наверно, в Луцк. Очищают предполье, – зевнул Кригер, высказав подобное предположение.
– Пан начальник, – вмешался Вальчак, – вас ведь это тоже касается. Сходили бы узнали, куда нас все-таки везут?
Полицейский разразился градом проклятий и угроз. Он не собирается быть на побегушках у заключенных, хоть они и политические, не станет им прислуживать. Сказав это, он отправился в соседнее купе.
За окном промелькнули огни, длинный товарный состав, туманные фигуры солдат, лошадиное ржание… Полицейский вернулся.
– Говорить запрещено. Но что не к тетке на именины едете – это факт.
– Почему мы так долго стояли? – не унимался Вальчак. – Путь занят?
– Какой, к черту, путь!.. Просто не знали, куда такой сброд отправить. В Юрату? В Закопане? Запросили Варшаву.
– И что Варшава?
– Думала, думала и хуже придумать не могла – в Козеборы.
Вальчак толкнул Кальве. Поезд набирал скорость. Кригер, ничуть не обескураженный тем, что его предположения не подтвердились, выдвигал новые, на этот раз совершенно неопровержимые. Остальные заключенные снова задремали. Изредка за окном мелькали черные в ночной тьме строения полустанков. Иногда с шумом пролетал встречный поезд, и тогда грохот врывался в окна мощной волной. Вальчак и Кальве перешептывались. Из газет, которые они видели лишь издали, из обрывков разговоров на станциях, из настроения полицейских вырисовывалась общая картина этих тревожных августовских дней. А последнее сообщение придавало особый смысл их и без того странному путешествию. Из Коронова, из варшавских тюрем, даже из Гродно, из Галиции собрали политических заключенных, только коммунистов, и везут в неизвестном направлении, впрочем, теперь уже в известном – к самой немецкой границе.
– Ясно как день, – подытожил Вальчак, – будет война.
Он умолк – не то задумался, не то снова задремал. А Кальве не мог уснуть. На узкой скамейке было неудобно сидеть, к тому же и сердце все чаще давало о себе знать. Оставалось только одно – думать, но он слишком устал. Его умение мыслить математически точно, выделяя главное, вошло в поговорку. Но сейчас мысли наплывали самотеком, вызванные непонятным, тревожным чувством, с границы яви и сна, облекались в плоть и кровь, становясь почти реальными образами. Сознания хватило лишь на то, чтобы держать эти образы в повиновении, не давать им воли, не позволять им нарушать логический ход событий.
Сперва самое неприятное, самое мучительное для него лично – арест! Как он мог так глупо попасться? Ведь он чувствовал, что Выробеку нельзя доверять, кто-то предостерегал его, но кто? Партыка? Нет, он погиб в Испании – под Теруэлем или в горах под Мадридом. К черту, не о Испании сейчас речь, а о Выробеке. Это кафе на Мокотовской. Там его уже ждали – один у входа, спрятавшись за вешалкой, второй и третий – в середине зала, за столиком. Делали вид, будто пьют кофе, но на самом деле не сводили с него того мерзкого свинцового взгляда шпиков, который чувствуешь даже сквозь газету.
А кто, кроме Выробека, знал про встречу? Лена? Ведь она должна была привести того товарища. Как же узнал Выробек? Выходит, что за все годы конспирации кое-кто не усвоил даже элементарных правил осторожности. Надо бы рассказать эту историю Вальчаку, он в таких делах разбирается, да и его арест на том неудачном молодежном собрании тоже весьма подозрителен.
Его охватывают противоречивые чувства. Холодок возле сердца – слишком много провалов. Необходимо еще раз все пересмотреть, особенно теперь, когда партия распущена. И создавать ее заново, проверяя каждый кирпичик, не треснул ли он изнутри… И вот волна теплого чувства, разглаживаются морщины на лбу, и на губах появляется улыбка: как хорошо, что он снова встретился с Вальчаком.
Познакомились они в Белостоке, после большого раздутого молодежного процесса, на котором он в первый раз крикнул: «Комедия окончена!» В тюрьме им, тогда еще желторотым юнцам, сообщили: Вальчак здесь, сидит в двенадцатой. Кальве, разумеется, о Вальчаке уже слыхал, но в их группе нашлись люди, которым надо было о нем рассказать. Итак, знаменитый люблинский процесс на заре буржуазного независимого государства. Рабочая милиция, которая так напугала пепеэсовских министров Пилсудского. Всевозможные ухищрения властей, чтобы как-нибудь избавиться от начальника этой милиции, а потом потихоньку ее разоружить. Не вышло! И наконец, открытая борьба со строптивым люблинским слесарем, который в свое время действительно поверил в «народность и справедливость» Речи Посполитой, но потом не позволил себя обмануть пышными фразами, не соблазнился министерской карьерой, которую ему предлагали много раз, уперся и остался с люблинскими рабочими. Тогда пустили в ход провокацию, его судили, вынесли приговор, а через несколько месяцев снова привлекли к суду, предъявив сразу два обвинения.
Пресловутая послеверсальская справедливость: по одному и тому же сфабрикованному обвинению его дважды судили и дважды осудили. А во время второго следствия было предъявлено еще одно обвинение – в принадлежности к партии. Шесть лет по первому делу, четыре года по второму. И не общий приговор – шесть лет, а по совокупности – десять. Десять первых лет существования Польши, за которую так боролся этот непокорный, упрямый слесарь, он отсидел в тюрьме.
Польша, за которую боролся Вальчак… Ведь он был даже в легионах Пилсудского. Воевал с царизмом где-то на волынских равнинах, а когда приказано было присягнуть другому императору, ушел. А тот, другой, устроил ему настоящее боевое крещение. Фельдполиция схватила Вальчака, когда он раздавал листовки, и его зверски избили.
И вот за это прошлое, которого иным хватило на то, чтобы в течение двадцати лет жить в почете, обрастать жирком и по спинам более слабых взбираться в гору, – вот за это-то прошлое пепеэсовские экс-товарищи с яростной злобой сводили с ним счеты с помощью кулаков дефензивы [31]31
Польская политическая полиция, охранное отделение.
[Закрыть], приговорами и не предусмотренными никакими уставами издевательствами в тюрьмах.
Сколько лет удалось Вальчаку прожить нормально в этой любимой Польше Войтеков-Малиновских [32]32
Мариан Малиновский, псевдоним Войтек (1876–1951), – политический деятель, пилсудчик, состоял в правом крыле ППС, занимал высокие посты в буржуазной Польше.
[Закрыть] и Костеков-Бернацких [33]33
Вацлав Бернацкнй-Костек (1884–1957) – реакционный деятель ППС, организатор концлагеря в Верезе-Картуской.
[Закрыть]? Нормально – это значит с фальшивыми документами, скрываясь от дворников, стараясь днем не показываться на улице и не задерживаться в одном городе больше двух месяцев. В двадцать девятом году он вышел из тюрьмы, а в тридцать втором, кажется, произошел уже тот провал? Нет, пожалуй, в тридцать третьем.
И снова процесс без всяких доказательств. Десять лет! Шесть годиков прошло. Двадцать лет существовало польское государство, из них Влодек Вальчак шестнадцать просидел в тюрьме.
Кальве не вздохнул, не сжал кулаки. Холодную иронию вызвала в нем мысль о либералах, болтающих о буржуазной свободе. Ударить бы этих интеллигентов по лапам тюремной жизнью Вальчака, если б действительно можно было поверить в их наивность и в то, что их характер действительно формировался в той, а не иной оболочке.
Рассвет застал заключенных где-то в районе Познани. Опять подолгу стояли на маленьких станциях. Сквозь туман, обволакивающий красные вагоны, видны были лошадиные морды. Раздутые ноздри, желтые длинные зубы, лошадиное ржание, по шпалам бредет солдат с ведром воды. Польский национальный род войск – кавалерия. Неужели они действительно верят, что кавалерия еще на что-то годна? Поистине класс, пришедший в упадок, подобно дряхлому старцу, теряет способность различать, что важно, а что уже отжило свой век. Взять хотя бы французское дворянство XVIII века или Распутина…
Наверно, Кальве задремал, потому что, когда он раскрыл глаза, было уже утро, за решеткой слева сияло солнце. «Проехали Познань, едем на юг», – отметил он машинально. Полицейский спал, вытянувшись на скамейке, и храпел так, что вздрагивали его бурые с проседью усы. Спали и заключенные: болезненно тучный Сосновский; худощавый, седенький, неистовый Кригер с вечной гримасой иронии на лице, которую не смог стереть даже сон; невысокий, усатый, пожилой Урбан из Люблинского воеводства; товарищи из Домбровского бассейна; текстильщик с впалыми щеками и тонкими губами, должно быть туберкулезный… Только Вальчак сразу улыбнулся Кальве – видно, поджидал, когда тот проснется.
– Ну как, – шепнул он, – переходим к повестке дня?
Кальве поглядел на него, вид Вальчака помог ему стряхнуть остатки сна и сразу вспомнить, что он в тюремном вагоне. Вальчак всегда внушал ему уважение, особенно же нравился Кальве подход Вальчака к людям, деловое и заботливое отношение ко всем, кто его окружал. Как будто тюремная камера, в которой он провел почти половину своей жизни, была не камерой, а капитанским мостиком, только матросы почему-то оглохли и не слышали его команды. Неожиданно для самого себя Кальве дотронулся до руки Вальчака.
– Первый пункт нашей повестки?
– Международное положение. Докладчик товарищ Кальве…
– Нет, лучше пункт второй: задачи польского рабочего класса и польских коммунистов в настоящий момент. Докладывает товарищ Вальчак.
Вальчак что-то ответил. Тихо, чтобы не разбудить конвоира, принялись обсуждать сложную ситуацию, еще столь неясную для них, отрезанных от мира, лишенных газет и общения с товарищами на воле. Что должен делать польский коммунист перед лицом гитлеровской агрессии против Польши Бека и Рыдз-Смиглого? Вопрос как будто бы и ясен, но сколько в нем подводных камней.
Постепенно стали просыпаться и остальные. Кашель текстильщика разбудил даже крепко спавших. Паренек из Домбровского бассейна, который был скован с текстильщиком, свободной рукой подал ему жестяную кружку с водой. Полицейский в углу потянулся и что-то пробормотал о своих старых костях и неудобстве тюремной скамейки. Его бормотание заставило насторожиться участников дискуссии. Вальчак загляделся в окно.
– Хорошая земля в Познаньском воеводстве! Хуже, чем у нас, в Люблинском, но обработана лучше.
– Кулацкие хозяйства, – бросил Урбан. – Из батрака последние соки выжимают.
– Это вопрос другой, но культуре земледелия стоит у них поучиться. Тут, конечно, вся сила в механизации…
Несколько человек, разумеется во главе с Кригером, завели разговор о крестьянах и сельском хозяйстве. Солнце мало-помалу нагревало стенки вагона, и по полу мелькал желтый солнечный зайчик, перескакивая при поворотах на ноги заключенных. В Козеборы они прибыли только в полдень.
Их выстроили на перроне по двое, в наручниках. Полицейские с винтовками окружили их, словно овчарки. Двинулись в путь. Убогий городишко, маленькие фабрики в предместье, на тротуарах любопытные.
В Козеборах арестанты были не редкость, но на этот раз они, однако, вызвали повышенный интерес жителей. По мере продвижения по городу все больше собиралось народу. На лицах удивление, даже недоумение, «Политические!» – бросил кто-то впереди. Это слово взволновало публику. Какая-то женщина сунула пачку сигарет парню из Домбровского бассейна, шедшему впереди Кальве.
– Да, коммунисты! – подняв голову, сказал Вальчак, уловив чей-то шепот на тротуаре. – Рабочий класс Польши!
– Молчать! – покрикивали конвоиры. Подоспевшие местные полицейские принялись разгонять любопытных.
Во дворе тюрьмы пришлось ждать. Двор был маленький, сжатый с трех сторон тюремными корпусами. На окнах тяжелые деревянные «намордники». В канцелярии торопливо заполняли формуляры, тюремщики сыпали проклятия: за какие грехи на их головы неожиданно свалилась такая обуза? С прибывших сняли наручники. Вальчак и Кальве попали в канцелярию одними из первых, зато продержали их там дольше всех. Вальчак, впрочем, чувствовал себя как дома. Вскоре он уже вполголоса беседовал с каким-то варшавским трамвайщиком, который спрашивал совета – стоит ли приглашать в качестве защитника адвоката Залесского.
– Сторонник санации! – покачал головою Вальчак. – Не любит браться за дело коммунистов, а если и возьмется, то сдерет много…
– Да ведь пять лет назад он меня защищал, и неплохо…
– За пять лет он успел обрасти жирком. Мне о нем недавно рассказывали. Не советую…
– Молчать! – с грозным видом подскочил седой надзиратель.
– Я уже где-то вас видел, – ничуть не смутившись, заметил Вальчак. – Сколько лет вы служите?
– Лет тридцать. А что? – Надзиратель был сбит с толку.
– Ай-яй-яй! – сочувственно покачал головой Вальчак. – Тридцать лет за решеткой, в два раза дольше, чем я.
Надзиратель вытаращил глаза, не зная, то ли рассердиться за такую фамильярность, то ли пожалеть себя – ведь его жизнь действительно в основном прошла за решеткой… Как бы впервые осознав истину, он отошел с растерянным видом.
Заключенных вывели во двор. Парень из Домбровского бассейна сунул им полученную на улице пачку сигарет. Закурили. Через канцелярию проходили все новые заключенные. Вальчак наклонился к Кальве.
– Чего, собственно, ждать? Давай начнем!
– Верно. Начинай!
– Товарищи! – громко выкрикнул Вальчак. – Перед угрозой нападения на Польшу немецкого фашизма мы, польские коммунисты, заявляем о своей готовности защищать родину с оружием в руках!
На дворе теснилось человек двести, акустика была как в скверном театрике, но Вальчак говорил полным голосом. Над дощечками в узких щелях окон показались головы и глаза тех, которые здесь сидели. Но он обращался не только к ним. Ему хотелось, чтобы его услышали жители Козебор, фабричные рабочие и разнесли его слова по всей Польше.
– Товарищи! Мы не должны мириться с режимом Бека и Рыдз-Смиглого. Этот режим привел Польшу на край пропасти. Чтобы спасти страну, нужно создать широкий фронт рабочих, крестьян, интеллигенции, создать истинно демократическое правительство…
Опыт подсказал ему: используй время, пока захваченный врасплох противник не опомнился. Никаких красивых слов, никаких отклонений от темы. Одно лишь содержание, голая политическая декларация. Но вот уже из канцелярии несутся надзиратели.
– Молчать, молчать, речи запрещены, в карцер!
– …Мы, принявшие первый удар на фронте борьбы с фашизмом, сегодня заявляем: дайте нам оружие, и мы готовы вместе со всеми сражаться и сложить голову за Польшу.
Слова эти заставили надзирателей замедлить шаг. Они остановились, все еще повторяя: «Никаких митингов!» – но уже довольно неуверенно. Один из них даже вернулся в канцелярию.
Таким образом, у Вальчака было впереди еще минут пять, пока не придет другой, более категорический приказ заткнуть ему рот.
– Наша задача в эти исторические дни – вместе с польским рабочим классом принять участие в этой борьбе!
Однако реакция начальника тюрьмы оказалась более быстрой, чем Вальчак предполагал. Темно-зеленые мундиры надзирателей приближались со всех сторон.