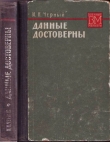Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
23
В тот вечер они провели важное совещание: что делать? Овин был не хуже и не лучше других овинов, голод и усталость – такие же, как всегда; на горизонте, там, где Варшава, догорали два пожара, третье зарево, правее и ближе, только занималось.
– Наш первоначальный план, – рассуждал Кальве, – был плохо продуман. Вооруженная борьба с фашизмом при одновременном создании народного фронта под водительством рабочего класса, разумеется, есть и остается нашей задачей. Но практически…
– Практически, – прервал его Вальчак, – мы не поспеваем за гитлеровскими войсками. Они будут под Варшавой, пожалуй, раньше, чем мы…
Со вчерашнего дня они слышали непрестанный, хотя и отдаленный грохот артиллерии впереди и справа от себя; справедливость слов Вальчака была столь очевидной, что даже Кригер только пробормотал:
– Ну, это еще не известно, – но спорить не стал.
– Возникает вопрос. – Кальве чувствовал себя все хуже, даже говорил с трудом, короткими фразами, – что делать? Практически. Нашей группе.
Все молчали. Вальчак – потому что он и так знал. Сосновский – довольствуясь тем, что Вальчак знает. А Кригер вообще не любил отвечать на вопросы и ждал утверждений, чтобы их опровергнуть – диалектически!
И так как все молчали, Кальве продолжал:
– До Варшавы осталось свыше ста километров. В последнем более или менее достоверном сообщении, еще третьего дня, говорилось, что немцы ведут бои под Петроковом. Значит, надо опасаться, что сегодня они уже в каких-нибудь ста километрах от Варшавы…
– Нет, – вмешался Кригер. – Они не обязательно должны все время идти вперед да вперед. Их могут по крайней мере задержать…
– Несомненно! – Кальве махнул рукой. – Теоретически это можно допустить…
– Почему только теоретически? – Кригер уже готов был вспыхнуть. – Практически тоже…
Вальчак покачал головой.
– Практически вопрос стоит так: либо мы любой ценой проберемся в Варшаву, либо, если это не удастся, надо подумать о чем-нибудь другом.
Снова возникал вопрос. Кригер промолчал.
– Ну и что? – спросил Сосновский.
– Ну, и прошмыгнем куда-нибудь на восток…
Все молчали, Кальве кашлянул:
– Варшава будет защищаться. Иначе быть не может! Даже если правительство решило сдать ее без боя, чему у нас, впрочем, нет никаких доказательств, то в этом случае мы тем более должны быть в Варшаве.
– Разумеется! – Вальчак энергично кивнул головой. – Решаем: любой ценой в Варшаву. Если не удастся всей группой, будем добираться поодиночке. В Варшаве контакты через…
– Это наладится! – сказал Кальве. – Кто-нибудь из активистов должен же там остаться. Помните того трамвайщика, как его? Генрика?
– Левицкого? – сказали все сразу.
– Ну, хотя бы.
– Ладно! Возражений не слышу, – подвел итог Вальчак. – Следовательно, в Варшаву, группой или в одиночку. И в Варшаве в борьбе с фашистским врагом создавать народный фронт… Как в Мадриде, именно в ходе борьбы…
Едва рассвело, они двинулись дальше. Следующая деревушка была довольно большая, в конце ее виднелась школа, окруженная двумя рядами невысоких деревьев. Возле школы, плотно прижавшись к стене, стояла машина с крытым кузовом, выкрашенным в желтый цвет, на котором большими черными буквами была выведена надпись: «Варшавская потребительская кооперация».
Кальве замедлил шаг и тихо сказал Вальчаку:
– Вы идите, идите, я вас догоню.
– Что с тобой? – Вальчак остановился.
– Да так, я хотел напиться воды…
– Ну ладно! Ребята, ступайте, мы вас догоним!
Кригер и Сосновский тотчас обернулись:
– Что случилось?
– Ничего, мы хотим попить воды! – Вальчак произнес это с деланной бодростью и незаметно моргнул им и печально скривил рот.
Они вошли всей компанией во двор. В школе было пусто, только из кухни доносились голоса, там, видно, шел громкий спор. Дверь отворилась, появились две заплаканные женщины и двое мужчин – пожилой, с толстой шеей, и молодой, хилый и бледный, у обоих в глазах ожесточение.
– Воды! – с ходу сказал Кригер.
– Что тут происходит? – спросил Вальчак.
– Вы еще спрашиваете! – ответила старшая из женщин. – Варшава… – И она, рыдая, закрыла руками лицо.
– Варшава? – крикнул Кригер. – Варшава?! Что вы говорите!
– Спокойно! – сказал Кальве, огляделся и тяжело опустился на табурет. – По очереди…
– Варшава! – пояснила молодая, не сдерживая слез. – Прибежал сегодня колонист Вайхман, хвастал, что само польское правительство признает…
– Не может быть! – почти крикнул Вальчак. – Это ложь!
– Я ночью слушала радио! Выступал полковник Умястовский, говорил, если кто верит в бога, особенно мужчины, так немедленно из Варшавы… У меня даже сердце екнуло, до того жалостно он говорил…
– Ну хорошо! Это было вчера. А сегодня что передает радио?
– Испортилось, аккумуляторы…
– Ну, значит, ничего не известно! Если какой-то Вайхман хвастает, это еще ничего не доказывает. Вы что думаете? Варшаву так, ни за грош отдадут Гитлеру? Уверяю вас, мы ее будем защищать, как Мадрид!
– Вот-вот. – Молодой парень выпрямился. – Я то же говорю: Варшаву так легко не отдадут, это тебе не Краков, тут одного рабочего класса несколько сот тысяч…
Женщины притихли, было сказано еще несколько утешительных слов – и молодая даже улыбнулась. Путники напились воды. Женщины извинились, что ничем не могут их угостить: мужья в армии, хозяйства у них нет, учителя…
Все шестеро вышли во двор. Приободрившись после разговора с Вальчаком, парень – он оказался шофером – рассказал, что война застала его с бухгалтером под Мендзыхудом.
– Ну, пробираемся как можем, днем прячемся от самолетов, ночью – от грабителей. Автомобиль – штука лакомая, особенно теперь, когда все бегут. Пока удалось уберечь. Да, едем в Варшаву.
Взгляд Вальчака стал тяжелым, по-особому выразительным. Парень помялся и незаметно отозвал Вальчака в сторону:
– Вы кто такие?
– Вот тебе и на! Люди как люди. А что?
– Мне сдается… я из ППС! Но вы не подумайте, нет, нет не от Зарембы [72]72
Зигмунт Заремба (1895–1967) – один из руководящих деятелей правого, реакционного крыла ППС, публицист»
[Закрыть]. Этого седого в очках я уже где-то встречал. Может быть, первого мая в тридцать шестом? И о Варшаве вы так говорили…
– Ну, значит, мы антифашисты, вы угадали.
– Ага! – Шофер широко улыбнулся. – Это всегда чувствуется! У меня нюх.
– Так вот, товарищ. Один из наших тяжело болен. Лысый, тот, что выпил так много воды. Не можете ли вы его захватить?
– Я бы вас всех… Но машина не моя. Поговорите с бухгалтером, с товарищем Жачеком. Ну, он, собственно, не таковский. Можно сказать, скорее центристской ориентации.
Однако выяснилось, что исключительные обстоятельства благотворно повлияли и на товарища Жачека. Вскоре их втолкнули в тесный, низкий кузов, где они с трудом ворочались, стараясь хоть кое-как разместиться. Кальве уложили на полу, под голову положили пустые мешки.
Полчаса спустя они миновали местечко Пёнтек, как и было намечено по сегодняшнему маршруту. Истинное чудо – передвижение в машине! Даже духота, пыль, чад от горючего, тряска на выбоинах – какое это имеет значение по сравнению с небывалым выигрышем во времени. Вальчак от радости запел.
А час спустя они остановились на перекрестке дорог под Ловичей. Вальчак нетерпеливо высунул голову: впереди были воинские обозы. Шофер слез, заглянул в кузов, чтобы посоветоваться, не лучше ли отъехать назад и боковым шоссе свернуть на Скерневицы. Вальчак вызвался пойти узнать, скоро ли рассосется пробка.
Они ждали Вальчака полчаса. У шофера наконец лопнуло терпение, он завел машину, решил ехать дальше, его едва умолили подождать еще четверть часа.
Он не стал ждать и пяти минут: небо загудело, на шоссе поднялся шум. Еще не упала первая бомба, а машина уже рванулась вперед, с молниеносной быстротой пробежала несколько километров, свернула налево и по-прежнему на большой скорости неслась все дальше и дальше.
Друзья Вальчака стучали в окошечко кабины. Шофер кричал в ответ что-то непонятное. Вечером остановились в Скерневицах.
– Сами понимаете, налет, тут ждать нельзя, – смущенно объяснял шофер. – Впрочем, он мужик с головой, до Варшавы доберется.
Кальве был безутешен. Кригер и тот притих. Ждали бензина, шофер уверял, что у него здесь есть дружок. И в самом деле, под утро он вернулся с двумя жестяными бачками:
– На двести километров хватит, а до Варшавы и семидесяти нет. Глядите, видна она, бедняжка!
Далекое зарево пожара на фоне безоблачного неба казалось тоже прозрачным. Друзья молча смотрели в сторону города, который оставался для них заветным и самым надежным пунктом сопротивления фашизму. Теперь, когда с ними не было Вальчака, они даже не могли как следует порадоваться тому, что цель их странствий уже близка.
На рассвете сильная бомбежка Жирардува заставила их свернуть с дороги. Они мчались так бешено, словно их нелепая, ярко-желтая машина была главной мишенью налета. Когда они очутились снова под Скерневицами, шофер успокоился и даже нашел в этой бомбежке маленькое утешение:
– Они били в Жирардув, от Варшавы сорок километров. Значит, Варшава не занята! И я, и тот товарищ, который отстал от нас, были правы, а Вайхман, раз он немец, да еще кулак, конечно, врал. Выше голову, попытаемся проехать через Мщонов! Лишь бы опять не попасть в затор.
Все трое были измучены и растеряны. Прежде чем они решились что-либо ему ответить, шофер хлопнул дверцей и вскочил в кабину.
Примерно часом позже он притормозил и крикнул в окошечко:
– Порядок, шоссе пустое! В двенадцать будем в Варшаве!
И тут же на полной скорости помчался вперед. Потом машина пошла немножко медленнее. Кригер дополз до окошечка и через узкое пространство между головами шофера и Жачека увидел, что впереди, в нескольких сотнях метров от них, поднялись клубы пыли.
– Черт побери! Снова обозы!
Кальве ничего не ответил. Сосновский покачал головой.
– Не судьба нам!
Машина хоть и медленно, но все-таки двигалась. Кригер снова выглянул.
– Нам повезло, эти тоже удирают на машинах. Наша могла бы идти быстрее, но шофер прав: держаться слишком близко опасно, еще угодишь под бомбы.
Разбитый маленький городок.
– Мщонов, – сообщил Кригер. – Может, вылезть, размять ноги? – Он постучал в окошечко.
Машина остановилась. Кригер с Сосновским спрыгнули, Кальве остался.
На улице ни души, два-три разбомбленных домика, жалкий садик. Далеко впереди гудело, должно быть, несколько десятков моторов.
– Не беда, – сказал шофер. – Пять минут можем подождать, все равно через передних не перепрыгнем.
Кригер пошел искать между руинами какое-нибудь уцелевшее жилье.
– Слишком далеко не отходите! – крикнул ему вслед шофер и обернулся, потому что с шоссе снова донесся шум мотора. Все трое поглядели в ту сторону, даже бухгалтер высунул голову из кабины.
Из-за поворота, всего метрах в четырехстах от них, показался массивный низкий силуэт танка. За ним еще и еще. Поднялся чудовищный шум.
– Немцы! – крикнул шофер.
– Немцы… – шепотом повторил Сосновский.
Танки были слишком далеко, чтобы различить опознавательные знаки на их башнях. Количество, именно количество объяснило им все.
Пять секунд они стояли неподвижно, окаменев, бессмысленно вглядываясь в приближающуюся железную лавину.
– Роман! – попытался крикнуть Кальве. – Позови Романа, – попросил он Сосновского.
Эти два слова вывели их из оцепенения. Шофер дико крикнул:
– Бежать!
Он втолкнул в кузов Сосновского, который громко звал Кригера, захлопнул дверцу и сел в кабину.
Машина стремительно рванулась. Через заднее окошечко они видели растущую морду первого танка, черную точку дула. Кальве скользнул взглядом по руинам. Кригера не было. Снова танк. Когда он выстрелит?
Танк не выстрелил, и они тотчас поняли почему. Они находятся в центре городка, вроде как на площади. Машина с ходу тормозит. Сосновский валится вперед, ноги Кальве оказываются у самого подбородка. Впереди через окошечко они видят Варшавское шоссе и совсем близко три других танка, повернутые дулами на Варшаву, видят башенки с открытыми люками, черные кресты в белых ободках, обнаженные загорелые спины солдат.
Это длится секунду, внезапный поворот вправо и на предельной скорости – вперед. Они видят – теперь через заднее окошечко, – как один из голых солдат машет рукой в их сторону, как он наклоняется, что-то хватает, как целится… машина сворачивает и мчится все быстрее, резко подскакивает на выбоинах, они колотятся головами о верх…
Так началась игра в кошки и мышки: полчища серо-зеленых танков, расползающихся под Варшавой, как тараканы, гонялись за идиотски желтым автомобильчиком. В Гроец машина ворвалась, преследуемая танками, идущими из Могельницы. Какой-то подросток крикнул им, что на Варшаву ехать нельзя, туда уже прорвались мотоциклисты.
Они свернули к Гуре-Кальварии: увидели танки. Боковыми дорогами поехали на Варку. Там они узнали, что мост через Вислу еще не взорван. На этот раз им повезло. Они пронеслись по понтонной переправе так быстро, что загрохотали неплотно уложенные доски. На том берегу нетерпеливо топтались саперы: кажется, у Гуры-Кальварии немцы уже форсировали Вислу.
Преследуемые с севера канонадой и трескотней пулеметов, они свернули на юг. Наступил вечер. Ночью они смешались с толпой беженцев на Люблинском шоссе и до рассвета проехали самое большее тридцать километров.
Первый утренний налет застал их за Гарволином. Шофер свернул с дороги, проехал по сыроватому лугу и загнал машину в лесок.
– Варшава сдана! – сообщили им, едва живым, беженцы, расположившиеся как попало под сосенками.
В небе гудели самолеты. Сосновский бегал за водой, смачивал носовой платок, прикладывал его к сердцу Кальве.
24
Вестри задержался в Варшаве после всеобщего бегства. Его не испугали слухи о вступлении немцев в город; имея в запасе швейцарское подданство, он мог вообще остаться и ждать, пока новые хозяева не наведут порядок в этом польском бедламе.
И все-таки вскоре он решил уехать. По двум причинам. Во-первых, участились налеты и пребывание в городе становилось все более опасным. Поначалу было похоже, что город отдадут без особого сопротивления и, возможно, будут защищать Прагу. Но после временного кризиса, сразу после призыва Умястовского распространились слухи, будто первые немецкие атаки в районе Охоты и Воли отбиты и немцы ограничились окружением города с запада и наблюдением. Этот успех неслыханно поднял дух жителей, теперь сдача города без боя казалась немыслимой. Но как раз осада, все более реальная в связи с победами немцев на Нареве и Буге, ни в малейшей степени не устраивала Вестри.
Была и другая причина, быть может даже более серьезная. После массового бегства жителей Варшавы Вестри сразу почувствовал, что живет в некой пустоте. В четверг сторож его особняка в Аллеях пожаловался, что ночью каких-то три типа пытались выломать ворота. Вестри позвонил в правительственный комиссариат. Никто не ответил. Тогда он стал звонить в министерство внутренних дел – трубку снял какой-то грубиян. Фамилия Вестри не произвела на него никакого впечатления. На вопрос, где вице-министр Бурда-Ожельский, он ответил пошлой остротой.
С каждым часом Вестри все острее ощущал свою оторванность от мира: в этом миллионном городе он вдруг как бы стал Робинзоном. Какое ему дело до того, что возле булочных стояли длинные очереди, что после каждого налета люди, как муравьи, копались в руинах, извлекали трупы и суетились над ранеными, что в предместьях, кажется, созданы добровольческие отряды? Вестри, как Робинзон, должен был сам заботиться о любой мелочи, даже о хлебе, о любой мелочи, значения которой для существования человека он последние двадцать лет попросту не замечал.
Общественная среда, для которой фамилия Вестри звучала как пароль, открывавший все двери, – эта среда исчезла. Только в посольствах осталось по несколько служащих, иногда даже высшего ранга, но и те плохо справлялись с повседневными заботами и сетовали, к примеру, на отсутствие воды или мяса. Важнейшие свои бумаги Вестри еще в конце августа переслал через швейцарского курьера в Женеву, теперь ему не хотелось без надобности показываться в посольстве. Один на один с шофером Пенташеком, дрожа за свою шкуру во время налетов, предоставленный невеселым размышлениям о бренности государств, политических влияний, высоких постов, он быстро потерял, казалось бы, врожденное душевное спокойствие и решил покончить с робинзонадой, пуститься на поиски той резонаторной коробки, без которой он был подобен нудно бренчащей струне, не имеющей ничего общего с искусно сделанным музыкальным инструментом.
Он выехал рано, почти на рассвете, желая выбраться из города до ежедневных утренних налетов и рассчитывая, что четыреста километров до Львова, где он собирался переночевать у приятеля – бельгийца из «Стандард ойл», – займут самое большее десять часов. Через мост они кое-как перебрались, несмотря на два встречных потока – войск и беженцев, движущихся на восток, и войск с обозами, устремившихся на запад. Он глядел на жалкие фигуры солдат, облепивших повозки, и содрогался: какая же это жестокая болезнь – современная война, если за десять дней люди дошли до такого состояния! Вестри торопил шофера.
У выезда из Праги их задержали. Какой-то унтер-офицер потребовал документы и пропуск на машину; при этом он смотрел на их спортивный двухместный «тальбот» так подозрительно, словно перед ним стоял немецкий танк. Потом унтер-офицер сослался на приказ о реквизиции всех машин и отказался слушать объяснения Вестри, доказывавшего, что пропуск, выданный ему в первый же день войны, освобождает его машину от реквизиции. Неизвестно, чем кончился бы спор, если бы не первый утренний налет. Унтер-офицер поспешил укрыться в импровизированном убежище, крича на бегу, чтобы они его ждали. Вестри шепнул:
– Полный газ!
Поворот был близко, унтер-офицер не стрелял.
После этого случая ко всем неприятностям, связанным с бегством, – бомбежки, пробки на дорогах, настойчивые просьбы разных людей, особенно женщин, подвезти их – прибавилась еще одна: страх перед властями, особенно военными. В глазах Вестри война внесла странные изменения в ранее установленную иерархию: капитан стал страшнее полковника, подпоручик – капитана. Однако смертельную опасность представляли только сержанты и особенно капралы.
Единственным утешением был «тальбот». Когда они добрались до скрещения дорог и свернули на Люблин, ехать по шоссе стало чуть легче. Вестри смущенно помахал рукой какой-то паре, возившейся возле машины с поднятой крышкой капота. «Тальбот» взревел и десять километров прошел за шесть минут. Багажник они заполнили бачками с бензином, его должно было хватить самое меньшее до Львова. И хотя на шоссе становилось все теснее, они довольно быстро добрались до Гарволина.
Но тут Вестри ждала беда. Над городком нависла туча черного дыма, глухо, как удары гигантского молота, раздавались взрывы. Шоссе сразу опустело, только старые женщины, не поспевая за убегавшими, еще с трудом перебирались через придорожные рвы и, тяжело дыша, с узлами и корзинами прятались под ближайшими кустами. Новая толпа беженцев, на этот раз не особенно большая, мчалась со стороны Гарволина. Женщина с ребенком на руках, едва переводя дыхание, остановилась возле машины; она умоляла подвезти ее хотя бы пять километров – лишь бы очутиться подальше от самолетов. Несчастная женщина бессвязно выкрикивала отдельные слова, за несколько дней скитаний она совсем обезумела.
Вестри смотрел на нее без всякого гнева и как можно спокойнее старался объяснить: во-первых, он намерен ехать не назад, а именно через Гарволин на Люблин; во-вторых, автомобиль, как она сама видит, двухместный. Его доводы нисколько не действовали. Женщина стала проклинать его:
– А чтоб вас, чтоб вас, чтоб автомобиль этот тебе костью в горле… чтоб тебя растрясло… за мои муки, за моего ребенка…
Хорошо еще, что другие беженцы были слишком напуганы, не обращали на них внимания и не останавливались. В этом смысле Вестри повезло. Неожиданно самолеты, летевшие со стороны Гарволина, загудели прямо над ними. Женщина, не переставая кричать, прыгнула в ров. Вестри тоже не выдержал и одним прыжком очутился в поле. Он успел пробежать, увязая во вспаханной, сыпучей земле, метров пятьдесят, когда самолет пронесся над ним; тень его скользнула по глазам Вестри, быстрая и холодная, как порыв ветра.
Гарволин горел, но взрывы утихли, и небо успокоилось. Вестри вернулся бегом одновременно с шофером, который прятался в кустах с другой стороны шоссе. Они влезли в машину. Вестри глянул через плечо на вещи: все на месте, чувствовался привычный запашок бензина.
– Газу!
Ага, как же! После безуспешных попыток завести мотор шофер проверил счетчик бензина – пусто. Пошел за канистрой и вскрикнул.
Темное пятно бензина под машиной. С нервной поспешностью они вытащили жестяные бачки – все до одного пробиты пулями.
Пожалуй, впервые за время войны Вестри испытал настоящее отчаяние. Оставаясь в Варшаве, он выпал из мира, в котором что-то собой представлял, снизился до уровня обыкновенных людей. Но пока у Вестри был вот этот «тальбот», он еще сохранял шанс на возвращение в свой мир. А теперь… Как в сказке, благодаря талисману он превращался в птицу или в животное. Но вот Вестри потерял талисман и больше не сможет вернуться к людям.
Они проторчали на шоссе несколько часов, пытаясь остановить изредка появлявшиеся машины – все держали путь на Люблин – и выклянчить хоть каплю бензина. Ни одна машина, ясное дело, не остановилась. Вестри хотел было послать шофера в Гарволин, но все, с кем они заговаривали, уверяли, что это безнадежно, городок сожжен до основания. Около полудня они съели еду, которую захватили с собой. Под вечер, после четырехкратного бегства от самолетов в кусты, после бесчисленных настойчивых просьб взять их в машину, отчаянно мучимый голодом, браня себя за то, что он так беспечно понадеялся на десятичасовую дорогу до Львова и на рестораны или постоялые дворы, Вестри двинулся вперед. Шофера он оставил возле машины, обещая раздобыть бензин. Если бы Вестри достал бензин не слишком далеко, то, безусловно, вернулся бы, но он не верил в такую удачу, с сожалением посмотрел на «тальбот», взял с собой портфель и габардиновый плащ и помахал шоферу рукой. Шофера ему тоже было жаль, он был очень услужливый.
Гарволин действительно сгорел дотла. На главной улице торчали два ряда закопченных труб, напоминая развалины римской базилики с остатками колонн. Быть может, где-нибудь в стороне Вестри и нашел бы уцелевшее жилье, но ему не хотелось здесь задерживаться, он опасался нового налета.
По дороге шла густая толпа. Из подслушанных урывками разговоров Вестри с ужасом узнал, что беженцы проходят в день двадцать – тридцать километров и что самое скверное вовсе не самолеты, от них есть отличное средство – не ходить днем. Намного хуже голод. Вестри очень быстро убедился в этом; после часа ходьбы он поймал себя на том, что неотступно, как маньяк, думает не о каких-то фрикасе, а просто о ломте хлеба. Хотя бы черного.
Вскоре ему стало тяжело тащить портфель. Он перекладывал его из одной руки в другую. Болел затылок, горели пятки. Людей подгоняли слухи, будто немцы не то в Седльцах, не то в Лукове. Говорили также, что вплоть до Рыков все начисто съедено, но в пяти или чуть побольше километрах от дороги есть деревушки, где кое-что еще найдется, быть может молоко.
Под утро Вестри испытал новый приступ голода. Он стал прислушиваться к разговорам: может, удастся у кого-нибудь хоть что-то купить? Он вглядывался в смутно мелькавшие силуэты – не увидит ли торчащую горбом буханку хлеба. Даже носом потянул, пытаясь различить, не пробивается ли сквозь пыль и пот запашок съестного. Потом, потеряв остатки стыда, он начал приставать к попутчикам. Предлагал сперва злотые, потом доллары. Люди смеялись над ним или отмалчивались. Часы? Кольцо? Один огрызнулся. Пожилой человек спросил, когда он ел в последний раз. Вестри признался, что вчера в полдень.
– Вот-вот! – сказал пожилой человек. – Первые сутки без еды самые скверные. Потом привыкнете, – утешил он Вестри. – Науке известны случаи абсолютного голода, продолжавшегося тридцать дней.
Рассвет застал их возле Рыков. Вместе с группой беженцев Вестри свернул с шоссе, прошел несколько километров по песчаной дороге между грядами картофеля. Потом была деревня, отвратительное хождение от хаты к хате. Всюду полно беженцев. Иногда молодые парни гнали его даже от ворот:
– Занято, идите дальше, ну, не останавливаться!
В предпоследней хате Вестри дали кружку молока из-под центрифуги, голубоватого, пахнувшего жестью; впрочем, он этого не заметил, молоко показалось ему удивительно вкусным. Дали ему из жалости и из жалости приняли пачку злотых:
– На что нам эти бумажки? Разве что стены оклеивать?
Он ушел из деревни, долго плелся, добрел наконец до перелеска. Здесь росли березки, милые, невысокие, немножко уже пожелтевшие, и две-три краснеющие осины. Он расстелил плащ, вытянулся. Нелегко оказалось найти удобную ямку под локоть, под плечо, под бедро; земля, которую поэты называли матерью, была не слишком ласковой! Повеяло холодом, он закутался в плащ, стиснул зубы, потом заснул.
Разбудило Вестри горячее солнце. Часы остановились, но похоже было, что сейчас около трех. Чувство голода стало невыносимым. Вестри судорожно потянул носом сладковатый запах гниющих листьев. В детстве он читал про съедобные корни. Между осинами он увидел красную шляпку гриба. Сорвал его; гриб был мясистый, пахнул гнилью, но все-таки аппетитно. Вскоре на белой ножке выступили фиолетово-серые пятна. Вестри испугался, запустил грибом в дерево и долго тер платком пальцы.
Отвратительные два часа ожидания неведомо чего. Далекие самолеты по-прежнему держали его на привязи. Он даже залез в самые густые кусты, вспомнив кружившие по Варшаве слухи о том, что немецкие летчики часто не брезгают одиноким путником, стреляют, бросают бомбы. Он лежал, целиком отдавшись своим мыслям. Больше всего он думал о хлебе. Ему казались очень странными заботы, которыми он жил в течение последних нескольких месяцев. Ну, скупал акции. Жаль, что он послал их в Женеву, они очень пригодились бы ему теперь, например для того, чтобы разжечь костер, потому что от земли уже тянет холодком. Он затосковал по Женеве: там, наверно, тоже прекрасная погода, по озеру скользят белые парусники. Из-за темно-лиловых предвечерних гор выступает белая голова Монблана. Можно было бы пойти в «Plat d'Arqent», поесть форелей, или лучше в «Mère Royaume» – заказать порцию полендвицы.
Таска его была, однако, сентиментальной и беспредметной, как воспоминания о далекой молодости. Он подумал о том, что за день или, вернее, за ночь сможет отшагать, ну, допустим, двадцать километров. Значит, до Люблина надо идти больше трех дней. А дальше? Его затошнило от голода, когда он представил себе, что снова отправится в путь, не поев.
– Не выдержу, – сказал он вслух, – сдохну в проклятой Польше.
Сдохну! В этой стране не умирают, а именно сдыхают! Для чего я тут сидел? Почему я не уехал, как многие, когда стало ясно, что война на носу? Зачем я позволил Фельдману втянуть себя в авантюру с акциями?
Доходы? Еще несколько сот тысяч, пусть даже в долларах. Ну, сдохну, и что мне от них?
Неизвестно почему он вспомнил Толстого. Старческие капризы этого аристократа, его мужикомания, его добровольное опрощение, близость к природе показались теперь Вестри полными глубокого, спасительного смысла. Он почувствовал, что в нем зарождается ненависть не только к Польше, непосредственной виновнице его сегодняшних бедствий, но и к их первопричине – тем миллионам, которые всю жизнь держали его за шею железной лапой, а теперь обрекают на муки голода и, быть может, на близкую смерть.
Пожилой человек на шоссе был прав: первые сутки без еды самые тяжелые. В сумерки он двинулся дальше, заплутался в кустах, блуждал несколько часов, потом наткнулся на болото, добрел до ручейка, полагая без всяких к тому оснований, что за болотом находится Люблинское шоссе. Промокнув до колен, он пошел назад и долго сидел на пне. Была звездная холодная ночь, где-то далеко позади вспыхивали красноватые искры. Он решил, что лучший для него выход – попасть к немцам, и двинулся по направлению к этим искрам. Спустя примерно час искры погасли, а он все еще шел, и вдруг сзади до него долетел едва слышный вой. «Волки!» – подумал Вестри и побежал. Он попал на проселочную дорогу, свернул вправо. На рассвете он очутился возле шоссе, и именно тогда появились самолеты. Преследуемый ураганом взрывов, он удирал через болотистый луг, в полубреду бежал назад сквозь белый холодный туман, добрался до высокого леса и здесь продремал целый день, прижимаясь к стволу сосны всякий раз, когда до него доходили отдаленные или близкие разрывы бомб.
Первые сутки были действительно самыми страшными. Измученный бессмысленными блужданиями, устав метаться, чувствуя жжение на губах, в желудке, в голове, он на вторые сутки освободился все-таки от одного кошмара – от преследующих его мыслей. Теперь он способен был уже только поклясться – себе самому или богу, в которого не слишком верил, – что, если только выйдет живым из этой беды, бросит все финансовые комбинации, поселится где-нибудь в тихом уголке, на берегу Женевского озера, а еще лучше возле Лугано, будет разводить в садике розы. «И немного картофеля», – добавил он на всякий случай.
На третьи сутки его мечты уже утратили всякую конкретность. Всю ночь он шагал по ухабистой проселочной дороге, проходил мимо деревень, стучался в дома, в сараи и, когда его безжалостно гнали прочь, шел дальше. На рассвете он остановился посреди деревенской улицы, снял шапку и пошевелил губами, словно молясь. Никто к нему не подбежал, ни у кого он не вызвал сочувствия, минувшая неделя была слишком необычной.
А еще на следующий день в очередной деревушке свершилось чудо: он тронул человеческое сердце. В обмен на прекрасные золотые часы с монограммой он почти на коленях вымолил полбуханки черного деревенского хлеба. Баба позвала мужа, они стояли на крыльце и смотрели, как он схватил свою добычу и побежал за овин. Здесь он остановился, подозрительно огляделся и принялся пальцами выдирать клейкий мякиш и яростно ломать твердую корку.
Два дня спустя, когда Вестри брел с недоеденной краюхой черного хлеба, предусмотрительно спрятанной под серым ворсистым спортивным пиджаком из ирландского твида, его увидел седоватый господин в очках, с трудом державшихся на маленьком красноватом носике. Были сумерки, в нескольких километрах впереди горел от бомбежки Люблин. Господин с красным носиком сидел в черной машине, обозначенной литерами ДК, и разговаривал с другим господином – невысоким, с красным круглым лицом, с усиками и в пенсне. В нескольких метрах от того места, где стоял автомобиль, дорога разветвлялась – прямо шла широкая, влево сворачивала узкая.