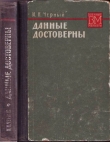Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
– Слушаюсь! – вырвалось у Бурды. Он повернулся и, пошатываясь, как пьяный, побрел к двери, пробормотав на прощание: – Значит, все кончено…
Бек посмотрел на него, отвернулся и закашлялся. Щеки у него тряслись, огромный нос покраснел. И, вытянув палец, не то угрожая, не то приказывая закрыть дверь, он долго кашлял.
Окончательно убитый этим жестом, Бурда вышел. Город был затемнен. Машина буквально ощупью пробиралась эти несколько шагов до президиума. Славоя не было. В затемненных душных залах, как тени, бродили директора, советники, референты. Какие-то двое старших по чину пристали к нему, настойчиво домогаясь какой-то инструкции. Он грубо оборвал их:
– Декрет о гражданском комиссаре готов? Ну, так чего они тут болтаются? Назначить дежурных, а остальные – спать.
Не совсем еще ясно понимая зачем, заехал к себе. Хасько сидел в кресле у дверей кабинета, откинувшись на спинку, и храпел. Было около часу. Разбудил Хасько и спросил, какие новости.
Как это ни странно, новостей не было. Только из Главной инспекции вооруженных сил прибыло… распоряжение. Хасько удивительно быстро очнулся и сказал своим сладеньким голосом, краем глаза наблюдая за Бурдой – дошло ли:
– Слушаюсь, пан министр! Прибыло распоряжение, чтобы все коммюнике перед публикацией давали… на проверку. В смысле военной тайны…
Бурда смотрел на него, отлично понимая, что имеет в виду эта прилизанная голова. Странно, что он не почувствовал никакой обиды от нового доказательства вмешательства Ромбича в его дела. Хасько протянул разочарованно:
– Разумеется, пан министр, я принял это к сведению. Что мы сейчас можем сказать? Теперь слово за армией…
Бурде хотелось было дать щелчок по этому хитроватому носу. Но уж очень детскими показались ему сейчас интриги Хасько. И он только зевнул. От усталости подгибались ноги, но Бурда не сел, не сел потому, что чувствовал, что тогда уже не встанет.
– Слушайте, Хасько, – сказал он с усилием. – Я устал и поеду спать. Вы останетесь дежурить. Если будет что-нибудь важное, позвоните, понятно? А в общем, улаживайте все сами. Только если что-нибудь очень важное – звоните. Важное, понимаете? Действительно важное.
– Понимаю, – сказал Хасько. – Если, скажем, премьер или кто-нибудь из министров…
– Не валяйте дурака! – рявкнул Бурда. – Вы отлично понимаете, что теперь важно. И только в этом случае. Ясно?
Хасько стрельнул глазами. Он ничуть не растерялся и старался, чтобы Бурда точно сказал, какую важную новость он ждет.
– Бросьте корчить из себя дурака! – Бурда стукнул кулаком по столу и вышел.
На улице царила абсолютная темнота, казавшаяся еще гуще от того, что время от времени ее прорезал ослепительно белый свет автомобильных фар. Быстрые и тихие, словно ночные мотыльки, сновали по городу большие черные лимузины. Через Аллеи с Вислы двумя колоннами со скрипом и цоканьем копыт тянулась непрерывная процессия военных подвод. Пришлось несколько минут подождать разрыва в этом потоке, но вот машина шмыгнула, ревом предупреждая напиравшие слева конские морды. И снова лимузины и выхваченные светом фар фигуры на тротуарах. На площади Трех Крестов, слева, взвился к зениту длинный, тонкий, казавшийся голубым в этом звездном мраке луч прожектора.
В Уяздовских аллеях лимузинов было еще больше. Бурда смотрел на них, сонный и равнодушный. Им овладело такое отчаяние, что казалось даже странным, что он мог ударить кулаком по столу: как он дошел до этого? Скорее бы попасть домой, броситься на кровать и не думать, не думать ни о чем. Как хорошо, что приехала Скарлетт. Нужно ее подготовить к близкому эдему. Кажется, она на что-то злилась. Но это было так давно. Вчера утром. Нет, сегодня. Все равно, это было в том, далеком, давно прошедшем веке. Веке охоты в Беловежской пуще, сосен Юраты, согбенных спин чиновников, подобострастных шепотов, внимательных взглядов в закопанских кабаках. Это было в далеком, вчерашнем веке. Следовательно, у Скарлетт было время, чтобы все забыть.
Приказав шоферу оставаться в машине, он вошел в дом и на цыпочках пробрался через переднюю. Но Скарлетт не спала.
Гостиная и столовая были залиты ярким светом. По праздничному протертые и начищенные до блеска фарфор и хрусталь заполнили полки серванта. На круглом столике у окна красовалась большая японская ваза, полученная по наследству от деда Скарлетт. Того деда, из-под Житомира. В свое время он купил ее за несколько сотен десятин чернозема. Розовые и голубые самураи наклонили свои похожие на огурцы лысые головы, выставили кривые короткие сабли и размахивали полами расшитых золотом одеяний. Он смотрел на них и радовался их возвращению, что-то уютное и привычное было в их надутых и стилизованных позах.
Однако натешиться ими вдоволь он не успел. Из спальни вышла Скарлетт. В розовом халате, похожем на самурайское кимоно, она остановилась у дверей с воинственным, как у самурая, видом. Только у нее были пышные волосы, тщательно уложенные нежными маленькими колечками наподобие ионической капители. Хуже всего то, что она была совершенно спокойна.
Бурда не выдержал и попытался сразу перейти в атаку. Он был слишком измучен и поэтому пустил в ход самый серьезный аргумент, с тем чтобы ошеломить ее и заткнуть ей рот. А тогда можно будет лечь спать.
– Чего так смотришь? Я же не мог раньше, война…
Но она тут же перебила его и, сделав шаг вперед, набросилась с яростью:
– Ты думаешь, что я буду это терпеть? Мало того, что распутничал в мое отсутствие, так у тебя хватило еще наглости вызвать меня, а самому где-то всю ночь шляться? Ты думаешь, что я это тебе позволю? Скажи, который теперь час?
Он невольно взглянул на часы: был третий час.
– Как тебе не стыдно, золотко, в такую минуту…
– Это я должна стыдиться? Чего я должна стыдиться, скажи на милость?
– Дорогая моя Скарлетт, я еле на ногах стою…
– Еще бы! В твоем возрасте каждую ночь так беситься!..
Бурду охватила ярость, шагнув навстречу жене, он нервно крикнул:
– Война на носу! А ты… Надо потерять голову, чтобы…
– Война, ну и что же? Думаешь, если война, так можно распутничать? Вот это логика!
– Война, понимаешь?! Война! – Он схватил ее за руку и больно сжал.
Она вырвалась в бешенстве.
– Знаю, что война! Ты уже полгода меня пугаешь войной! Ну так что, что война? Не первая и не последняя. Война или не война, но я эти амуры из головы у тебя выбью! – кричала она. – Ты мне войной не прикрывайся!
Бурда повернулся к двери. В машину? Может, в министерство? Только бы подальше от нее. Но Скарлетт с быстротою лани загородила ему дорогу.
– Удираешь? Признаешься?
– Бога ради скажи: в чем?
– Я целую ночь ехала, целый день, как служанка, порядок наводила, а ты…
– Да успокойся же ты наконец!
Как бы не так! Она и не думала успокаиваться. Целый час длился этот обмен бессмысленными обвинениями. Супруги разбушевались не на шутку. Вот уже появились на божий свет все давно похороненные супружеские преступления. Шел четвертый час, когда она наконец бросила последнее, самое тяжкое обвинение – визит Нелли Фирст.
Бурда, однако, был слишком измучен, чтобы понять, что именно привело Скарлетт в такую ярость, и в свою очередь напомнил ей того молоденького уругвайского дипломата, из-за которого год назад она перегрызлась с Гостинской. В ответ на него была двинута целая лавина его секретарш, жен подчиненных, мимолетных курортных знакомств. Прошло еще четверть часа, еще полчаса. И вот наконец первый приступ рыданий:
– Я тут этот фарфор…
– Больно нужно… Больно нужно было его распаковывать. Именно сейчас, когда каждую минуту может…
– Ах так? Значит, фарфор тебе не нужен…
– Вот он где у меня! И ты, и он!
– Ах так? Значит, не нужен? – И дрезденская тарелка полетела на пол и со звоном рассыпалась на куски.
«Какая нелепость, какая нелепость весь этот скандал!» – мелькнуло у него где-то в мозгу, но, подхваченный стремительно нарастающей злобой, он только расхохотался:
– Идиотка, кухарка!
– Вот тебе за идиотку! – запустила она блюдцем в стену. Блюдце мягко треснуло, как яйцо. – А это за кухарку! – загремела она на всю квартиру, сгребла оставшиеся тарелки и, прихватив заодно тяжелую бронзовую пепельницу, швырнула на пол.
Он вскочил и схватил ее за руки. Выпучив глаза и побагровев, она извивалась и отбивалась изо всех сил и наконец, угодив ему коленом в живот, вырвалась, схватила вторую пепельницу и запустила в мужа. Бурда нагнулся. Раздался звон разбитого зеркала. Злость и страх обуяли его.
– Сумасшедшая! – подбежал он к ней снова.
– Прочь! – заорала она, размахивая хрустальным графином, как стилетом.
«Как нелепо! Зачем все это? Кому от этого лучше? Кто из нас двоих переубедит другого? Кого и чему это научит? Безумие, абсурд!» В голове мелькали разумные мысли, но больше всего ему хотелось схватить эту выдру, эту кухарку, эту идиотку, скрутить ей руки, бросить на колени, заткнуть подушкой ее крикливый рот, выпороть ремнем, дать коленкой под зад и выгнать на улицу. Да, на улицу. Именно там ее место.
От удара графином по локтю левая рука повисла, как парализованная. Он застонал и с еще большей яростью схватил ее за шиворот. Она рванулась, графин упал на пол, а Скарлетт подлетела к японской вазе.
– Только тронь меня, только тронь! – Она схватила вазу, и вся ее поза свидетельствовала о том, что она готова и ее швырнуть.
Под ногами противно скрежетали осколки разбитой посуды. Нервно хохоча, Бурда подбежал к ней:
– Кретинка! Сумасшедшая! Выдра!
Поднять вазу Скарлетт не могла, тогда она просто столкнула ее на пол. Мелькнули удивленные брови самураев, раздался сухой треск, словно лопнула электрическая лампочка. Бурда остановился.
В обезображенной гостиной, где начищенный до блеска паркет был усыпан осколками фарфора, они стояли, разделенные грудой черепков драгоценной вазы, и смотрели друг другу в глаза с таким удивлением, как будто только сейчас внезапно прозрели. После двух часов ожесточенной ссоры они, наверно, уже и не помнили, с чего она началась. Полминуты, минуту царила полная тишина. «Может быть, вазу удастся еще склеить», – подумал Бурда. Но ничего не сказал. Было очень тихо.
Так тихо, что они услышали, как в холле на маленьком столике словно что-то зашевелилось внутри черной блестящей коробки. Послышался звук, похожий на поспешное глотание слюны, как будто у телефона не хватало смелости сказать что-то ужасное. Бурда нахмурился – надо идти, взять трубку – и все же тешил себя иллюзией: а вдруг это просто так, случайно, может, вдруг это еще не…
Первым отважился телефон и затрещал отчаянно, бесцеремонно.
Часть вторая
1
С четверга на пятницу нес дежурство Маркевич. Сколько дней прошло со времени их приезда в Бабицы? Неделя? Трудно поверить. Что сохранилось от настроения первого вечера? Ни разу с тех пор не долетала до них, даже издалека, песня девушек. Ни разу они не видели хозяев, вполголоса беседующих возле хат. Даже собаки и те по ночам лаяли как-то по-иному, протяжно завывая. Неделю назад деревня встретила их очень сдержанно. А как здесь убого и уныло теперь, когда жизнь вокруг замерла.
Крестьяне притихли, это факт. Не то чтобы их тянуло куда-нибудь подальше от границы. Напротив, они боятся, как бы их не выселили – на главной магистрали, кажется, именно так и случилось. Здесь, в батальоне, тоже поговаривали о выселении, но Потаялло отсоветовал: какого черта гнать людей из такого глухого, медвежьего угла? Крестьяне не знают, что их решено не трогать, и на всякий случай предпочитают не попадаться на глаза, не беспокоить господ военных, не накликать на себя такую страшную беду, как выселение с насиженных мест.
Из батальона приходят все более неожиданные приказы и предписания. По всей границе, влево от Бабиц, в той стороне, где дивизия и дальше, каждую ночь внезапно поднимается пальба и так же быстро прекращается. Говорят, похитили нашего солдата в полукилометре от границы. А к нам прокрались два немца, дезертиры, ругают Гитлера. «Прощупывают, где у нас слабые места», – уверяет Потаялло. Поэтому он запряг в работу Шургота, держит людей в боевой готовности, однажды даже объявил ночную тревогу – солдаты натянули подштанники с небольшим опозданием против уставного времени; только один ефрейтор не явился по сигналу, и час спустя его вытащили из хаты какой-то вдовы. У Дуды после этого происшествия хватило запаса, пожалуй, на три унтер-офицерские проповеди.
В ночной службе есть свои хорошие стороны. Маркевич вместе с дежурным унтер-офицером обходит посты. Ночь темная, звездная и теплая. Лягушки… что для них инструкция из батальона, да и выселения они не боятся. Их кваканье позволяет ориентироваться: позиция третьего взвода – у болотца.
– Стой, пароль! – Рядовой Сек кричит по привычке.
Маркевич снова ему объясняет:
– Вполголоса, черт побери, почем ты знаешь, может, сзади ползет немец, высматривает, где ты стоишь, а потом пырнет тебя ножом между ребрами!
Каска, ремешок у подбородка. Глаза Сека едва видны в темноте. Черт побери, он и теперь ничего не понял.
Обход квартир. Перед сеновалами – дежурные. На глиняном полу – ровный ряд сапог. Сено и портянки, главным образом сено. В ночном дежурстве есть свои хорошие стороны. Обойдешь так вот все, что полагается, а потом вернешься в хату командира роты, сядешь возле телефона, закуришь. Долг выполнен. Судьба почти полутораста человек в надежных руках. Маркевич машинально взглянул на эти свои надежные руки.
Он вышел во двор: в хате душно, накурено. Дуда сидел допоздна – выписывал ведомости на солдатское довольствие. Провисшая крыша сеновала закрыла четверть неба. Собака заскулила и умолкла. Дверь хаты тихо затворилась, слабый ветерок пронесся по двору, распространяя едва уловимый аромат душистого горошка. Откуда Маркевичу знать, что впоследствии он будет искать в памяти эту минуту да так и не вспомнит?
Со стороны болотца раздались крики и залаяли собаки, три сразу, а то и больше.
Маркевич постучал в окошко:
– Дежурный, слетайте-ка узнайте, что за шум! Опять, наверное, Сек.
Капрал выбежал, оправил пояс, скрипнули доски у лаза в заборе. Собаки зашлись лаем.
Маркевич стоял, прислушиваясь. Кто-то бежал, тяжело хлюпая сапогами по размякшей земле сада.
Столкнулся с дежурным, несколько фраз слились воедино. Голоса приближаются.
Словно ток ударил Маркевича, прошел от ног к сердцу. Он кинулся к лазу. Не успел перевести дух, как оба солдата очутились рядом с ним.
Пограничник в круглой шапке, которая казалась теперь такой явно штатской рядом с касками пехоты, тяжело дыша, опирался на плечо дежурного.
– Немцы… – Секунды две он не мог перевести дыхание, как его ни тормошил Маркевич, пока не выдавил из себя снова: – Немцы…
Маркевич окаменел. Капитан, телефон. Телефон, капитан. Два эти слова сталкивались в его мозгу, как бильярдные шары, отскакивали друг от друга и снова сближались. Даже странно, что он все еще стоит на месте, уставился на раскрытый рот пограничника, терпеливо слушает его хрипение.
– Немцы… – снова повторил пограничник, как будто забыв другие слова.
Тут вмешался дежурный:
– Они что-то услышали…
– Немцы… движение в лесу… шум… – пограничник отпустил плечо дежурного, снял шапку, обмахнулся ею, – я побежал…
– Шум? – Маркевич дернул его за руку; как странно, он словно чем-то разочарован. – Кто шумит? Вы с ума сошли? Что они, орут? Черт вас дери, говорите!
– Громыхает вроде поезда, вроде грозы…
– Так чего же вы крик подняли? Немцы? Атакуют? Стреляют? Перешли границу?
Пограничник отрицательно покачал головой. И страх, который минуту назад парализовал Маркевича, нашел выход уже не в дурацком разочаровании, а в злости. Маркевич стремительно напирал на пограничника:
– Ну, без глупостей, без паники, по порядку.
И вот что в конце концов выяснилось из сумбурного рассказа пограничника. Примерно час назад они услышали отдаленный шум, не то грохот, не то стук. Пограничники удивились: в лесу всегда было тихо. Какого характера шум? Этого он не в состоянии объяснить. Грузовики? Нет, не то. Танки? Пограничник никогда не слышал, как идут танки. Маркевичу самому пришлось себе напомнить; однажды он слышал, как шла танкетка, в общем, похоже на грузовик, только чуть больше шумит. Значит, не грузовик? Да нет же! И не похоже, да и откуда в лесу? И это все?
– Такой глухой, такой далекий. Словно земля где-то дрожит. Я вместе с товарищем пошел в обход, как полагается по уставу, на двести метров от границы, кусточками. Уж мы слушали, слушали. Не прекращается, только будто ближе стало. Ну, значит… – он виновато кашлянул, – я и побежал…
Они стояли молча. Лаяли собаки: вдалеке – угрюмо, поближе – яростно. Маркевич бессмысленно смотрел на пограничника: что делать? Значит, не атака, не стрелковая цепь, не пулеметы… Какой-то шум, гул… Шургот, наверно, над ним посмеется!
Собаки лаяли нестройно, отрывистыми очередями. Одно мгновение, быть может секунды три, пауза в поднятом ими гаме. Пограничник рванулся, ткнул рукой в Маркевича:
– О-о… – Прислушался.
Маркевич уловил какие-то звуки, в самом деле напоминавшие шум поезда, только странно: то поезд будто далеко, потому что не слышно стука колес и пыхтенья паровоза, а то будто близко, потому что звуки очень уж мощные…
Собаки снова залаяли. Теперь, однако, Маркевич без труда улавливал тот же низкий непрерывный гул. Словно грохот поезда, но более сильный. Словно тысячи поездов идут где-то очень далеко. Или, вернее, словно один поезд, но гигантский, колеса у него десятиметровой высоты, а вагоны как четырехэтажные дома, и их не меньше пятидесяти.
Маркевич побежал, на ходу крикнув дежурному:
– Разбудить капитана!
В хате воняет махоркой. Ящик с телефоном. Маркевич вертит ручку, в телефонной трубке что-то попискивает и стонет. Он притопывает ногой. Алло, алло! В дверях пограничник. Керосиновая лампа с прикрученным фитилем. Алло! Маркевич снова вертит ручку. Вдруг в самое ухо раздается: «Семнадцатый слушает!»
– Говорит подпоручик Маркевич из седьмой роты.
– Мы не знаем подпоручика Маркевича, какой номер?
– Ко всем чертям номер! Важное сообщение…
Телефон опять онемел. Маркевич с минуту дергал ручку. Потом вскочил: дежурный должен знать номер. В сенях он столкнулся с дежурным.
– Капитан сейчас придет… велел капралу звонить…
Потаялло жил рядом. Часовые в сенях: «Пароль!» Ах, старая история, сокровища Потаялло! Капитан натягивает сапоги.
– Что стряслось?
Сообщение Маркевича встревожило его. Они вышли из хаты. Собаки немного поутихли.
– Как поезд, – повторил Маркевич.
– Как море, – сказал Потаялло, – когда большая волна, да?
Маркевич никогда не видел моря. Они поспешили к телефону. Капрал Низёлек доложил:
– Батальон предупрежден, дежурный офицер у аппарата.
– Алло! Говорит восьмой… – Потаялло провел рукавом по лицу. – Так точно, шум слышен и в деревне. Как-как? Есть: наблюдать и докладывать. Так точно, по команде батальона. Так точно, вышлют. Слушаюсь, ждем. Разумеется, без паники, разумеется…
Они снова вышли на улицу.
– Два тринадцать, – разглядел капитан на циферблате. – Это очень важно, теперь нужна точность до минуты. Потом в рапорте хо-хо что может получиться, если неточно указано время.
– Тревога? – неуверенно спросил Маркевич.
– Когда батальон даст команду. Вы слышали, подпоручик? Прежде всего без паники…
Шум усиливался, и спокойствие капитана рассердило Маркевича.
– Чего ждать, ведь ясно, что-то готовится, танки…
– Спокойно. Научитесь, подпоручик, бояться своих командиров больше, чем врага. Танки? В этом лесу? В пятнадцати километрах от шоссе, в двадцати от железной дороги? Мы уже это обсудили…
– Тогда что же?
– Пес его знает… Но в батальоне лучше разбираются… Низёлек!
Капитан приказал капралу проводить пограничника до его поста, осмотреться и вернуться назад. Пограничник попытался увильнуть, сердце у него, мол, болит, просил отложить до утра; пришлось на него прикрикнуть.
Они стояли и слушали, как удаляются шаги капрала и пограничника. Медленно, незаметно, неотвратимо продолжал нарастать грохот. Капитану Потаялло хотелось пойти и снова лечь, но он не тронулся с места, словно усиливавшийся шум сковал его движения. «Ожидание тянется вечность, даже странно, что еще не светает», – думал Маркевич. Они курили сигареты. Наконец Маркевич не выдержал:
– Капитан, с Низёлеком что-то случилось, нужно послать патруль…
– Два сорок, – пробормотал Потаялло, – он еще не успел, туда ведь километр с лишним…
Значит, не прошло и получаса? Маркевич в отчаянии не отступал от капитана:
– Выйдем хоть за деревню, к болотцу.
Пошли, перелезли через забор, подались немножко влево. Сек крикнул так же громко, как и прежде.
Здесь, меньше заглушаемый собачьим лаем, гул слышался отчетливей. Позади собаки выли отвратительно, протяжно, поближе каждая лаяла по-своему, сливаясь с общим хором. А прямо напротив них, будто в черной, усеянной яркими звездами гигантской раковине летнего театра в парке, что-то гудело все сильнее. Ночь была насыщена звуками, и Маркевич тщетно пытался установить, какая часть горизонта охвачена гудением, он даже приблизительно не смог бы сказать: центр, левая или правая сторона. Все, – казалось, все что простирается перед ними, дрожит от грохота.
Потаялло забыл о приказе из батальона. Помявшись, он спросил:
– Не разбудить ли все-таки роту?
– Что это такое, капитан? – волновался Маркевич, заметив замешательство Потаялло. – Как это? Вы были на той войне и ничего похожего не слышали?
– Может быть, самолеты? Может, у них аэродром неподалеку от границы? Разогревают моторы?
– А может, газы? – Маркевич был полон сомнений.
– Газы? – Потаялло сплюнул, сделал движение, будто собирался перекреститься, но всего лишь закурил. – Газы не шумят.
– Тише!
Низёлек тяжело дышал. Его рапорт ничем не отличался от того, что сообщил пограничник, и от их собственных ощущений. В лесу готовилась какая-то адская штука. Единственная новость – в ужасном, неравномерном шуме удалось уловить отдельные элементы совсем уж непонятного гула.
– Будто бык ревет, – уверял Низёлек, – только какой-то такой…
– Что с пограничником? Вы нашли их патруль?
– Черта с два, пан капитан. И тот солдат, что сюда прибегал, весь трясся, когда я уходил… Они, верно, все через кусточки да полями удрали. И наш наверняка сюда тащится за мной следом…
– Надо доложить в батальон, пан капитан, надо тревогу…
– Два пятьдесят пять. Идемте!
Батальон не отвечал. С каждым новым поворотом ручки аппарата голос капитана звучал все более раздраженно. Теперь он кричал, и его крик действовал Маркевичу на нервы.
– Дьявол, алло, алло, семнадцать, чтоб вас!.. Алло…
– Верно, линия повреждена…
– Алло, мать вашу…
– Может, связного послать?..
– Катись ты… десять километров!.. Алло…
Он поперхнулся, треснул кулаком по аппарату так, что свалил его на пол.
– Низёлек!..
– Слушаюсь, передать донесение, принести приказы.
– Может, все-таки объявить тревогу?
– Разрази вас гром! Тревога!
Они выбежали все трое. Потаялло еще объяснял Низёлеку маршрут – тропкой через поля. А Маркевич уже помчался к взводам. Его собственный – пятью хатами дальше. Взвод Водзинского – в нескольких шагах. Пятнадцать минут на сборы, черт, успеют ли? А разве я не говорил, разве не говорил? Сразу нужно было, тогда, до того, как на болотце… У нас все было бы в порядке, взводы на позициях, пулеметы… Он подгонял себя этими упреками… Пискорека – в первый взвод, Дуду приходится тащить за уши из постели, он упирается, ворчит:
– Первая декада сентября, я как раз подсчитывал… Ему хоть воду лей на голову – не проснется…
– Три пятнадцать! – Потаялло в бешенстве. – Двадцать… Где взводы?
Если бы выиграть еще хоть десять минут, прежде чем начнется! Пять – построиться, команда, еще пять – марш, занять позиции…
Водзинский здесь. Третий тоже. От Шургота связной. Потаялло беснуется:
– В тюрьму, морду раскрою! Кто разрешил? Двадцать пять минут вам надо, чтобы вонючие подштанники застегнуть?
Он орет уже минут пять, и у Маркевича сердце замирает от страха: каждая секунда идет в счет, сто или двести метров до болотца, позиции еще не заняты.
И когда наконец бешеные вопли капитана переходят в крикливую команду: «На позиции, стрелять по сигналу зеленой ракеты!» – Маркевич больше не ждет. Одновременно с командой «кругом марш» он, как мяч, подброшенный ногой, летит к темной группе людей у соседнего сеновала:
– Нале-е-во! Левое плечо вперед, марш! За мной бегом, марш!
Небольшое замешательство возле лаза, кто-то с треском ломает доски, наконец мягкий, чавкающий топот. Вот и песчаный холмик.
Еще несколько минут. Пулемет? Ящики с боеприпасами? Надо расставить стрелков через каждые пять метров. Стрелять по моей команде! Сторожевые посты!..
Какое облегчение: наконец-то можно спрыгнуть в ров, прижать горячие руки к холодному сыпучему песку, подумать: мы успели. Ну, теперь мы не боимся…
Чего? Последние полчаса пролетели как одна минута, пришлось подгонять взводы, собирать вещмешки, патроны. А теперь можно вернуться к первопричине, вызвавшей этот переполох. В чем она?
Сначала он думал, что усталость и собаки мешают ему слушать. В особенности усталость – кровь, которая стучит в висках. Потом мелькнуло дурацкое предположение: оглох? Да, дурацкое, ведь собачий лай он слышит…
А гул, доносившийся из-за леса, шум, грохот, сотрясение земли прекратились. Солдаты в окопе вполголоса о чем-то переговаривались. Забеспокоившись, он вылез, побрел к болотцу, перепрыгнул через ручеек. Там здорово подсохло; прошел вперед, метров триста. Сторожевые посты на месте. Михаловский, цыган, разумеется, стоит как ни в чем не бывало. Маркевич приказал ему лечь, замаскироваться.
– Да кругом темно, хоть глаз выколи, кто меня там…
– Ложись!
– Роса, пан подпоручик…
– Не рассуждать, ложись, чтоб тебя…
Впереди темень. Чернота дальнего леса, днем такая отчетливая, теперь сливается с чернотой земли, а от неба она отличается только тем, что ей недостает нескольких звездочек. Собаки остались довольно далеко позади. Тишина.
Маркевич пошел вперед, предупредив Михаловского, что вернется этой же дорогой, и попросил его без команды не стрелять. Он шел, как в детстве, назло себе. Потому что теперь у него даже руки одеревенели от ощущения одиночества и затерянности. Мир всей его убогой жизни – от Красного через Варшаву вплоть до Бабиц – остался позади. Перед ним новый мир, незнакомый, недавно гудевший, а теперь притихший. А сам он оказался где-то посредине.
Как в далеком детстве. Светлая комната, мать сидит у стола, за окном осенняя унылая ночь. Дверь в сени. За ней начинается тьма. Так уютно и привычно здесь возле матери, возле стола, возле лампы. А сени грозные, чужие, страшные. Почему его так тянет к двери? А когда подойдет к ней, хочется ее приоткрыть. А когда приоткроет, выйти и обязательно еще захлопнуть ее за собой. Потому что только тогда возвращение в комнату, к свету и матери становится таким поразительно приятным. Только тогда чувствуешь привычную близость стола и лампы.
Он стоит где-то между самыми дальними сторожевыми постами и лесом. Впереди незамутненная тишина.
Еще сто шагов. Темнота и тишина. Он опускается на колени, ложится, вертит головой, стараясь разглядеть, не всплывает ли на фоне неба что-то еще более темное. Ничего.
Еще… Сколько шагов? Пятьдесят? Сосчитав до тридцати, он вдруг испугался: а не граница ли уже? Впереди и справа как будто шорох. От страха у Маркевича свело челюсти. Он пятился, чтобы следить за этой незнакомой темнотой. Потом не выдержал, повернулся и пустился бегом в ту сторону, откуда доносился лай.
Сторожевой пост. Вот она, дверь в комнату его детства. Болотце, прыжок, песчаный холм.
– Ну и смельчак вы, пан подпоручик! – Это Цебуля. – Пускаетесь в такую темень одни!
Маркевич присел в окопе, снял каску и вытер лоб. Скрытый упрек в голосе Цебули подействовал на него особенно успокоительно. Здесь, в окопе, все свои. Позади деревня, за деревней батальон, за батальоном вся страна. А впрочем, впереди тоже не только лес, гул, темнота, впереди еще и сторожевые посты.
Он предавался размышлениям с четверть часа, пока не пришел Потаялло. Капитан отвел его в сторону.
– Черт, телефон испорчен. Я послал проверить линию. Низёлек не возвращается…
– Но тут спокойно. Прежнего шума…
– В самом деле…
– Я прошел за сторожевые посты. Немцы ни гу-гу. Может, вы и правы, пан капитан, может, они разогревали моторы самолетов?
Потаялло что-то пробормотал, слова Маркевича, казалось, ни в чем его не убедили.
– Самое важное то, что мы заняли окопы. Пулеметы на огневых позициях.
– Свинство, – проворчал Потаялло, – почему мы не поставили проволочные заграждения? В соседней дивизии все предполье… Высокие – для пехоты, низкие и широкие – для кавалерии. Правда, это слева, на главной трассе, – тут он понизил голос, – там даже минные поля! На танкоопасных направлениях!..
Маркевич тоже забеспокоился: почему нет проволочных заграждений? Потаялло дал ему несколько практических указаний: предупредить людей, чтобы, упаси боже, не стреляли без команды (пулемет пулеметом, а обыкновенный залп тоже имеет свое значение), за боеприпасами посылать по двое, на случай, если, не дай бог, одного ранит.
– Три сорок восемь, – продолжал капитан. – Еще два часа до рассвета. Пес ее знает, может, ложная тревога? Шургот тоже посылал патруль к самой границе – ничего не заметили. Держитесь…
Маркевич держался еще час. Впрочем, ему казалось, что прошло много часов. Возбуждение, страх, чувство привычного окопа – все это расползлось, растаяло от мучительного ожидания. Какой-то момент он попросту проспал. Разбудила его холодная капля – роса садилась на каски. Маркевич вскочил, словно началась атака.
Звезды исчезали. Слева, на востоке, прозрачная синева неба сменилась мутноватой голубизной. Впереди поле посерело, горизонт по-прежнему черный – лес. Холодно.
Маркевич вскочил, стуча каблуками, потер руки, чихнул. Солдаты спали сидя, опустив головы на руки, на колени, откинувшись назад. Рты у них полуоткрыты, лица побелевшие, мертвенные. А Пискорек попросту растянулся на дне окопа. Совершенно тихо: даже собаки, измученные тревогой, умолкли.
Маркевич двинулся по окопу. Только пулеметный расчет был на ногах: Яронь, наводчик, рослый блондин из-под Грудзёндза, и Коза, помощник наводчика, веселый белорус из Несвеского. Коза, как всегда, шутливо приветствует подпоручика – что-то сострил по поводу своей фамилии. Маркевич хлопнул его по плечу.
Он шел, согретый веселым словом Козы, и смотрел на спящих, в неприютной окопной обстановке вспоминая все, что знал о них, чтобы укрепить охватившее его ощущение близости с этим маленьким человеческим коллективом, ощущение теплоты домашнего уюта, чтобы найти в нем опору против поднимающейся неясной угрозы, чтобы забыть о ней.