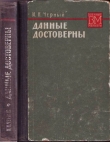Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 35 страниц)
4
О войне они узнали не по грохоту бомбежки, стрельбе, тревожным звонкам телефона, нервным жестам или испуганным крикам. О войне они узнали по тишине, И как раз нарастание тишины и убедило их в том, что война на самом деле разразилась.
Не слыша утренней суеты в коридорах, они начали посматривать на дверные глазки: крышки глазков не двигались, словно их привинтили наглухо. Тогда заключенные попытались выглянуть во двор или по крайней мере вслушаться в тревожную тишину. Более выдержанные шикали на нетерпеливых, которые уже десять секунд спустя кричали: «Никого нет, надзиратели сбежали!» Стиснув от волнения зубы, все ждали минуту, две. Чирикнул рассеянный воробей. Дворы молчали. Тогда в камерах разгорелись споры.
Кальве сидел вместе с Кригером и Сосновским. Вальчак со дня приезда – после памятного митинга – находился в карцере. Один из товарищей по камере, ченстоховский текстильщик Баран, простояв несколько минут у двери, торопя события, заметил чересчур решительным тоном:
– Никого нет, надо ломать двери!
– Погоди! – тотчас вмешался Кригер. – Надо обдумать, обсудить.
– Какие там обсуждения! – не выдержал Баран и совершил новую оплошность: – Тебе бы только заниматься дискуссиями!
– Что за упреки! – вспыхнул Кригер. – Я должен поставить вопрос принципиально! Это анархия, разве можно так, не обсудив…
– Вопрос, кажется, ясный, – рассудительно заметил Сосновский. – Действительно похоже, будто охрана покинула тюрьму.
– Ничего не ясно, ничего не похоже! – кипятился Кригер. – А может, это ловушка? Провокация? Именно для того, чтобы вызвать таких сумасбродов, как вы, на скандал и потом всех перестрелять за бунт!
– Тоже возможно, – миролюбиво согласился Сосновский. – Действительно, и это не исключено…
Кальве не без труда прервал принципиальный спор на тему о бланкизме, который тем временем затеял Кригер, обвиняя Барана, ошеломленного его нравоучениями, в анархо-синдикалистском культе прямого действия. На Кригера, как известно, не влияли никакие аргументы: против каждого довода он умудрялся выдвинуть с полдюжины собственных, еще более неопровержимых. Только когда Кальве подошел к окну и стал расспрашивать остальных заключенных, не слышали ли они случайно чего-либо ночью, и когда возле Кригера никого не осталось, он быстро успокоился и тоже присоединился к Кальве.
Вскоре выяснилось, что именно Кригер, плохо спавший ночью, слышал беготню во дворе и какие-то крики. Изнуренный многими годами тюрьмы украинец Мельник подтвердил: уже под утро что-то кричали, кого-то торопили.
Вопрос в самом деле становился ясным. Кальве подошел к двери, приоткрыл пальцем глазок и крикнул:
– Товарищи!
По коридору прокатилось эхо.
– Товарищи! – повторил Кальве. В гудящей каменной тишине коридора щелкнули железные крышки глазков: в других камерах тоже слушали.
– Товарищи! – в третий раз крикнул Кальве. – Тюремная охрана, кажется, сбежала. Мы должны это проверить! Давайте потребуем завтрак!
Он ударил ладонью по кованой двери, у него получилось слабо; сзади подбежали двое заключенных помоложе и принялись колотить в дверь каблуками. В промежутках между ударами слышен был стук в других камерах: слова Кальве туда дошли.
Варан бил в дверь, а Кригер, теперь уже горя от возбуждения, орал в окно:
– Давайте потребуем завтрак! – и стучал через решетку по деревянной ставне. Шум все нарастал. Если бы даже кто-нибудь из стражников подал голос, заключенные уже не расслышали бы.
– Пожалуй, мы шумим минут десять. – Кальве созвал летучее совещание посредине камеры. – Все ясно: убежали. Пора предпринять действия на более высоком уровне.
– Правильно! – крикнул Баран, – Ломать дверь!
Кригер не возражал. Заключенные подняли скамейку, раскачали ее, стукнули ею в дверь. По коридорам прокатился гул, и на мгновение крики затихли.
– Ломать дверь! – крикнул Баран и во второй раз загремел скамейкой.
Теперь все здание сотрясалось от нестройных, нарастающих ударов. Со звоном где-то разбилось стекло. В дальнем конце справа родилась песня и перебегала из камеры в камеру, подступая все ближе. Баран, трудившийся вместе с тремя молодыми товарищами и Кригером, зачарованный ритмом ударов, ухал при каждом взмахе, как дровосек. Осыпалась штукатурка.
Двери не поддавались, и ярость заключенных все возрастала. В камере кружилась пыль. Кригер только теперь понял, что означает эта тишина, эта пустота, это бегство и как важна сейчас каждая секунда. Растрепанный, вспотевший, он старался колотить в дверь еще сильнее, подгонял Барана, неистовствовал.
Не сразу они расслышали новые звуки в чудовищном грохоте. Не Мельник ли это цыкнул, приложив палец к бледным губам, насупив землистое лицо, напряженно щуря ввалившиеся глаза? В других камерах их коридора еще колотили в двери, песня неслась дальше и выше, а они притихли.
В первом этаже тоже шум, но совсем другой – топот, крики. Неужели вернулась охрана? А может, немцы, стоявшие у границы, в нескольких километрах от города, воспользовались тем, что все ушли, и уже очутились здесь? И эта мысль у них мелькнула: вот растерянные глаза Кригера, капли пота на лбу, и волосы, кажется, еще больше поседели. Все молчат и слушают.
Слушают и в остальных камерах. Как полчаса назад шум, подобно пламени, перебрасывался из одной камеры в другую, так теперь распространяется тишина. Пение внезапно оборвалось, в конце коридора последний раз ударили в дверь, потом все умолкло.
Топот и крики приближаются, растут, поднимаются по лестнице. Теперь каждая секунда может решить их судьбу. Галдеж, все голоса сливаются. Когда же наконец удастся различить в этом гаме хоть одно внятное, осмысленное слово?
Первое такое слово объяснило им все: «Товарищи!»
– Товарищи! – кричал человек в коридоре. – Спокойнее! У нас ключи! – В доказательство он потряс ими, и ржавое лязганье прозвучало для заключенных как нежный серебристый звон колокольчика.
Снова пение, одновременно во всем коридоре. «Вставай!» – настойчиво напоминала песня о бое, который их ждет; песня словно опасалась, что кому-либо из них счастье свободы покажется мирным покоем.
Заключенные инстинктивно встали навытяжку и так и стояли и пели, пока им не открыли дверь. Кто-то бросился к человеку в серой тюремной одежде, державшему ключи, кто-то обнимал его, кто-то пожимал его руку. Он вышел на свободу раньше их, быть может, всего минут на пятнадцать, но этого оказалось достаточно, чтобы он держал себя с несколько суховатой деловитостью.
– Оставьте, отпустите меня! – крикнул он. – Другие ждут!
Он побежал дальше, гремя ключами, а они устремились вниз. Открытые камеры уже опустели, правда, некоторые заключенные еще копаются в сенниках, в тайниках под подоконником, извлекая оттуда спрятанные сокровища, не понимая, как мало стоит на свободе самое ценное из их тюремного имущества – несколько спичек, иголка, горсточка стертой в порошок махорки.
Во дворе их встретил Вальчак. Кальве, тяжело дыша, остановился рядом, он улыбался и ловил воздух, чтобы успокоить сердце, сильно бившееся и от быстрой ходьбы и от радости. Карцер не пошел на пользу Вальчаку: он был бледен, под глазами образовались синие мешки. Только глаза выдержали испытание.
– Сядь, отдохни! – властно сказал он Кальве. – Не трать напрасно сил.
– Надо как-то организовать наш уход, – пробормотал Кальве и, полузакрыв глаза, сел на цементные ступеньки.
– Без тебя справятся.
– Надо проверить одиночки, карцеры, не пропустить бы кого-нибудь…
– Карцеры проверены, откуда бы я взялся?
– Канцелярия…
– Правильно. Я пойду туда. Идем, Витольд! – обратился он к Сосновскому.
– Ищите документы. Надо раздать людям…
– Сиди, отдыхай. Ночевать здесь не будем. Самое большее через четверть часа двинемся.
Двор наполнялся заключенными, мгновенно возникали шумные сборища, каждый из тех, кто шел решительным шагом, увлекал за собой других, тоже жаждавших немедленно действовать. За Вальчаком пошло несколько десятков человек. Дорогу преградили ворота между двумя дворами, несколько решеток, отсекающих отдельные коридоры, – их еще не успели открыть; пришлось вернуться, позвать того, у кого были ключи.
В канцелярии пусто. Дверца железного сейфа распахнута, на окрашенных в зеленый цвет запыленных полках сохранились более темные прямоугольники без следов пыли: здесь недавно еще лежали кипы бумаг, но они исчезли.
– Черт возьми! – крикнул кто-то. – Они унесли наши документы!
– Ищите в ящиках. Проверьте стол! – Вальчак с тревогой оглядел низкую, мрачную комнату: шкафов нет!
Из стола вырывали ящики. Летели бумажки: врачебное свидетельство, разрешение на отпуск для охранника, требование на ячневую крупу и соль.
– Витольд, просмотри это. Перед уходом сожжем.
А сам Вальчак двинулся дальше. Дверь из канцелярии вела в кабинет начальника тюрьмы. Убогое подобие роскоши: на окнах портьеры, слегка потертое кресло. А на аккуратно прибранном письменном столе – ровная стопка листков бумаги.
Вальчак кинулся туда, словно заранее зная, что это означает. В разграфленные рубрики вписаны имена: Аронсон Лейб, Азалевич Виктор, Баран Мечислав. Параграфы 93, 96, 97. И чтобы не оставалось никаких сомнений, сверху сделана надпись, подчеркнутая красным карандашом: «Список политических заключенных дисциплинарной тюрьмы в Козеборах на 1. IX. 1939 г.».
С минуту он постоял молча. Молчали и остальные, заглядывая через его плечо. Кто сказал, будто каждая подлость врага делает нас смелее? Хорошо знать, что борешься с негодяями, но доказательство их подлости, пусть и не принесшей реальных плодов, не доставляет нам удовольствия.
В канцелярии Сосновский все еще копался в бумагах.
– Пока что нет наших документов. Еще ящик…
– В печку, жгите бумаги. Может, там есть сведения о ком-нибудь из нас, зачем гитлеровцам знать?
Вспыхнул огонь, запахло дымом; заключенный, возившийся у печки, закашлялся. Плохо горели заказы на ячневую крупу и отпускные свидетельства. Вальчак не стал дожидаться.
Во дворе было полно людей. Кальве уже встал, его окружила группа недавних узников, он что-то говорил не торопясь и негромко и обрадовался, увидев Вальчака. Из-за угла выбежал Кригер.
– Идем, немцы…
– Где? Что? – Вся группа повернулась в его сторону.
– Сказали люди, которые стоят у ворот, – Кригер заметил Вальчака и Кальве, – идемте же, хватит…
– Гражданская одежда на складе!.. – крикнул кто-то, но от ворот снова прибежало несколько человек, они торопили остальных, а еще кто-то сказал, что склады не то пустые, не то их забаррикадировали, словом, все двинулись к выходу.
Свобода! В каком странном, величественном и вместе с тем грозном обличье предстала она перед Валъчаком! Толпа в серых халатах выходила из ворот. Запыленная придорожная зелень. Поодаль первые хибарки города. И где-то справа, к югу, за тем пригорком, за дикой грушей, за пятью километрами стерни затаилось, а быть может, уже двинулось на них новое рабство, еще более тяжелое, смертельное.
Вальчак взял Кальве под руку, попытался прибавить шагу. Иногда во сне привидится, будто ты убежал из клетки, выломал решетку, вышиб стекло – и вдруг свободное пространство, к которому ты рвался, оказалось тоже замкнутым. Вальчака преследовало это назойливое сравнение: как во сне, он хотел поскорей выбраться из опасной зоны, избавиться от угрозы, надвигающейся из-за стерни, окутанной голубоватой дымкой зноя, и, однако, не мог слишком решительно тянуть за собой Кальве, боясь, как бы тот не почувствовал, что задерживает их, и не захотел бы доказать свою героическую стойкость, после чего бог знает что сталось бы с его больным сердцем.
Вальчак оглянулся. Заключенные мало-помалу их обгоняли. На улицах ни души. В учреждениях с красными официальными табличками у входа пустые окна и распахнутые двери; скорее угадываемая, чем услышанная, тишина говорит о недавнем поспешном бегстве. На рынке – несколько подростков и закрытые лавки. Вальчак искал дорожные указатели на Калиш, Лодзь, Варшаву: сохранились только столбы, таблички вырвали «с мясом».
Откуда-то взялись мальчишки. Словно привлеченные барабанным боем, они бежали или шли, разглядывая людей в арестантской одежде, но держались поодаль. В окнах над лавочками появилось несколько лиц: не удрали, притаились Козеборы. Кальве тоже это заметил.
– Знаешь что… – начал он, и Вальчак сразу понял.
– Разумеется, надо что-то сказать людям.
Толпа в серых выцветших халатах заняла четверть площади рынка. Вальчак и его спутники были в самом конце. Вальчак видел перед собой худые, лысоватые, стриженые затылки. Без бумаг, без денег, без гражданской одежды, оставленные одним палачом на расправу другому. Горстка людей между двумя жерновами фашистских государств. Горстка людей и этот город, как и они, отданный смертельному врагу. Об этом, об этом нужно им сказать. Для того чтобы сбежавшиеся сюда, глазеющие на них мальчишки, эти головы, высовывающиеся из окон, этот человек, застывший в воротах, эти женщины, отважившиеся показаться на тротуаре, не ошиблись, разглядели уже в этот страшный день, быть может, еще далекую, но неизбежную минуту, почувствовали в толпе истощенных, измученных людей силу, которая когда-нибудь поможет им вернуться с победой.
Странный это был митинг. Первые слова Вальчака прозвучали как магическое заклинание и вызвали из затихших домов уже не десяток, а несколько сотен людей. Они слушали его пятиминутную речь, вглядываясь в него, желая уверовать в ту крупицу надежды, которую он в них вселял. А в задних рядах и заключенные и горожане оглядывались по сторонам, оборачивались, смотрели, прислушивались, не приближается ли неведомая опасность с пограничной полосы.
5
В первую ночь Фридебергу не дала выспаться война, вытащила его под утро из постели зевающего, дрожащего, а во вторую ночь его сон нарушила ставка. Едва только он вздремнул в кабинете на диванчике, измученный бесчисленными делами и обязанностями, как Минейко дернул его за руку.
Содержание телеграммы быстро привело его в чувство: ему надлежит принять командование оперативной группой «Любуш», получить инструкции в штабе резервной армии «Пруссия», доложить исполнение.
В телеграмме не было указано, кому передать командование этапными пунктами, как со вчерашнего дня называлась его работа. Эта неясность предоставляла широкую свободу действий при выполнении приказа. Другой на его месте раздумывал бы несколько часов, а потом запросил бы ставку, сутки ждал бы ответа, опять обнаружил бы какую-то неясность и выторговал бы себе несколько дней.
Иное дело Фридеберг. Ему хватило получаса на то, чтобы разыскать полковника из мобилизационного отдела, теперь старшего по чину, передать ему скорее символически, чем практически, свои обязанности и все полученные им пока еще скупые приказы из их армии, вторые полчаса ушли на то, чтобы раздобыть автомобиль с шофером и бензин, захватить чемоданчик с бельем, бутылку старки, пистолет. Фридеберг уже садился в машину – с ним прощался на крыльце еще не вполне очухавшийся полковник, – когда вспомнил, что каждому командующему полагается иметь своего если не начальника штаба, то по крайней мере начальника оперативного отдела. Своего, то есть такого, который сумеет на лету подхватить любую мысль командующего и который свяжет свою судьбу с его судьбой, а это значит, что Фридеберг будет застрахован против всяких интриг.
Поиски такого офицера заняли несколько часов, пока выбор Фридеберга не пал на майора Балая, маленького, с крысиной мордочкой, с большим носом и в очках. Майор, несомненно, был человек просвещенный, но чрезмерного восторга в связи с новым назначением и предстоящей экспедицией не проявил: пришлось его ждать, поторапливать, наконец послать Минейко, чтобы он своим крепким коленом придавил непослушную крышку чемодана Балая.
Ворчливый веснушчатый капрал Гамрак, шофер (он же ординарец), в последний раз осматривает покрышки, садится, включает мотор. Часовой в воротах берет «на караул». Все сошло гладко, несмотря на то, что майор так долго волынил. У Фридеберга на несколько секунд сжимается сердце: как-никак, он уезжает из своего дома. Одинокого после смерти жены, но все-таки дома. Здесь повседневная скука искупается повседневным комфортом. Здесь с тобой считаются, уважают тебя, слушаются. Все прочно налажено, устойчиво. А теперь он едет в неизвестность.
Утро прояснилось, в предместьях цветы; шоссе в польских условиях вполне сносное, и радость, подобно солнцу, побеждает в душе Фридеберга. Он сказал себе: автомобиль – это тот же дом, и, быть может, даже более уютный, чем квартира в крепости. Трое известных ему, преданных людей. Он словно собрался на прогулку. Мрачный повод поездки не слишком тревожил его, скорее варшавские закулисные махинации вызывали у него беспокойство, смешанное с удивлением. Почему там десять дней медлили с его назначением?
– Минейко, подгоните-ка шофера, что это такое, сорок километров в час!
Минейко, Минейко… Действительно, Фридеберг не сдержал слова, данного Бурде, но почему они так тянули? Впрочем, Бурда сам мог бы ему напомнить… И вообще, что это значит? Ему передают оперативную группу уже в ходе военных действий! Ничего он о ней не знает: где она находится, сколько насчитывает дивизий? Штаба нет… Плохо, плохо… Только, по сути дела, это мелкие неприятности. Какое они имеют значение по сравнению с тем, что исполнилась мечта всей его жизни? Наконец-то командовать! Черт подери, он согласился бы командовать взводом, лишь бы не возиться с бумажками, подштанниками, консервами…
Машина ускоряет ход, обгоняет колонну конных, обозов, мелькают черные вспаханные поля; под отчаянное кудахтанье всполошившихся кур они минуют деревушку, Балай нервно хватается за переднее сиденье, и Фридеберг окончательно приходит в хорошее настроение. Он доволен еще и потому, что со вчерашнего дня вообще перестал надеяться…
Восемь. Они едут час с небольшим, а уже отмахали пятьдесят километров. В Кельцах они справятся о месте расположения армии «Пруссия». «Еще двести километров – видимо, будем там около часу. Пообедаем».
Размышления более общего порядка. «Значит, Гитлер, все-таки не блефовал вопреки заверениям Бурды. Гм, ничего не поделаешь, мы покажем маневренность, подвижную оборону. Он не успел вышколить свою пехоту, это не шутка! Без унтер-офицеров, без офицеров… Любопытно, каковы итоги первого дня? Жаль, что я не дождался сводки, впрочем, глупости, узнаем обо всем в Кельцах». Потом в голове мелькнуло несколько пестрых картин… Дремота, убаюкивающая быстрая езда, неполное пробуждение при резких поворотах и отчаянных автомобильных гудках.
Так прошло время почти до часу. Машина остановилась. Минейко хлопнул дверцей: он до хрипоты спорит с человеком, который в ответ только машет руками.
– Майор, – зевнул Фридеберг, – наведите порядок.
Балай неохотно вылез и вскоре возвратился.
– Дороги нет, мост сгорел после налета.
– Где мы находимся? – вздрогнул Фридеберг.
– Проехали Сандомир.
Фридеберг вздохнул, испугавшись того, что они застряли у самой Вислы. Минейко с виноватым видом заглядывает в машину.
– Надо возвращаться, в объезд на Завихост. Что делать?
Балай нервно ерзает. Висла у Сандомира ярко сверкает на солнце. Над городом дым. Балай объясняет, что перед самым их приездом была сильная бомбежка. Они сворачивают влево, машина тащится медленно, останавливается, пропускает фургоны; пыль над дорогой висит неподвижно, хочется пить.
В три часа их снова задерживают: не помогает генеральский мундир. Впрочем, Фридеберг сам видит: за лесом дым, самолеты, тяжело разрываются бомбы.
– Островец, – говорит Балай. – Заедем в лес…
– Какой там лес! – негодует Фридеберг. – Поворачивай назад!
За шумом мотора ничего не слышно. Только с горки виден паром, мостик, длинный ряд подвод, люди, разбегающиеся в поле, как мухи, которых вспугнули, хлопнув в ладоши, и дым, взвивающийся над землей. На высоте двадцати метров дым собирается в черную кудреватую тучку, а потом снова и снова возникает множество клубов. И с опозданием в четверть минуты следуют удары грома.
Визжат покрышки, дверцы машины открываются на обе стороны, все выскакивают – Фридеберг и сам не понимает, что его заставило вылезть и карабкаться в гору, хватаясь за колючие корни, ползти между кустами следом за резво мелькающими подметками Балая.
Вечером они сидели в лесной сторожке, в штабе одной из дивизий армии «Пруссия». В двадцати километрах к северу горел Островец. Командир дивизии полковник Закжевский метался между полевым телефоном, стоявшим у окна, и дверью; подбегали связные, а с мансарды по лестнице топал тучный подполковник, начальник штаба.
– Я сказал, черт подери! – кричал Закжевский. – Сегодня в двадцать два ноль-ноль выйти в район Келец. Приказ главнокомандующего, черт подери!..
– Обозы увязли у Опатува, пан полковник! Майор Тыманек со своим полком не вышел из Сандомира…
– Плевал я на Сандомир, у меня приказ главнокомандующего… Тыманека отдам под суд… Что с переправой под Михалувом?
– Наводят, пан полковник, наводят…
– Наводят! – Фридеберг ловил каждое слово, потирая руки, нетерпеливо подтягивая пояс, слизывая с губ соленый и горький вкус выкуренных сигарет «Силезия». Переправа через речонку шириной не более пяти метров держала их здесь уже почти десять часов. Закжевский сперва рассыпался в любезностях и заверениях, потом Некоторое время держался спокойно, ровно, а теперь шипел и ворчал, глядя на них с такой злобой, словно табурет, на котором сидел Фридеберг, был самым важным препятствием на разбитой дороге из Опатува на Кельцы, тем самым препятствием, которое не позволяло ему выполнить приказ главнокомандующего.
Фридеберг не выдержал наконец и, когда Закжевский выдавал в телефон очередную порцию «всех чертей», вышел из комнаты и пробрался через забитый бричками двор к своему богом данному главному штабу на колесах. Он приказал Валаю стеречь машину как зеницу ока, а сам с Минейко двинулся пешком, чтобы проверить, как обстоят дела на переправе.
Дорогу наводнили обозы и пехотные части. Солдаты разлеглись в придорожных рвах, спали с винтовками и ранцами под мышкой, разглядывали вспотевшие ноги, лениво переругивались. Два ряда обозов заняли всю дорогу, лошади стояли, повесив морды, то один, то другой жалостливый повозочный кидал им охапку сена, но, вероятно, общая нервозность заразила и лошадей: они перебирали ногами, громко тянули воздух, ржали, трясли гривами.
Фридеберг и Минейко шли по узенькой обочинке, оставшейся свободной с левой стороны дороги, и каждые несколько шагов прыгали в ров: навстречу бежал очередной связной. «Какой огромный механизм – пехотная дивизия, – думал Фридеберг, изо всех сил выискивая разумный смысл в сложившейся ситуации. – Мы идем, идем, а это ведь все еще один батальон, таких батальонов девять, и артиллерия, и орудийная прислуга…» Он бранился, натыкаясь на дышла, и снова возвращался к своему: «Какая махина, у меня в руках будут две такие махины, а может быть, и больше».
С трудом они добрались до переправы. Уже совсем стемнело. Саперы, колотившие топорами по сваям, работали при свете смоляных факелов, мокрые от пота спины блестели, как полированная медь. Несколько человек шли вброд по речушке, огненные пятна, дрожавшие вокруг них на поверхности быстро текущей воды, распадались на мелкие красноватые чешуйки: создавалось впечатление, будто бесчисленные стаи карасей дробили воду хвостами или падали плашмя. На противоположном берегу две ели, вырванные взрывом бомбы, наклонили над речушкой косматые метелки ветвей; можно было рукой дотянуться до их верхушек.
Фридеберг окинул взглядом эту пеструю картину, с минуту праздно глазел на нее, бессознательно очарованный ее простой и дикой красотой. Но, услышав настойчивые окрики сержанта, он понял, что переправа наведена. Его машина находится в нескольких километрах отсюда, в нескольких километрах пути, забитого повозками в два ряда… Переправа узкая… прежде чем двинется этот поток и повозки по одной протиснутся на противоположный берег… Все эти разумные доводы мало на него подействовали; его пугала мысль, что, пока он добежит до лесной сторожки, пока его машина вольется в общее медленное движение, повозки уже тронутся с места; его пугало, что снова на какое-то время от него отдалится группа «Любуш», и, повернувшись на каблуках, он бегом пустился назад, перепрыгивая через разлегшихся во рву пехотинцев, спотыкаясь о них.
Когда Фридеберг и Минейко подходили к лесной сторожке, застывший на дороге поток тронулся; крики, бренчание судков, команда, брань повозочных подгоняли их; вспотевший, разгоряченный Фридеберг добежал до машины, а на дороге зацокали копыта, заскрипели колеса и двинулись тысячи солдатских сапог.
Закжевский снова стал почти любезен: начальник штаба только что доставил ему сообщение о полке Тыманека, который наконец вышел из Сандомира. Дивизионная артиллерия выбралась из Опатува. Из штаба армии приехал офицер связи, чтобы ускорить их марш на Кельцы.
– Генерал, – Закжевский потирал руки, – пожалуйста, скромная офицерская закуска… Знаю, знаю, вы спешите, я прикажу, чтобы освободили дорогу… Но вы сами понимаете, пока они протиснутся… не могу же я сбросить обозы в ров.
Капитан, прибывший из штаба армии, был настроен мрачно. Когда Закжевский, обрадованный тем, что обозы двинулись с места, очень благоприятно прокомментировал сводку Верховного командования, капитан улыбнулся с оттенком превосходства. У Фридеберга екнуло сердце. Ему была знакома эта улыбка. Сколько раз он видел ее на лицах своих коллег еще в ту войну. Улыбка фронтовика, разбирающегося в сложности событий, перед лицом тыловиков, почти по-штатски наивных.
Закжевский возмутился:
– Говорите же!
Капитан заставил долго себя просить, прежде чем произнес наконец:
– Ченстохов потерян, немецкие танки прорвались на Радомско. Армия «Лодзь» отступает на Видавку.
Закжевский возразил:
– Это невозможно! Главный штаб сообщает об успехах под Ченстоховой, об уничтожении…
Капитан улыбнулся еще более презрительно и замолчал. Он ничего не смог ответить на вопросы Фридеберга относительно группы «Любуш». Подтвердил только, что штаб армии «Пруссия» должен находиться в Кельцах. Командующий в ярости: дивизии опаздывают.
Закжевский присмирел. Выпили несколько стопок. Могучий нос Балая покраснел; неожиданно майор начал цитировать Клаузевица. Как ни странно, это почему-то успокоило Фридеберга. «Интеллигент, – подумал он, расчувствовавшись, – троих таких я бы не вынес, но один для престижа необходим». Балай пялил глаза на собравшееся за столом общество, он что-то, видимо, перепутал, потому что начал подлаживаться не к своему генералу, а к Закжевскому. Приятную хозяйскую гордость Фридеберга как рукой сняло! Он больше не радовался: «У меня одного на всю гмину такой прыткий баран». Зато вспомнил несколько мелких фактов, связанных с тем же Балаем. «Интеллигент» обладал небывалым нюхом на «конъюнктуру» в отношении начальства. После возвращения Фридеберга из Варшавы Балай начал к нему подлизываться, а неделю спустя охладел до последней допустимой границы, после которой уже остается только гауптвахта или суд чести. Чувствует, сволочь, кто ползет вверх, а кто вниз, как морская свинка чует дождь или другие животные еще что-нибудь чуют. Что же он тут пронюхал?
Балай вылакал еще одну стопку и теперь подлизывался уже к капитану связи. «Погоди, баран, – с ревнивой радостью подумал Фридеберг, – дай только выберемся из затора». Закжевский пил и отдавал приказы. Начальника штаба он послал на дорогу – ускорить передвижение. Снова выпил и направил полк Тыманека по боковому тракту к югу от Опатува. Наконец все вышли на дорогу. К Фридебергу подбежал Минейко и доложил:
– Машина, возможно, через полчаса доберется до мостика.
Прохладная ночь, красные звездочки сигарет над повозками, ржание лошадей. Надежда, вспыхнувшая в душе Фридеберга – то ли от свежего ветерка, то ли от запаха елок, принесенного им, – окрылила его, он хлопнул Балая по плечу и подумал: «Пес тебя возьми, я знаю, что ты стервец, на твое сердце я не рассчитываю. Но твой носище пригодится вместо барометра. Посмотрю на тебя и буду знать: в милости ли я у главнокомандующего, качусь ли медленно вниз или лечу стремглав». Балай зашмыгал носом, отодвинулся. «Ой, нехорошо», – решил Фридеберг.
Закжевский оправдывался перед капитаном:
– Хуже всего, что участок лесистый, сыроватый, холмистый. От Опатува вплоть до Михалува нет ни одной параллельной дороги, хотя бы тропинки. И даже если бы я хотел, то с этой проклятой дороги не могу свернуть; только вперед или назад, через Опатув. А дорога разбита, пробки на каждом шагу, за нами еще кто-то там выгружается.
Капитан угрюмо молчал. До этого он жаловался, что получил от Домб-Бернацкого оперативный приказ, составленный так, словно он может запихнуть эту дивизию к себе в карман и поскакать галопом.
– Ну, опоздаем, – хлопал себя по животу Закжевский. – Будем на месте не в двадцать два часа, а, предположим, в шесть. Важнее всего то, что мы двинулись, что артиллерия выбралась из Опатува. – Он кашлянул от волнения. – Я предпочел бы чистить отхожие места, чем второй раз пролезать через эту дыру…
– Пан полковник! – заскулил за его спиной начальник штаба. – На минуточку, ставка…
Фридеберг уже вышел на дорогу, но крик Закжевского заставил его вернуться. Он побежал, Минейко опередил его. Перед сторожкой схватились две фигуры.
– Полковник, полковник! – пищал начальник штаба.
– Пан полковник! – покрикивал капитан, пытаясь оттащить жирную тушу Закжевского. А Закжевский вцепился в полу мундира начальника штаба и шипел теперь что-то совершенно невнятное.
Фридеберг одно мгновение смотрел на них, ничего не понимая, потом где-то глубоко внутри в нем вспыхнула ярость, он шагнул вперед и рявкнул:
– Встать, смирно! Черт вас возьми, вы кто – полковник или дерьмо собачье!
Даже капитан отскочил и выпятил грудь. Закжевский выпустил полу мундира своей жертвы и, разинув рот, повернулся к Фридебергу.
– Смирно! – снова прорычал Фридеберг. – Это называется смирно? Живот убрать, сомкнуть каблуки!
Закжевский вытянулся.
– Докладывайте!
Закжевский доложил. Фридеберг слушал, что говорит полковник, и вдруг ему самому захотелось выть и лезть на стенку. Оказывается, ставка изменила приказ и назначила районом концентрации не Кельцы, а Вежбник.
– Понимаете, пан генерал, – бормотал Закжевский, – на этой зас… узкой дороге нет никаких объездов, снова через Опатув… И срок… выдержать нельзя… завтра, восемь утра, сорок километров по прямой линии, дорогами все семьдесят…
– В штаб! – Собрав остатки авторитета, Фридеберг загнал всех в комнату. Наскоро прибрали на столе и разложили карту. Веселенькая местность: лысогурская горная цепь, ручейки, заливные луга, туристские тропинки. Одна верная дорога – назад через Опатув и на Островец. А потом несколько мостов на Каменной.