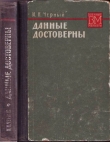Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
Вот Сек, крестьянин из-под Люблина, чудаковатый, с мечтательным выражением лица. Цебуля – ну, это голова, далеко бы пошел, будь он не безземельным сезонником, а хозяином. Смирный Дзюра из Жешовского, Барщ – веснушчатый, хитроватый, с хриплым голосом. Гольдфарб из Лиды, сапожник, коренастый, как медведь; сонливый, беспомощный Ткачук из-под Коломыи, парень как с картинки. Вильчинский из Гарволина, дружок Пискорека, сам Пискорек…
Маркевич посмотрел на часы: пять ноль пять. Он с неприязнью относился к капралу Пискореку и, вероятно, поэтому, подумав о нем, сразу решил: пора поднимать людей.
Не успел.
Внезапно лес, уже целиком вынырнувший из предрассветной мглы, – черная полоса между серым полотнищем поля и светлеющим серо-голубым небом, – лес, молчавший вот уже два часа, взревел, взревел во всю свою ширь, взревел и закипел, взревел и загудел.
Лес ревел и гудел. Как раньше, но еще сильнее и ближе. Солдаты сорвались с мест, вскочили со дна окопа, припали к винтовкам. От гула разрывалась голова, шумело в висках. Маркевич схватился за бинокль – ничего, только пласты вспаханной земли и стерни поблизости, только черная полоса леса вдали. И гул, гул.
Артиллерия? Ни вспышки, ни воя, ни взрывов. Только гул. Сообщить капитану Потаялло? Зачем? Мертвый и тот проснулся бы.
Гул стоял, быть может, минуты две, и вдруг у правого края как будто начал затихать. Еще ревет центральная часть леса, но там, справа, лес только дрожит и словно подвывает сквозь зубы. И вот уже все пространство перед ними воет и дрожит, только в глубине осталось несколько очажков рева.
Кто-то дотронулся до его руки.
– Танки, пан подпоручик, танки. – Это Цебуля.
– Танки, танки! – несутся крики через окоп. Бинокль: серые пласты земли, черный лес, между ними, в гуще зарослей, – движение. Будто кусты лавиной двинулись вперед и в своем беге как бы потеряли округлость, стали угловатыми, низкими, прямоугольными.
– Атакуют цепью! – заорал Пискорек, стараясь перекричать этот рев. – Пан подпоручик!
Показался один, другой силуэт – шли люди в касках, с винтовками, пригнувшись.
– Это сторожевые посты! – Цебуля тоже орет, и Маркевич попросту выбивает винтовку из рук Пискорека.
– Танки, танки! – Пискорек перезаряжает винтовку, руки у него дрожат, а потом он отворачивается, винтовка летит на дно окопа, он делает шаг, словно собирается выпрыгнуть…
– Стой, мать твою!.. – Маркевич, сам того не замечая, бьет его по физиономии раз, другой.
– Танки! – бормочет Пискорек на дне окопа, брыкаясь ногами. – Доложить капитану…
Возле, окопа тяжело падает Михаловский. Он едва переводит дух.
– Не стрелять! – У Маркевича срывается голос. – Не стрелять без моей команды!
Танки, танки! Только бы не распускать нервы. Танки, всего лишь танки. Всего лишь танки. Он твердит эти слова, не зная, то ли вслух, то ли про себя. Всего лишь танки. Всего лишь, значит… Значит, их много, бесконечно много. Тогда, ночью, гудело сразу столько моторов, что ничего нельзя было понять. А всего лишь танки.
Танки. Первые уже видны без бинокля. Как они мчатся, как мчатся! За ними дым, в его темно-сером ореоле отчетливо видны их морды, угловатые, приплюснутые, как спичечные коробки. Какие-то горбы.
Значит, в лесу – и все-таки танки? Значит, глухой угол, далеко от главной магистрали, – и все-таки танки? Что теперь делать? Как полагается по уставу? Что говорил Потаялло? Залпами?
Солдаты держат винтовки. Не могут отвести глаз от ближних подступов. Только один из солдат поглядывает на командира, надеется на него, в нем видит спасение.
Маркевич лихорадочно вспоминает все сведения о танках, какие он приобрел в армии. Под Варшавой проводились учения, но седьмая рота тогда получала пулеметы. Потаялло объяснял ведь, объяснял два часа назад. Последний урок, самые важные наставления. Залпами. И еще что-то. Полное отчаяние – он не может вспомнить.
Маркевич заставляет себя говорить тише. Он весь вспотел, сжал кулаки, стараясь, чтобы голосу не передалась дрожь, сотрясавшая все его тело, чтобы слова не вырывались так быстро – быть может, тогда их хватит на более долгий срок, – и выдавил из себя:
– Прицел сто пятьдесят. Огонь по моей команде, залпами. Приготовить гранаты.
Танки, как спичечные коробки, плоские спереди. Растут эти коробки и – странно – удлиняются. Как коробки, поставленные горизонтально, но боком.
Сколько их? Надо считать, надо считать. Рапорт. Время – пять часов одиннадцать минут. Шесть минут войны. Один, три, восемь. Там, в пыли, еще пять, там…
Они удлиняются. Видно, как сзади у них вырывается дым, взлетают мокрые комья бурой земли. Коробочки удлиняются, меняют направление. Теперь они справа.
Они идут не на них, а на Шургота. Чувство облегчения? Облегчения и страха одновременно. Напряженный, дрожащий Маркевич раньше не испытывал страха. А теперь испугался: как справятся соседи, боязно за них; так бывает в театре, когда смерть угрожает герою пьесы. Бинокль. Видна желтоватая полоска окопа. Триста метров, не больше. В грохоте, который висит над ними, появилось нечто новое – будто кто-то провел карандашом по редкой гребенке. И еще что-то беловатое, как дыхание в морозное утро, только быстрое, отрывистое.
Пулемет! Ну, значит, идет бой. Танки, танки, танки – прямо на Шургота. Первый в пятидесяти метрах. Теперь пулемет даст ему в морду, в глазищи! Двадцать метров. Не стреляют? Гранатами его, черт! Есть, танк на окопе! Чуть дрогнул, задрал нос, качнулся, пошел.
Солдаты замерли, вглядываясь. Второй танк, и третий, и целая волна. Какая-то фигурка выскочила из окопа, за ней еще несколько. Согнувшись, бегом кинулись в тыл. Волна перехлестнула через окоп быстрее, чем первый танк. Убегающие несутся во весь дух. Волна за ними. Нет, не за ними, а прямо к развилке дорог. Быстро, быстро. Двое бегущих оглядываются, поворачивают в сторону. Крайний танк легонько, будто по рассеянности, задел их гусеницей. Они упали.
Вторая волна тоже идет на Шургота. Пулемет? Теперь даже не слышно, чтобы водили карандашом по гребенке. Черт возьми, где гранаты? Пожалуй, танков двадцать выровненной шеренгой… Они уже на окопе! Прошли, помчались дальше. Желтая полоса стала шире, расплылась. Что-то грязно-зеленое вылезло из нее, проползло метров пять, застыло.
Солдаты молчат. Не смотрят на Маркевича. Он понимает, что это значит. Как в театре, они видят гибель близких им людей – и ничем не могут помочь. И не как в театре – знают, что их очередь следующая.
– Ребята! – кричит он. – Нас так легко не возьмешь! Ребята! Гранаты! У нас гранаты!
Молчат. Рев сотрясает воздух. Первые танки задержались у развалки дорог, но вот двинулись гуськом по дороге к станции. Быстро! Как автомобили!
Рев висит над землей.
– Подпоручик! – Михаловский указывает рукой на лес. Маркевич оглядывается. Новая волна.
– Господи боже! – кричит Пискорек. – Да их тысячи!..
В самом деле, теперь словно весь лес двинулся на них. Голубоватый дым заслонил черную полосу на горизонте. Оттуда выскакивают угловатые коробки, растут. Снова на Шургота.
Как на параде – по шесть или по десять в ряд, дистанция сто метров, на полной скорости к перекрестку. После каждой волны ширится желтое пятно, вытягивается назад, как протоптанная дорога.
Что с Шурготом? Не может быть, не может быть…
Зеленая фигура, кажется, пошевелилась. Маркевич хватает кого-то за руку:
– Бегом, посмотри, что с первым взводом!
– Пан подпоручик! – кричит солдат. – Ведь известно, раздавили…
Кто это? Веснушчатый. Пятится. В окопе движение. Маркевич грозит револьвером Барщу и бросает взгляд вперед.
– На нас, на нас! – с двух сторон обступают его солдаты.
Новая волна еще шире. Пожалуй, по пятьдесят танков в одном ряду. На этот раз она их не минует. Маркевич вдруг приходит в себя. Слова капитана Потаялло всплывают в памяти так четко, будто они высечены на мраморной доске: стрелять залпами. И второе, в тот раз забытое: за боеприпасами по двое.
Маркевич привстал на носках, уперся локтями в сыпучий песок окопа. Танки несутся на максимальной скорости, общее направление вправо, но примерно пять крайних заденут и его. Потаялло говорил… что-то важное… он снова не помнит. Это не имеет значения, Потаялло ведь где-то там сзади, он все видит, думает о них. Должен что-то посоветовать! В штабе батальона, наверно, уже знают. Помогут. Шурготу не успели. Но теперь… И это самое главное. Они там, они помогут. А он должен выполнить свою задачу.
Маркевич смотрит. Танки мчатся. Стрелять, когда подойдут к ручейку, не раньше. Он с трудом отводит глаза от передней части поля. Несколько касок над окопом, винтовки, пальцы на спусковых крючках, лица в профиль, стянутые ремешками, плоские, с упрямо выдвинутыми подбородками. Возле пулемета Коза – вздернутый нос; то ли Коза ничего не понимает, то ли улыбается по привычке?
Танки. Уже не только горбы башенок. Жерла орудий, устремленные вперед, какие-то шесты внизу и сбоку, тоже направленные горизонтально вперед. Не стрелять, не стрелять. Только когда подойдут к ручейку, не раньше!
Маркевич стиснул в руке гранату. Пальцы побелели от напряжения. Пять танков идут прямо на них.
Вот подошел первый, у ручейка тормозит, замедляет ход, словно брезгуя болотцем.
– Огонь! Залп!
Из окопа грянули выстрелы, на полсекунды они заглушили рев танков. Тот, что задержался у ручейка, словно подстегнутый их огнем, ринулся вперед. Раздался всплеск воды, взлетели комья ила; за первым танком, уже не замедляя хода, на полной скорости пошли остальные четыре.
– Залпами! Огонь! Пулемет!
Коза выпустил весь диск прямо в смотровые щели первого танка. На мгновение, длившееся меньше секунды, Маркевич обрел сверхъестественную остроту зрения. Коза целил прямо в смотровые щели. Маркевич видел, как свинцовая струя била по танку около самого дула и на серо-зеленом пятне камуфляжа выскочило гнездышко черноватых точек.
Теперь все в его восприятии затормозилось, как при замедленной киносъемке. Первый танк рванулся к окопу прямо на пулемет. Мелькнула белая голова Яроня (дурак, где каска?). Утрамбованный песок перед окопом расползся, стенки окопа расступились, казалось, желтая вода хлынула вниз, на дно; разогнавшиеся квадраты гусениц, облепленные песком и тоже желтые, словно замерли, взревел мотор, и вот они снова рванулись вперед, посыпался песок, раздался вопль, слышный даже в реве мотора, и оборвался, обвалилась другая стена, тяжелое туловище танка перекатилось через окоп.
– Гранаты! – крикнул Маркевич.
Второй танк налетел на Сека, прежде чем тот успел швырнуть гранату. Сек закинул назад руку с гранатой – так его и вдавило в стену окопа.
Третий танк шел прямо на Маркевича. Подпоручик отскочил на два шага вправо, кинул разогретую, вспотевшую гранату и упал на дно окопа.
Сразу перед окопом – слабый гул взрыва. И тотчас на фоне светлого неба появляются уже знакомые квадраты гусениц, спрессованный песок глыбами сползает вниз, гусеницы зацепляют заднюю стену, снова песок, закопченное, заляпанное грязью брюхо машины, какие-то отверстия, тыльная часть, удушливый смрад выхлопного газа.
Гранаты влево, несколько раз. Два танка перевалили через окоп, пошли.
Выплевывая песок, часто моргая, Маркевич поднялся. Впереди новые волны по-прежнему идут на Шургота. А сзади – пять танков уже в садах, сломанные яблоньки, трупы, в воздух взлетают доски какого-то строения, белая курица тяжело бьет крыльями. Зацепили лачугу, розовые на рассвете окна вдруг становятся черными. Танки кружат по дворам, словно, заблудившись, не знают, куда себя девать, ищут более удобный выход на ровную дорогу через окоп Шургота.
Три секунды или пять секунд этого бессмысленного раздумья. Слева из-за оползня на четвереньках вылезает Михаловский. Он с трудом выпрямляется, из носа и из ушей тоненькими струйками течет кровь.
– А-а-а, – тихо стонет он. Падает, задыхается. Снова проблеск сознания. Маркевич подбегает к Михаловскому, пытается его поднять. Михаловский открывает тускнеющие глаза. Открывает рот. Струя черноватой крови.
– С ним кончено, – раздается за спиной Маркевича хриплый голос Цебули.
Маркевич выпустил Михаловского, и тот как-то удивительно ловко свернулся в клубок, голову наклонил, коленями стукнулся о подбородок.
– Яроня и Козу в лепешку, – хрипло говорит Цебуля. – Сека, Вильчинского…
Маркевич глядит на окоп. Через каждые несколько метров – обвал. Из одного торчит дуло, забитое песком, штанина с красной культей, каска, раздавленная, как яичная скорлупа. Человек пять уцелело, они вылезают, рты разинуты, каски перекосились, глаза блуждают.
Кто-то ползет по полю. Барщ!
– Невозможно добраться, – плаксиво оправдывается он. – Идут, идут без перерыва. Но там и окопа больше не видать, сравняли с землей. На солдата, который отполз, сразу следующий танк наехал, а…
Неужели Барщ только теперь заметил, что здесь происходит? Он умолк.
Снова идут, снова в воздухе стоит вой. Но теперь танки не ошибаются дорогой, катят по проложенной первыми танками желтой полосе, как по асфальту. Маркевич не смотрит на них. Без каски, наклонившись, сгорбившись, машинально откидывая рукой волосы, падающие на глаза, он стоит над Михаловским. Барщ и Цебуля рядом. Михаловский лежит неподвижно, только черная струя крови все еще змеится из его рта, дотекает до воротника, начинает заползать под мундир.
– Подпоручик. – Цебуля тормошит Маркевича. – Этому уже все едино. Раненых…
Маркевич соглашается, машет рукой. Гул в поле слабеет, удаляется. Маркевич вылезает наверх, стоит во весь рост, будто ничто больше не может ему угрожать.
Туча пыли на пути к полустанку. Последние танки замедлили у развилки, дожидаясь своей очереди. Несколько разбитых хат с перекосившимися крышами. Желтое удлиненное пятно вместо окопа Шургота. Поле пустое, вспаханное только гусеницами танков. Лес снова стал спокойным, черным и тихим. Слева – что-то радостное. Солнце всходит.
Не верится. Маркевич смотрит на часы. Пять сорок. Значит, прошло полчаса, только полчаса.
Возвращаются Цебуля и Барщ. Двое легкораненых, шестеро убитых. Седьмой, Якубович из Седлец, кончается – раздавлена грудная клетка. Уцелевших девять.
– Надо собираться, – тихо говорит Цебуля. – Того и гляди нас загребут.
Маркевич не понимает. Что еще может случиться? – Пехота, – подсказывает ему Цебуля.
– Какая пехота? – Маркевич заглядывает ему в глаза и вдруг кричит: – По местам! Барщ, к пулемету! Огонь по моей… – он не договаривает. Встряхивается, приходит в себя. Барщ делает два шага и дотрагивается кончиком сапога до погнутых железных палок, торчащих из песка. Сошки пулемета.
– Второй взвод!.. – Маркевич наконец ухватил нить, которая кажется ему спасительной. – Цебуля, бегите в деревню, ищите капитана. Погодите. – Он роется в карманах, вытаскивает клочок бумаги, но никак не может найти карандаш. – Ладно, рапортуйте: семеро убитых, двое раненых… сейчас, сейчас… всего девятнадцать, где остальные?
– Удрали, – Цебуля пожимает плечами. – Когда пулемет не помог, они потихоньку…
– Ладно! – кричит Маркевич. – Доложите: позиции удержали! Пусть скажут, что дальше? Раненых заберите. Пошли!
Цебуля вылез, у него словно ноги онемели – походка стала какая-то развинченная. За ним Дзюра и еще один солдат, они медленно плетутся сзади. Солнце. Отдаленный шум. Поезд, прибыл ночной поезд, пошел.
Девять человек. Стоят и смотрят на Маркевича. Он тоже стоит и смотрит на них. Ему трудно произнести хотя бы слово, чтобы объяснить им, утешить их, припугнуть. Трудно, потому что танки… Трудно, потому что взвод Шургота… Труднее всего потому, что его указания, команда, крики оказались пустыми и ненужными. Они помогли не больше, чем заклинания знахаря. Не сдержали железного натиска, который смял людей, окопы, пулеметы, гранаты.
И все-таки он не обошелся без заклинаний, выбрал самый легкий путь:
– Зарядить винтовки! Занять позиции! Барщ, в первый взвод!
Солдаты не торопились. Они не верили знахарю. Маркевич подгонял их криком, расставил в промежутках между обвалами. Левое крыло окопа не тронуто, именно оттуда сбежало второе отделение, пискорековское. На дне брошенные винтовки, обоймы.
Четверть часа ожидания. Маркевич пришел в себя. Даже составил набросок рапорта: «В пять ноль пять сильная атака танков неприятеля… – Как спокойно звучит эта фраза! – Несмотря на огонь пехоты… прорвав первую линию окопов, немцы…»
Он остановился. Немцы. Ни одного он даже и не видел. Только железо, гул, смрад, черные кресты на башнях. Ни одного немца – ни головы, ни глаз!
Было в этом нечто оскорбительное, нечто такое, что теперь смывало остаток страха или, вернее, придавало ему новую окраску и силу. Сломив… лучше бы он написал: растоптав… несмотря на огонь пехоты…
А они? Немцы? И тут оскорбление, воплощенное в приземистых, угловатых формах танков, стало невыносимым. А немцы – ни выстрела. Орудия, те самые железные жерди – ведь это пулеметы. И ни выстрела!
Как будто едет легковой извозчик, собака лает, прыгает под колеса, а он и кнутом ее не стеганет, едет да едет. Разве что собака сама подвернется под колеса, завоет и на трех лапах заковыляет в подворотню. Извозчик и тогда не обернется.
Барщ пришел первый. Не отрапортовал, не встал навытяжку, смотрел Маркевичу в глаза чуть ли не с ненавистью.
– Ничего не осталось от первого взвода. Даже хоронить не надо, утоптали, как глиняный пол. Может, кто из них сбежал?
Маркевич отвернулся. Цебуля возвращался по одной из тех новых дорог, которые пролегли через деревья, ограды, строения. Он был возбужден, торопливо отвел подпоручика в сторону и вполголоса быстро докладывал:
– Все ушли! Одну бабу я нашел под периной; рассказывает, как началось, капитан туда-сюда, солдат собирать. Молодого, Водзинского, значит, уже не досчитались. Капитан приказал построиться, и все бегом в Кшепицы. Мужики тоже разбежались кто куда: в кусты, на болото, в город. А баба не поспела, со страху под перину…
– В Кшепицы?
– Значит, в дивизию… Дорогой, что возле границы…
Маркевич достал карту. Главное, не показать Цебуле, как поразило его это известие. Дрожащим пальцем он водил по карте. Кшепицы, двадцать километров к востоку от Бабиц. Железнодорожная линия, шоссе. Там главная магистраль, орудия, минные поля. Неделю назад они приехали туда поездом из Велюня, здесь полустанок, дорога, по которой они пришли в Бабицы, здесь разъезд. Танки пошли к разъезду. Они не спешат на Кшепицы, на минные поля. Предпочитают с тыла…
А капитан Потаялло прямо в дивизию, бегом. На бегу составляет рапорт: первый взвод растоптан, третий взвод растоптан…
Эта дерзкая мысль несколько успокоила Маркевича. Теперь и на Цебулю можно посмотреть. Цебуля переминается с ноги на ногу, у него готов совет.
– Я бы, пан подпоручик, людей собрал и тоже на Кшепицы, за капитаном… Какой тут толк от нас? Вдесятером…
– На Кшепицы? Немцы, верно, двинулись вдоль всей границы…
– Ну, тогда на полустанок…
– За танками?
– Ну, так через поля, напрямую. Лишь бы скорей!..
Двинулись они не так и не этак, а по тропинке, которая обещала на полчаса сократить им путь до железнодорожного полотна. Оружие, сколько удалось, взяли с собой, полные ранцы патронов. Прошли стороной от деревни; несмотря на донесение Цебули, Маркевич боялся попасться на глаза разным Мацеям, боялся их взглядов, их прощальных слов.
Сгибаясь под тяжестью ноши, десятка быстро шла за ним. Казалось, только получив приказ оставить окоп, они осознали неотвратимость немецкого нашествия. Едва Маркевич дал команду, они один за другим выскакивали наверх, пригибаясь, украдкой оглядываясь, не приближается ли немецкая пехота, которая не пронесется мимо, не раздавит все, как танки, а закрепится здесь. Солдаты шли ускоренным шагом, они снова подчинялись офицеру. Маркевич понимал их. Он сам пережил странное потрясение, когда наконец приказал солдатам оставить окоп. Он будто заново начал жить, будто вновь почувствовал терпкий вкус яблок, росших в саду, оставшемся позади; почувствовал, что солдаты устали и, двигаясь по песчаной тропинке, устанут еще больше. Мир, который в течение того страшного получаса вовсе не существовал, а в короткие мгновения после атаки воспринимался как при замедленной съемке, в плотном смешении красок, линий, плоскостей, быть может и прекрасных, волнующих, но лишенных конкретного значения, бесполезных для жизни, – этот мир, едва они оставили окоп, вернулся во всей своей, скажем, вчерашней цельности. А вместе с этим пришло и предчувствие надвигающегося голода, и стыд, и злоба. И прежде всего страх, страх перед немцами, их огнем, их атакой, перед пленом, ранением, смертью.
И вдобавок ко всему – огромное облегчение оттого, что они уходят, что бросили проклятый песчаный холм.
Там в течение получаса он не чувствовал страха. Смерть надвигалась на них волнами каждые несколько минут. После катастрофы с Шурготом Маркевич был совершенно уверен, что им тоже не выбраться. Он не думал об этом, а просто знал, что так будет. И внешний мир утратил в его глазах всякий практический смысл. Страх смерти вернулся к нему только с той минуты, когда миновала опасность близкого и неизбежного конца, когда уже не было непосредственной угрозы смерти. Страх перед смертью – неотделимой частицей мира, в котором мы живем, – вернулся вместе с этим миром. Потому что в те полчаса была другая жизнь, другой мир, другая планета.
Такие смутные ощущения и мысли рождались в его голове теперь, когда они полубегом взбирались на небольшую возвышенность, – радость, оттого что они живы, что убегают, что он снова чего-то боится.
Пригорок, стерня, полоса уже вспаханной земли. Вдали перед ними – ровные поля. Где-то справа купа сосен. Где-то впереди маленькое облачко пыли. В ту сторону ушли танки. Не вообрази ненароком, будто все тебе приснилось, не думай этого, обманутый полным, абсолютным покоем, тишиной, нарушаемой только топотом сапог и тяжелым дыханием.
Маркевич остановился и поглядел назад. Деревня казалась теперь маленькой, прикорнувшей у ручейка, кое-где обсаженного ивами. Сады с этого расстояния были совсем желто-бурыми. Лес за ними едва поднимался над линией горизонта. Ни следа песчаных холмиков, желтых полосок окопов.
Крики, его зовут. Маркевич обернулся к отряду. Солдаты махали руками: человек бежит. Тропинка сползла с пригорка на межу. Впереди, в нескольких сотнях метров, фигурка в гниловато-зеленой солдатской форме.
Они до сих пор не видели немцев и поэтому не могли определить, вой это или чужой оттенок зеленого цвета. Только спустя несколько минут напряженного ожидания кто-то разглядел: Низёлек. Капрал запыхался, но был спокоен: все в порядке, в батальоне приказали не поднимать панику, ни в коем случае!
Толстый заклеенный конверт был адресован капитану Потаялло. Маркевич сломал печать. Коротенькое письмо приказывало: «В случае угрозы со стороны бронетанковых сил неприятеля вскрыть ящик, помеченный АХ, и поступить согласно приложенным инструкциям».
Когда Маркевич прочитал фразу, касавшуюся дисциплинарной ответственности командира, который вскроет ящик без надлежащих оснований, лицо его искривила недобрая усмешка. Он тотчас извлек инструкцию.
Она была прекрасно отпечатана. На обложке с полдюжины предупреждений: особо секретно; не вскрывать без приказа; сжечь в случае угрозы…
Речь шла о противотанковых ружьях, тех самых «петеэрах», о которых спьяну болтал Брейво, «пробивающих стальную броню толщиной 1,3 сантиметра на расстоянии… а также до 2 сантиметров на расстоянии…» На красиво вычерченных схемах профиль и фас немецкого танка «Т-1», той самой спичечной коробки, которая раздавила Шургота, а третий взвод, задев его как бы по рассеянности, превратила в горстку дезертиров. Красными пунктирными кружочками были обозначены особенно уязвимые места танка. Затем следовали указания относительно обращения с противотанковыми ружьями и мелкого ремонта.
Словом, там все было. Все, чтобы победить железные коробки, которые их раздавили, или по крайней мере чтобы бороться с ними. Или по крайней мере погибнуть, но так, чтобы собственная смерть и смерть врага чего-то стоила. Солдаты стояли поодаль, удивляясь тому, что он зловеще улыбается и что-то восклицает, потрясая кулаками. Низёлек, догадываясь, что случилось недоброе, собирался уже отойти, расспросить солдат, но тут Маркевич к нему обратился:
– В батальоне, капрал, говорите…
– Так точно, пан подпоручик, полное спокойствие.
– В котором часу вы пошли назад?
– Должно быть, около пяти, уже было светло…
– И по дороге… ничего не видели?
– А как же, шум был изрядный… Только это на дороге, а я шел тропкой. Думаю, наверно, артиллерию от Кшепиц или от Велюня передвинули.
– А вы не подумали, что пришли немцы?
– Никак нет, пан подпоручик, ведь стреляли бы. Вся наша рота на границе, и дальше – шестая. С пулеметами. Это ведь не шутки!
На какое-то мгновение Маркевичу померещилось, будто сегодня – это вчера. Значит, не было того получаса и с ним разговаривает не запыхавшийся капрал, а капитан Потаялло или сам майор Нетачко. Дни в своей неумолимой очередности спутались, перемешались. Что-то вроде полкового смотра. Только если бы еще и кавалерия…
Низёлек, сам того не желая, доказал реальность этого кошмара.
– Разрешите идти, пан подпоручик? В батальоне я застрял, велели ждать, пока добудятся майора Нетачко. Надо сдать дежурство, пан поручик Шургот рассердится…
– Ха-ха-ха! – захохотал Маркевич. – Вы спятили, капрал! Поручик Шургот никогда больше на вас не рассердится! А впрочем, плевать. И на капитана, и на майора плевать! – Тут он что-то напутал с именами и почему-то произнес свое собственное; – Эх, и рожа у тебя, Болютек!
Низёлек испуганно смотрел на него. Маркевич еще какое-то мгновение размахивал руками. Тогда Цебуля осторожно тронул его за плечо:
– Пан подпоручик!
Они оглянулись на деревню. От леса наискось, в направлении той самой развилки дорог, двигалось продолговатое облако не то дыма, не то пыли. Маркевич вдруг что-то вспомнил и крикнул:
– Цебуля, что сделали с тем ящиком, ну, который так берегли? Где он?
– Ящик? Тот, что у капитана? Когда второй взвод драпанул, его взяли с собой. Погрузили на повозку и галопом! Разве я не говорил? Забыл в спешке…
Маркевичу оставалось одно – достать спички. Хорошая глянцевая бумага, на которой были напечатаны инструкции, не хотела гореть, красные кружочки медленно чернели. Сплющенный немецкий танк «Т-1», с двух сторон охваченный витками огня, наконец поддался, шатающееся орудийное дуло надломилось, лопнула изнутри башенка, бумажные гусеницы свернулись, превратились в пепел. Маркевич вдавил каблуком в сухой дерн подвелюньской межи шелестящие, хрупкие, обгоревшие листки.