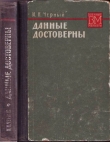Текст книги "Сентябрь"
Автор книги: Ежи Путрамент
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
– Пан вахмистр побежал узнать, что прикажут, велел ждать.
«А теперь уже слишком поздно», – как бы досказала за него Анна. Огонь снова вырвался наружу и на этот раз задел двух-трех лошадей. Невообразимый переполох, смрад паленой шерсти, оскал морды с длинными желтыми зубами, визг укушенной лошади.
Анну тоже подхлестнул этот огненный бич.
– Выводите! – закричала она снова, схватила ближайшую лошадь под уздцы, потянула к себе; взбешенное животное дернуло головой так, что Анна покачнулась, похолодела от страха перед оскаленной мордой. Анна уперлась каблуками в размякший от жара асфальт, снова попыталась тянуть лошадь – ничего не выходит.
Набирающий силу огонь – и тупое, истинно животное упрямство лошади. Загорелся флигель, в открытые окна видно множество коротких желтых огоньков, весело, как стайка канареек, перелетающих из комнаты в комнату, прыгающих на занавески, буйно роящихся над ковриками. Еще минута – и будет слишком поздно. Анна в бешенстве. Вот зонтик, оброненный одной из женщин. Анна отпускает уздечку, бежит и поднимает зонтик. Возвращается, накидывается на первую попавшуюся лошадь и яростно, с криком: «Ну пошла! Пошла!» – колотит ее ручкой, железной ручкой и лупит острым концом зонтика по заду, выпуклому, гладкому, вспотевшему от страха.
На уздечке пена, лошадь кричит, косит обезумевшим глазом, в нем пляшут многократно умноженные языки пламени, пляшет какое-то чудовище с искаженными от бешенства чертами лица, с огромным носом. «Мое лицо», – подумает когда-нибудь Анна, вспоминая в полусне о пережитом. А теперь она чувствует только одно: тупое сопротивление слабеет.
– Выводите! – торопит она солдат.
Наконец они подбежали к ней, втроем тянут первую лошадь, втроем колотят ее палками, уздечками, кулаками, втроем умоляют ее, ласково подгоняют:
– Ну, пошла! Милая! – И бьют, стиснув зубы, по ребрам.
Как камень, сдвинутый с места и пущенный по наклону, лошадь, свесив голову, трогается, ныряет в трубу ворот, исчезает в дыму. Прошла!
Солдаты продолжают колотить лошадей; дело идет легче; вслед за первой вырывается вторая, ржет, раздувает ноздри, а потом, наклонив морду, кидается в ворота.
– Ну, пошла, ну! – кричат солдаты.
Анна все еще цепко держит какую-то уздечку и едва успевает ее отпустить – до того стремительно лошадь скачет вслед за остальными.
Теперь остается только одна, которую другие притиснули к стене и помяли. Лошадь лежит, перебирает передними ногами: солдаты пытаются ее поднять, она встает на колени, валится на бок.
– Бегите! – кричит Анна.
С грохотом падает с третьего этажа загоревшаяся оконная рама и рассыпается горсточками красных угольков.
Анна и солдаты бегут в ворота, заслоняя рукой глаза. Жалобно ржет покинутая лошадь. Жарко, потрескивают волосы. Поток воздуха подхватывает бегущих людей и гонит их, как листья; почернев от копоти, они выскакивают на улицу, жадно глотают чистый воздух, шатаются.
– Лошади! Где лошади? – белокурый солдатик с отчаянием озирается по сторонам. Кто-то из толпы праздно наблюдающих показывает направо. Перед развалинами разрушенного дома сгрудились все лошади, ждут их.
– Что теперь? – спрашивают у Анны солдаты. Она оглядывается. Вот двор, не тронутый ни бомбой, ни огнем:
– Гоните туда!
– Так точно! – отвечает белокурый.
– Слушаюсь! – повторяет другой солдатик.
В воротах стоит пожилая, хорошо одетая дама.
– Куда, куда? Нельзя! Что вы делаете? Хотите, чтобы на нас бросили бомбы? Ни за что!
Анна на нее прикрикнула, лошади послушно пошли. Белокурый солдат снова спрашивает:
– Что дальше?
– Ждите своего вахмистра, разве я ваш командир? – говорит Анна.
Наконец она вспоминает: Кручая. Уходит, возле Аллеи поднимается в гору. Где-то на Праге гремят взрывы. Анну это не пугает, она идет уверенным шагом, ее только удивляет выражение лиц у встречных – такое изумленное, словно они узнали о ее подвиге. Изумление написано даже в глазах какой-то женщины. Анна достает из сумки зеркальце. На щеках черные полосы сажи, ресницы опалены, волосы в пепле.
Анна уже дошла до Кручей, она мысленно представляет себе сухонькую фигурку дяди, его острый взгляд. Собственно говоря, чего она от него хочет? Вы» играем ли мы? Продержимся ли до зимы? Что? Нет в ней теперь жолибожской беспомощности, бессилия, отчаяния – есть только злоба и ожесточение. Как странно, ей жаль, что история с лошадьми уже кончилась. Она скажет старику: «Я искала утешения, но эта история, эта случайность уже успокоила меня». А старик поморщится. «Случайности не бывает», – ответит он или скажет еще что-либо, такое уж умное.
На Кручей тихо, только из громкоговорителя на углу несется марш, и на пустынной улице гулко звучит эта беспечная музыка. Анне осталось пройти несколько домов, и вдруг марш обрывается; похоронно-торжественным голосом диктор сообщает, что во время бомбежки Варшавы пал смертью солдата генерал Кноте.
Анна останавливается, она ничего не понимает, с минуту ждет, а потом срывается с места, мчится, не веря, взбегает по лестнице.
17
Они не сразу заговорили о Кноте, до этого Слизовский выслушал много неприятных слов, которые помогли Ромбичу разрядить свое мрачное настроение: он проторчал сутки у прямого провода, подхватывая полоски бумаги, сползавшие с вертящихся колесиков, и нанося полученные данные на карту Польши от Лодзи до Пилицы, где теперь решалось все.
Действительно, что за сутки! Армия «Познань» возобновляет предложение перейти в атаку, сделанное два дня назад, в воскресенье. Чепуха! Летчика отправили ни с чем, он умчался с врученным ему пакетом, поднялся с аэродрома, старался проскользнуть между воздушными хищниками, веря, что спасает мир, не зная, что везет бумажку с холодным, пустым словом «нет».
Ромбич поторопился услать летчика еще и потому, что как раз в тот момент назревало решение о битве за Петроков. В конце концов на пятый день непрерывного наступления должны же немцы выдохнуться. Если контратака трех свежих пехотных дивизий, поддержанных двумя танковыми батальонами и кавалерийской бригадой, даже и не даст желаемого эффекта, то, во всяком случае, она затормозит, задержит стальной нож, который вонзается в живое тело страны, метя в сердце.
Но Домб молчит. К нему послали офицера связи: ничего не известно о левой, скаржиской группе его армии. «Познань» еще раз спрашивает разрешения на атаку. Сам Рыдз кричит в телефонную трубку:
– Нет!
И тотчас после этого Руммель умоляет о помощи:
– Оборона на Видавке и Варте трещит, быть может, фланговый удар армии «Познань» позволит мне оторваться от неприятеля.
Ромбич словно очнулся.
– Решающий участок, – шепчет он Рыдзу в левое ухо и слышит свой шепот, усиленный до крика: – Хорошо, одна ПД [64]64
Пехотная дивизия.
[Закрыть] и одна КБ [65]65
Кавалерийская бригада.
[Закрыть] к западу от Варты…
– Что? – Рыдз останавливается и в растерянности откладывает в сторону трубку. – Он говорит, что этого мало!
Ромбич возражает:
– Достаточно.
Потом еще раз звонит армия «Познань», тоже хнычет, что помощь слишком слабая, что атака будет иметь смысл, если они ударят большими силами. Они спорят час. Наконец выбирают самый сильный вариант: три ПД и две КБ. Цель наступления – занять город Варту.
Дбмб-Бернацкий по-прежнему молчит. Ни слова о наступлении из Петрокова на юг. Зато Руммель вечером докладывает:
– Поспешное отступление с Варты и Видавки, под сильным нажимом неприятеля, под угрозой обхода фланга с запада.
Рыдз только рукой махнул, словно навсегда отрекаясь от назойливых армий «Лодзь» и «Познань», и велел Ромбичу заняться ими.
Теперь перед Ромбичем стояла приятная задача: объяснить командующему армией «Познань», что весь его план снова провалился, что переброску войск нужно задержать или вести по-другому. И что по-прежнему нужно ждать. Чего?
Ночь. Домб-Бернацкий молчит.
Это было вчера, во вторник. А после полуночи начинают поступать отрывочные сведения. Девятнадцатая захвачена врасплох танками неприятеля в районе Петрокова.
– Первое наступление отбито! – Кричит Домб-Бернацкий. – Мы уничтожили…
– В котором часу? – Ромбич затыкает свободное ухо, надеясь уловить какой-то смысл в невнятном крике.
– Около полудня…
– Что дальше?
– Новая атака, после полудня…
Домб-Бернацкий теперь не спешит с подробностями, надо его подгонять.
– Что с Петроковом?
– Сдали, еще в восемнадцать ноль-ноль.
Ромбич опускает трубку, шепотом повторяет эти слова:
– Еще в восемнадцать ноль-ноль, еще в восемнадцать ноль-ноль.
Трубка пищит, как мышь, попавшая в ловушку. Домб еще до конца не излил своих чувств – ох, дубина, дубина.
Ромбич отходит к стене, переводит взгляд с Рыдза на Стахевича. Каждый занят одним и тем же несложным подсчетом: сто тридцать километров, восемь часов тому назад. Снова трубка:
– Что дальше?
– Преследование, преследование на Вольбуж… Значит, ни сна, ни отдыха, ни перерыва до рассвета…
– Почему же вы так поздно?..
– Я сам только что получил сообщение: во время преследования разбиты остатки наших сил, командующий девятнадцатой в плену.
Теперь они оба со Стахевичем кидаются друг к другу, размахивают руками, считают по пальцам километры или роты, которые у них еще остались перед Варшавой.
– Тринадцатая! – кричит Ромбич.
– Слишком близко, – отвечает Стахевич, – ее, пожалуй, уже втянули в бой. Разве она успела подготовить оборону? Мы сами ее толкнули на сближение. Слишком близко, наверно, ее захватили врасплох на марше…
– Двадцать девятая! – настаивает Ромбич. – Виленская кавалерийская бригада…
– Хватит! – Это говорится негромко, но оба одновременно поворачиваются, встают навытяжку перед забытым ими Рыдзом. Пожалуй, первый раз с пятницы он взял такой тон – спокойный, решительный. – Хватит болтовни! Подготовить эвакуацию ставки. Первый эшелон уйдет этой ночью.
– Так точно! – щелкнул каблуками Стахевич. – Разрешите идти?
Странный ток пробежал по сердцу Ромбича. Тут было и удивление, и горечь, и досада, и страх. Потом наступило облегчение, спокойствие, словно петроковская катастрофа случилась с кем-то другим. «Лев проснулся, – промелькнуло у него в голове. – Наступает последняя минута, когда капитан покидает свою каюту и сам поднимается на мостик, чтобы вывести корабль из шторма…»
Он стоял, вытянув руки по швам. Ждал. Наконец подсказал:
– Домб-Бернацкий… что прикажете, пан маршал?..
Рыдз посмотрел на него, и у Ромбича отлегло от сердца; бремя ответственности снова отразилось на его лице, черты стали строже, уголки губ опустились, а морщинки на лбу пролегли глубже, словно скульптор резцом провел по глине. Рыдз посмотрел на него и махнул рукой.
– Отдайте там… какие-нибудь распоряжения… Рыдз повернулся, ушел, не затворив дверь; из других комнат доносился затихающий стук каблуков.
Мысли, острые, как иголки, и короткие, как укол, промелькнули в голове Ромбича. Гордость: «Стахевичу приказал, мне предоставил свободу действий. Что же это значит? Неужели… Стахевичу приказ – организационный, квартирмейстерский. Оперативные задачи – мне, по моему усмотрению… Главнокомандующий принимает решение только по важнейшим вопросам. Значит, эвакуация уже представляется ему более важной, чем…»
Он тряхнул головой, поспешил в свой кабинет и едва не упал на колени перед картой, как перед святой иконой. Лещинский снова переставлял флажки. За Петроковом, перед Вольбужем, двигалась на Томашув немецкая танковая группа. Надорванный красный флажок лежал на полу, красиво выписанная тушью цифра «девятнадцать» свернулась, согнулась пополам. Ромбич схватил флажок, смял и бросил в корзинку, затем потребовал донесений о состоянии двадцать девятой и тринадцатой. Лещинский качал головой: прошло больше двадцати часов, быть может, донесения уже устарели. Ромбич хлопнул кулаком до столу, приказал поторопиться. Полчаса спустя он кричал Домбу:
– Немедленно, этой же ночью атаковать неприятеля силами двадцать девятой, прошу отметить, батальон из района… в направлении… два батальона с батареей в направлении… дивизионные танки…
– Нет танков! – кричал Домб-Бернацкий. – У двадцать девятой нет танков, впрочем, танки ночью!..
– В таком случае возьмите один батальон из тринадцатой!
– Но… двадцать километров… четыре часа марша! Прошу главнокомандующего доверить мне тактическую разработку операции.
– Повторите приказ! – Ромбич был непреклонен. – Доложите о выполнении!
Он вытер лоб, забыл про усталость. Этому пустозвону нельзя разрешать самостоятельные действия. Стопка телеграмм из армий «Торунь», «Модлин», «Нарев». Он отодвинул их: ничего серьезного там не может случиться! Подтвердил согласие на перегруппировку двух дивизий из группы «Нарев»: они намерены с рожанских предмостных укреплений атаковать немцев, с неослабевающим упорством преследующих армию «Модлин».
Ромбич бросился на диван. Было три часа. Он долго лежал, но не мог заснуть, у него дрожали щеки, пальцы, локти. Томашув, как четыре дня назад Ченстохов, как три дня назад Родомско, а вчера Петроков; Томашув преследовал его в полусне, мысли о Томашуве возникали одновременно с болями в сердце, с колотьем в левом боку; неясные сновидения сопровождались болевыми ощущениями. Кто-то, кажется Слизовский, кричал: «Вот тебе Томашув!» – тыкал палочкой в карту, продырявил ее, и Ромбич ясно почувствовал, как холодный металлический кружочек прикоснулся к самому его сердцу.
– Пан полковник, шесть… – Это говорит Лещинский. – Капитан Слизовский добивается…
– Кофе… – у Ромбича болел затылок от лежания на жестком валике дивана. Лещинский развел руками:
– Буфет уехал…
Ромбич, взбешенный, накинулся на телеграммы. Дежурный оперативный офицер рассортировал их, выписал наиболее важные сведения, сопоставил с прежними. Ромбич читал их в расстройстве чувств, разговор о кофе напомнил ему о главном: началась эвакуация ставки. Телеграммы были мрачные, активность немцев возрастала по всему фронту, за исключением района армии «Познань».
– Что сообщают из Томашува?
Известий не было. Ромбич даже захрипел от ярости: вчерашнее молчание Домба заставляло и сегодня ожидать самого худшего. Он уставился на карту, стараясь представить себе это самое худшее. Двадцать девятая по-прежнему стояла возле Пилицы, между Томашувом и Вольбужем, тринадцатая торчала под самым Томашувом. Он приказал любой ценой разыскать Домба.
А потом его бешенство обрушилось на более близкую цель – на Слизовского.
– В хорошее дело вы нас втравили! – приветствовал он его, шипя от злости. – Ну, как обстоит с отдыхом бронетанковых групп?
Слизовский развел руками. Впервые ему изменила обычная развязность. Наскок Ромбича явно его обескуражил.
– Пан полковник! Наша оценка была ошибочной, признаюсь…
– Ошибочной, признаетесь! – Ромбич растягивал рот, передразнивая Слизовского. – Ну и что теперь – поставить в угол непослушного мальчика, да?
Он смотрел Слизовскому в глаза, пытаясь найти уязвимое место, чтобы еще поиздеваться над ним. Однако глаза Слизовского говорили о его способности сопротивляться, они были куда жестче, чем слова, и это еще сильнее взбесило Ромбича.
– Приходит сюда этакий великий мастер разведки, убеждает, едва ли не приказывает. И выясняется, что все это липа! Немцы не нуждаются ни в какой передышке; напротив, прут еще сильнее. И то, что три дня назад, быть может, еще удалось бы вытянуть, теперь…
– Вы совершенно правы, пан полковник. Я виноват. Прошу по отношению ко мне принять меры…
Ромбич вскочил, кинулся к Слизовскому с кулаками:
– Меры? Полевой суд, а?
– Так точно. Под суд…
– И-и-и-и! Герой! Что с того, если расстреляют одного сопляка? Кто мне вернет познаньские дивизии, которые теперь… – Он провел рукой по лбу, с минуту помолчал, мысленно сокрушаясь: «Я был прав, когда еще три дня назад собирался бежать за Вислу, и только заверения, почти клятвы этого щенка удержали меня. Воистину великий человек не вправе менять свои решения». – Понимаете ли вы по крайней мере, что вы натворили? Сорвали мой план, мой план! Единственно правильный! Мой!.. – Он смотрел на Слизовского и, заметив, как удивленно заблестели его глаза, спросил: – Как, вы уже забыли, ясновельможный пан? Насчет отступления за Вислу, пока не поздно.
– Ах… – вырвалось у Слизовского.
– Что ах?
– Ведь Кноте первый…
– Кноте! Вы сравниваете меня со шпионом! Ну, это уже…
– Генерал Кноте умер… – безразличным тоном сказал Слизовский.
Ромбич вскочил, вытаращил глаза, руки у него тряслись.
– Сегодня ночью, во время налета… – спокойно добавил Слизовский.
Теперь оба молчали, один уставился в пол, другой в потолок.
Лещинский просунул голову в дверь, потом протянул руку и подал Ромбичу пачку бумажек.
– Что в городе? – вырвалось у Ромбича. – Налеты?
– Ночь прошла тихо. Была тревога, но без бомбежки…
Странно, после того как за Лещинским закрылась дверь, у Слизовского словно прибавилось самоуверенности. Он даже взглянул на Ромбича, прищурив глаз. И Ромбич не крикнул, не позвал жандармов, не схватился за пистолет. Он смотрел еще некоторое время на капитана, потом не выдержал его взгляда и опустил голову.
– Генерал Кноте умер, – повторил Слизовский. – Во время налета. Быть может, не ночью, быть может, вчера вечером, быть может, днем. Мы как раз готовим сообщение для радио. Вы правы, не следует особо привлекать внимание общества к этому факту. У нас есть более серьезные неприятности.
Ромбич не выдержал, он даже крикнул:
– Избавьте меня! Это ваше грязное дело! Не припутывайте меня к нему!
– Простите, пан полковник. Прежде всего не надо терять голову и делать глупости. Счастливый случай – то есть немецкая бомба – уберег нас от излишних хлопот. Вы сами рекомендовали установить слежку за Кноте. Да-да, пан полковник. Еще до войны. И в присутствии майора Лещинского… Впрочем, вы все прекрасно помните. Вы еще по своей привычке облаяли меня, когда я предложил принять меры в присутствии третьего лица…
Ромбич бессмысленно тыкал карандашом в кучу телеграмм. Оба молчали. Слизовский потянул носом, безо всякого сочувствия поглядел на опущенную лысоватую голову полковника, потом снова заговорил:
– Если разрешите, пан полковник, я перейду к более срочным делам.
– Пожалуйста, – глухо сказал Ромбич.
– Сведения у нас неблагоприятные. Группа фон Клюге в основном закончила железнодорожные перевозки и сосредоточивается на левом фланге Кюхлера. Большая танковая группа появилась перед Ломжей – Остроленкой…
Ромбич оживился:
– Вы преувеличиваете насчет Остроленки. Что с Томашувом?
– Сведения точные, пан полковник. Наступающую группу усиливают свежими частями. Атака будет возобновлена, вероятно, это уже случилось… Цель – Варшава, теперь совершенно ясно. Однако…
– Ну, ну!
– Именно Ломжа, пан полковник!.. Послушайте, пожалуйста… Удар на Ломжу и дальше, через Буг на Седлец, при одновременном движении на Варшаву со стороны Петрокова…
Собака, кнотевская собака! Ромбич видел сухое лицо покойного, слышал, как он лязгает зубами, чувствовал еще свою тогдашнюю обиду, смотрел на Слизовского и не мог отважиться на какую-либо реплику, не решался задать вопрос.
– Пан полковник! – Слизовский снова навязчиво демонстрировал свое обычное усердие в службе и старался придать голосу более теплые нотки. – Зря вы принимаете так близко к сердцу эту историю. Вам нельзя поддаваться настроениям, нельзя распускать себя. В конце концов Кноте был прохвост и, пожалуй, даже шпион. До войны его теория была пагубной, но, используя ее в соответствующий момент, вы поступили совершенно правильно, пан полковник. Это мы, как бараны, поверили неточным, быть может, умышленно подтасованным донесениям…
Лечение лестью оказалось настолько успешным, что Ромбич снова обрел способность выражать нетерпение и гнев.
– Конкретнее, в чем дело?
– Надо бежать как можно скорее! И не только армия…
– Я знаю, правительство…
– Правительство! – Слизовский пожал плечами. – Правительство уже несколько дней сидит на чемоданах. Первые группы уехали еще позавчера. Нечто более важное…
– Ну!
– Варшава! Предположим, она будет обороняться, хотя стратегически это абсурд. Но Варшава ведь не только коммуникационный узел, ключ обороны Вислы, резиденция правительства и тому подобное и тому подобное. Варшава – это также огромный людской массив, в Польше самый большой…
– Ну и что с того?
– Пан полковник! Вопрос теперь в том, способны ли мы воссоздать резервы. В любой день может начаться распутица, темп действий тогда замедлится. Варшава – это приблизительно сто – сто пятьдесят тысяч мужчин призывного возраста, еще не взятых в армию. Равноценно десяти дивизиям!
– Ну и что же, их формируют в Цитадели…
Слизовский махнул рукой.
– В таком темпе! Если надломится оборона на Нареве… танки… в течение двух дней Варшаву отрежут с востока…
– Вы правы. – Ромбич наконец понял. – Прикажу разослать повестки…
– Так точно! – Слизовский кивал головой. – Повестки или что-либо другое. Надо приготовиться к тому, чтобы увести из города в течение одного-двух часов всех резервистов, а попросту всех мужчин, способных носить оружие…
– Легко сказать!
– Я понимаю, что сделать это нелегко, но надо. Впрочем, у меня есть идея. Может быть, с помощью радио?
Ромбич задумался:
– Может быть.
– По радио, – загорелся Слизовский, он снова становился развязным, как лихой пятнадцатилетний подросток, которому успех быстро придает храбрость. – Я придумал, используем полковника Умястовского, его все слушают…
Ромбич поморщился: ему не нравился Умястовский, он считал его шутом, внезапная его популярность плохо вязалась с авторитетом полковничьего мундира. Но Слизовский так увлекся своим планом, что его трудно было удержать. В конце концов они решили согласовать выступление Умястовского с министерством внутренних дел.
– Разумеется, – добавил Слизовский, – пан министр Бурда тоже найдет, что сказать по такому поводу…
Ромбич пропустил мимо ушей это провокационное замечание. Слизовский на прощание перечислил, какие части противника выявлены между Элком и Наревом, поглядел на Ромбича, словно прося его не забывать о Нареве, и ушел.
Было восемь часов. День только начинался. День, какой день: поток, лавина известий, путаных, неполных, неясных, но все более проникнутых отчаянием!
Около десяти пришли сообщения о результатах ночного наступления двадцать девятой. Полный провал. Батальоны, предназначенные для атаки, сбились с направления, действовали несогласованно, в разное время и понесли огромные потери. Остатки дивизии, переправившись через Пилицу, удирали на восток. Домб-Бернацкий докладывал об этом не без странного, но тем не менее явного удовлетворения, особо подчеркивая точность выполнения приказов ставки и тем самым как бы указывая, что в них надо искать причину катастрофы.
Не успел Ромбич ему возразить, как посыпались вести с Нарева. После разговора со Слизовским он уже не мог от них отмахнуться. Предсказания подтвердились: атака на Остроленку; сильный удар на предмостные укрепления Рожана; неприятель, преследующий остатки армии «Модлин», сворачивает на Пултуск.
Около полудня новое сообщение: немецкая кавалерия под прикрытием танков переправилась через Нарев. Млот-Фиялковский кричал об этом дрожащим голосом, подробностей он еще не знал. «Свершилось! – думал Ромбич. – Слизовский ведь на самом деле все знает! Что теперь делать, что делать? Умястовский?»
Потом, однако, выяснилось, что кавалерии этой немного. После полудня удалось наладить связь с Пекарским, командующим сорок первой дивизией.
– Контратака на Рожан! – кричал Ромбич. – Вместе с тридцать третьей! Да! Да! Вы командуете…
План операции, казалось, восхитил Пекарского, он клялся, что выполнит приказ, благодарил за доверие.
Ромбич перевел дух, вытер пот со лба. В течение нескольких минут даже положение Томашува не представлялось ему безнадежным: там ведь есть еще тринадцатая дивизия – нетронутая! Он приказал Лещинскому отвечать в успокоительном тоне на звонки из разных министерств. «Наделали в штаны, – думал он со злостью, – сидят на чемоданах, что им еще осталось? Ну и пусть сидят, я буду за них мучиться».
Только Бурду он не пожалел: позвонил к нему сам и наговорил начальнику его кабинета всяких страстей, срочно добиваясь согласия на план эвакуации призывников в случае дальнейшего ухудшения положения на фронтах. В трубке послышалось испуганное сопение, и Ромбич, не скупясь, подбрасывал все новые панические подробности. Он не слишком хорошо понимал, зачем так поступает, ему только казалось, что было бы вопиющей несправедливостью щадить нервы Бурды, в то время как он, Ромбич, выбивается из последних сил.
– Все, пока! – кричал он. – Жду ответа относительно мужчин, способных носить оружие… пусть ваше министерство потом не сваливает на нас, будто без согласования…
Под вечер, вызванный по какому-то пустячному делу в военное министерство, он вырвался из убежища, где было душно: вентиляция действовала отвратительно и он чувствовал, что и пяти минут больше не выдержит.
Возвращался он час спустя; высунул голову из автомобиля и смотрел.
Мрачен был вид Варшавы в тот вечер. Далекий дым над Волей расплывался в темную грозовую тучу. На улицах пусто, только возле репродукторов толпы людей. Все словно сразу похудели: лица вытянулись, черты обострились, под глазами появились черные круги, во взглядах ненависть. На углу Маршалковской машина замедлила ход, донесся чей-то истерический голос, мостовую запрудила толпа; задрав голову, все прислушиваются к голосу из репродуктора. Ах, это последний кумир, наш польский Кейпо де Льяно [66]66
Один из самых оголтелых приверженцев генерала Франко во время гражданской войны в Испании 1936–1939 годов.
[Закрыть]!
Шофер тщетно сигналил. Умястовский грозил, заклинал, заверял, пугал. Люди неприязненно оглядывались на застывшую на месте машину, полковничьи погоны не производили на них особого впечатления, они даже отпускали сердитые замечания в адрес сановников, разъезжавших в лимузинах.
Наконец Ромбич проехал мимо этого человеческого скопища; вдруг какая-то старая баба, толстая и растрепанная, в помятом черном жакете, заглянула в машину.
– Полковник! – воскликнула она. – Ведь вы полковник Ромбич! Не узнаете меня? Ну как же, в Замке…
– Поехали, – сердито шепнул Ромбич шоферу и обернулся, когда они уже были далеко. Женщина все еще стояла, жалобно глядя им вслед, потом заковыляла назад к рупору. Это ведь та, как ее? Гейсс? Приятельница Бурды! Он отметил этот факт не без удовлетворения: вот как низко пали клевреты Бурды, шляются по улицам пешком, вместе с серой массой торчат у репродуктора…
Пулавская, Раковецкая, потом свернули вправо. У ворот часовые, и Ромбич обо всем забыл, остались только Томашув, Нарев! Едва он успел спуститься вниз, к нему кинулись сразу Лещинский Слизовский и двое незнакомых.
Слизовский оказался самым расторопным и оттащил его в темный угол:
– Очень плохо, – прошептал он, – под Остроленкой до трехсот танков, еще столько же под Рожаном…
– Не может быть! – вырвалось у Ромбича; он не успел расспросить о подробностях, потому что один из незнакомцев всунул ему конверт, тяжелый и твердый из-за множества сургучных печатей.
– От министра Бурды, очень срочно, распишитесь, пожалуйста!
Лещинский сказал ему на ухо:
– Маршал беспокоится, тринадцатая дивизия…
Ромбич растолкал всех; Слизовский бежал за ним еще несколько шагов и шептал:
– На Буг – раз, эвакуация – два, очень плохо…