Век перевода (2006)
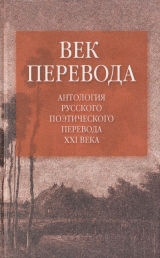
Текст книги "Век перевода (2006)"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
УИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ {101} (1770–1850)
Разгорается свет. Вот всё ярче восход.
Шепчет счастье: «Я рук уж твоих не миную»,
И беглянки-надежды, как в пору былую,
Вкруг меня вновь не прочь закрутить хоровод.
Нет – иронии жалкой с губою поджатой!
Да рассеется морок погибельных снов!
Да рассыпется ворох погубленных слов,
Где господствует ум над душою крылатой.
Не ищу я забвенья в грехе пития,
И спокойно, не с стиснутыми кулаками,
Разминусь я со встреченными дураками:
Поостыла давно уже ярость моя.
Я прошу, чтобы Он, весь лучащийся светом,
Мою черную ночь осветил бы до дна,
Чтоб впервые, как милость, была мне дана
Та любовь, что улыбкой бессмертья согрета.
За очами, где теплится тихий огонь,
Я отправлюсь вослед по кремнистым дорогам.
Я пройду напрямик и по горным отрогам,
Если чувствовать буду твою я ладонь.
Или попросту так: без сомнений тяжелых
Я иду к своей цели дорогой прямой.
Знаю: каждый мой шаг предначертан судьбой,
Знаю: радостный долг мой в сраженьях веселых.
Ну а чтоб скоротать нам длинноты пути,
Пару песенок новых тебе напою я,
Благосклонно послушаешь – буду в раю я,
Лучше рая мне, право, нигде не найти.
БЛИСС КАРМЕН {102} (1861–1929)
К верхам далеким тянется распад,
Чтоб в глубину басов уйти. И нот
Ужасных тех вовеки не прейдет
Согласие. И в смерти есть свой лад.
Но он не слышен тем, кто знает глад
Преступных мыслей. Их удел – тоска.
И правда не прейдет. Но как хрупка
Любая ипостась ее! От гряд
Вчерашних туч не видно и следа.
Исчез и белый многоглавый град,
Воздвигнутый как будто на века
На месте леса. Рухнул он, когда
Раздался крик, и скрытая рука
Вдруг стерла всё, коснувшись наугад…
Верно, в осени просторной что-то родственно со мной —
Образ, облик или строй.
В рифму сердце говорит
С желтым, пурпурным, багряным, что сейчас вокруг горит.
И клена яркий всполох меня пробудит вдруг,
Как труб призывный звук.
Мой дух уж за холмом,
Что весь в замерзших астрах, как в облаке седом.
Кровь цыганская бунтует в октябре всего сильней.
Отзовись и следуй ей.
Она ходит по холмам.
Сзывает всех бродяг по именам.
(Молитва язычника)
О нет, я не боюсь. Я неустанным
Стал соглядатаем твоих чудес,
Когда впервые прошептал: «Как странно»,
Войдя ребенком в заснеженный лес.
И я всё тот же! Как бы сиротлива
Земная наша гавань ни была,
Пусть из нее во внешние проливы
Любовь моя навеки перешла —
К тебе тянусь сыновнею душою,
И ты, как мать, склоняешься ко мне,
Я слышу тот же голос, что порою
Бывает слышен травам на холме.
Когда, тебя не ощущая рядом,
Покинутый, я зарыдал в тоске,
Ободрили сочувствующим взглядом
Меня леса. На древнем языке,
Понятном только звездам и закатам,
Приязненно со мною говоря,
Утешил ветер, приобщив к крылатым
Словам таинственного словаря.
Не дай, когда последний вихрь завоет,
Мне смертный холод встретить одному —
Пускай меня твои объятья скроют,
Не подпустив сгустившуюся тьму.
Пусть ураган, трубя освобожденье,
Бессилен будет твой нарушить строй,
И пусть во мраке, посреди смятенья,
Сияет ровным светом твой покой.
ОЛЬГА КОЛЬЦОВА {103}
РОБЕРТ САУТИ {104} (1774–1843)
Схвачен Рупрехт-разбойник, каналья и плут,
В славном Кёльне, – скорехонько справили суд:
Приговор оглашен, от петли не спасут
Бедолагу ни фарт, ни сноровка,
Ждут его два столба да веревка.
От возмездья за мзду всё одно – не уйти,
Но заверил монах: есть иные пути,
Откуплю – и обет не нарушу, —
Отмолю многогрешную душу.
Вторит братия хором: мол, это почет —
Чистоганом Всевышнему дать под расчет,
И добро твое будет на месте,
А уж мы отпоем честь по чести!
За тебя все святые мольбу вознесут,
Чьи нетленные мощи покоятся тут,
Коли щедры твои воздаянья
На их нужды и благодеянья.
На Волхвов уповай, – молвят, руки воздев, —
На одиннадцать тысяч умученных дев,
Кёльн – хранитель священного праха,
И душа не изведает страха!
И обитель монашья помянет добром
Удальца, искупившего грех серебром,
Нас вниманьем своим не обидишь —
Невредим из Чистилища выйдешь.
Там бушует огонь – вавилонского злей,
Не щадит ни безродных он, ни королей,
Попечением рати Господней
Ты нетронут придешь к преисподней.
Будет всё по-людски: отдавая концы,
Уследишь, как читали святые отцы
Из Писанья, как в колокол били,
Как веревку украдкой кропили.
Но негоже предать твое тело земле,
Будет Рупрехт-разбойник болтаться в петле,
Чтоб прохожие, днем или ночью,
В том могли убедиться воочью.
В Дюссельдорфе, равно как и в рейнском краю,
Лицезреть перекладину смогут твою,
Юг, и север, и запад равнинный
Насладятся приметной картиной.
Будет виселица отовсюду видна,
И для взора любого отрадна она:
Имя Рупрехта долгие годы
Означало беду и невзгоды.
К месту казни монахи явились чуть свет,
Дабы выполнить Рупрехту данный обет.
И с почтеньем, отнюдь не с проклятьем,
Совершилась расправа над татем.
В кандалах его вздернули, и поделом!
Но водой окропили, пропели псалом,
Умилялась вся братия долго
Исполненью последнего долга.
На закате толпа разбрелась по домам,
Возвратились зеваки к обычным делам,
Лишь, неверным охваченный светом,
Рупрехт темным висел силуэтом.
Любопытный порой озирался назад,
Дабы бросить на жертву решительный взгляд.
Но с восходом народ изумился:
Из петли Рупрехт-висельник смылся.
Нынче в Кёльне иная царит суета,
Озадаченный люд не поймет ни черта.
Нет висевшего головореза,
И куда подевались железа? —
Лишь удавка цела, без надреза.
– Чудеса, мы таких не видали пройдох!
Ведь болтался в петле он, покуда не сдох!
И весь день провисел, как колода,
На глазах у честного народа.
И палач говорил: мол, на то я и кат,
Чтобы службу исполнить свою в аккурат.
Я всю душу вложил, без боязни
В совершение праведной казни.
И соседи, и кровная даже родня
Убоялись бы, совесть грехом бременя,
Выкрасть Рупрехта бренные кости
Да еще схоронить на погосте.
Или был нечестивец по чести казнен
И поэтому чуда сподобился он?
Или здравствует он и поныне?
Или прах его подле святыни?
Если впрямь в освященной земле его прах,
Диво дивное в наших случится краях;
Если жив – посвятит себя Богу,
На блаженную встанет дорогу,
Устремляясь к святому чертогу.
Без сомненья, чудесное просит чудес.
Отошедший столь дивно – достигнет небес!
Люд гадал, помирая со смеху:
Кто устроил такую потеху?
Неужели Волхвы, Кёльна гордость и честь,
Осужденному славную подали весть?
Или девы Урсулы блаженной,
Те, что в кёльнской земле погребенны,
Вняли мнихов молитве смиренной?
Утверждали одни – Короли, мол, Цари
Волхвовали о нем от зари до зари,
А другие твердили – Урсула,
Видно, в сердце его помянула.
А кому-то казалось, что славный исход
Явлен был издалече, с прирейнских широт,
Ибо Рупрехт рожденьем оттуда, —
Из-за Рейна ниспослано чудо.
Но тогда Дюссельдорфу – почет и хвала?
Страстотерпцами вчуже вершатся дела?
Значит, Кёльн чудесам не причастен,
И над дивом кудесник не властен, —
Кто ж останется тут безучастен!
Возроптали монахи от оных докук,
Ибо чудо почли делом собственных рук,
Это всяк подтвердит без натуги,
Не такое творилось в округе, —
Кто посмел умалять их заслуги!
Пересуды о том не смолкали семь дней,
Горожане судачили всё мудреней.
Вдруг застыли, не молвя ни слова:
Рупрехт в петле болтается снова!
Горожане глазеть повалили гурьбой:
Это Рупрехт, – галдели они вразнобой, —
Труп как труп, не подобен фантому,
Но свеженек, не сгнил по-земному
Знать, заклятью подвержен дурному.
Как же так, – пронеслось над притихшей толпой, —
Был казнен в башмаках он, а я не слепой!
Поползли по толпе разговоры:
К башмакам приторочены шпоры!
Значит, Рупрехта где-то носило верхом,
После смерти скакал, одержимый грехом!
Этой вести народ поневоле
Удивлялся всё боле и боле.
Рупрехт не был в жокейский наряд облачен
В день, когда так исчез неожиданно он!
Вот и нынче в цепях, чин по чину, —
Видно, тайна скрывает кончину.
Может, зря нам твердили святые отцы,
Что столь праведно Рупрехт откинул концы?
Может, чудо устроили не чернецы?
Стал от ужаса воздух кромешен:
Не иначе, здесь дьявол замешан.
Был нам Рупрехт проклятьем, – шептался народ, —
Нет, повешенный проклят, лукавый не врет!
Окаянный стращал всю округу,
С мертвяком – сам помрешь с перепугу.
Спятишь, даже представив того скакуна
И того, кто решился ступить в стремена.
Труп, на адской гарцующий кляче, —
Вся земля содрогнулась бы в плаче!
Надо в землю поглубже его закопать,
Камнем рожу прижать – пусть не шастает тать.
Препожалуют к нам экзорцисты,
Дабы сгинул навеки нечистый.
Впрочем, те, кто в познаниях был искушен,
Говорили: могила – дрянной ухорон.
Одержимому силою ада
Гроб – не крепость, земля – не преграда,
Коль захочет – пойдет куда надо.
Здесь, в святая святых трех библейских Царей,
Отродясь не знавала земля упырей.
Рупрехт хуже вампира-злодея.
Экзорцисты – пустая затея!
Лишь огнем можно чертову выжечь алчбу,
Прах сожженный не будет вертеться в гробу,
Не посмеет идти на подначки
И устраивать адские скачки.
Но твердили иные: а как же секрет?
Кто на тайну прольет очистительный свет?
Надо бдеть в этом месте мистичном!
Пособившую в зле неприличном —
Стоит ведьму ущучить с поличным.
Ибо как же без ведьмы в таких-то делах? —
Это каждый поймет, невзирая на страх.
Раз такая случилась оказия,
Мы узнаем про все безобразия!
Так в догадках и спорах томился народ,
Но не двинулось дело ни взад, ни вперед.
О чудовищном столь произволе
В славном Кёльне не знали дотоле!
Был известен в округе весьма Питер Сной,
Жил в окрестности Кёльна он с сыном, с женой.
И пока всех терзала забота,
Он вошел в городские ворота.
И пустился на поиски духовника,
Ибо тяжесть на сердце была велика.
Старый Кейф удивился изрядно:
Видно, с Питером что-то неладно.
Но, узнав, что покаяться Питер решил,
Кейф вскричал: «Да когда ж это ты нагрешил?
О котором поведаешь деле?
Ты ведь был здесь на прошлой неделе.
Ты же чист перед Богом и перед людьми,
Ибо кроток, смиренен и честен вельми.
Будь вся паства столь твердого нрава,
Небу стал бы угоден я, право!»
Раньше с легкостью каялся Питер в грехах,
Нынче в недоуменье терялся монах.
Питер мямлил, и экал, и мекал.
Старый Кейф ничего не кумекал.
Только странным казался святому отцу
Страх, по честному столь пробежавший лицу.
Прегрешенье, вестимо, поболе,
Чем монах заподозрил дотоле.
Питер с Рупрехтом в деле повязан одном, —
Значит, Питер повинен в том деле дрянном!
Да минует нас грех чародейства,
Нет страшнее на свете злодейства.
Питер Сной ухмыльнулся, глаза опустив,
Он смущен был и хмур, но отнюдь не строптив,
И с усмешкой взглянул на монаха,
Удрученно, хотя и без страха.
«Проживаю полвека я здесь, Питер Сной,
И у Церкви забот не бывало со мной.
Я исправный вполне прихожанин,
И с тобой разговор безобманен.
Даже дьявол, случись обоколь, не дай Бог,
Уличить меня в страшном грехе бы не смог!
Да и в ереси, думаю, тоже.
И посмей он – злодея устрожу,
Просто плюну в поганую рожу».
Тон подобный был Кейфу отраден и мил —
Питер к дьяволу явно не благоволил,
Ярость Питера старцу по нраву,
Радость в сердце за эту расправу, —
Словно выпили оба по чарке вина.
Чтобы боле на ум не пришел сатана,
Сной добавил: «Я тайну раскрою,
Этим совесть свою успокою.
Ты же знаешь, я мирный вполне человек,
Ни в раздоры, ни в ссоры не лезу вовек.
Получилось на деле другое,
Но намеренье было – благое!
Сам ты можешь разделать меня под орех.
Но прошу, отпусти мне неведенья грех,
Это будет спокойней и лучше для всех, —
К новым бедам ведет промедленье, —
Разрешить надо недоуменье.
Я поведаю всё тебе как на духу,
Восприми же без гнева сию чепуху,
Не вреди только сыну и мне, лопуху.
Мы дурного отнюдь не хотели,
Мы о благе всеобщем радели.
Я и сын мой возлюбленный, Пит Питерсон,
Возвращались, – луною сиял небосклон,
И не лезли ни сын мой, ни я на рожон.
Это было в ту ночь после казни,
Мы катили себе без боязни.
Мимо виселицы проезжал наш фургон,
Мы расслышали стон, долетавший вдогон.
Сын и я помертвели от жути,
Но решили дознаться до сути.
Кто-то явно стонал, но не призрак, не дух.
И промолвил мой сын тут решительно, вслух:
«Это Рупрехт, прости меня, Боже, —
Он не умер сегодня, похоже».
Так и есть, этот плут оказался живой —
В том поклясться могу я своей головой!
Ибо из-за цепей и колодок
Был подвешен он за подбородок!
Оказалась веревка не в меру длинна,
В чем видна палача-неумехи вина.
Как посмели сего бракодела
Посылать на серьезное дело!
И покуда зеваки шумели кругом,
Рупрехт в петле болтался недвижным бревном.
Но закончилась эта морока,
И бедняга без всякого прока
Под луною стонал одиноко.
Мы в гостях засиделись в тот день допоздна,
На крестинах – как можно не выпить вина!
Были мы веселы, бестревожны,
Разве капельку неосторожны.
Не по-божески мимо проехать тогда,
Коли с ближним твоим приключилась беда.
Пусть разбойник и был многогрешен,
Но… того…он же недоповешен!
Милосердно из петли его извлекли.
Ведь о славной кончине легенды пошли!
А чудесное это спасенье —
Словно знаменье и наставленье.
Потому мы вдвоем, я и Пит Питерсон,
Втихаря положили беднягу в фургон,
Дома цепи заботливо сняли,
Чтобы нам ни на что не пеняли.
Знала тайну одна только Элит, жена,
Добродетельна и не болтлива она.
Не хвалясь, я мужчина изрядный,
Доверяю жене безоглядно.
Элит-умница лучший могла дать совет,
С ней и с сыном, втроем, мы хранили секрет.
Рупрехт пообещал, что исполнит завет!
Мы уверены были всецело,
Что благое содеяли дело!
Представляешь, как мы потешались тайком
Над молвою, что Рупрехт святыми влеком!
Что Волхвы помогали бедняге
В таковой уцелеть передряге,
Что святая Урсула и тысячи дев
За бандюгу молили, ладони воздев.
И Волхвам, и Святой, право слово,
Дел хватало без черта кривого.
Стоя в гуще зевак, я и Пит Питерсон
Зубоскалили, можно сказать, в унисон,
Ибо знали секрет и держали фасон.
Мы людей дураками считали,
Впрочем, сами от них не отстали.
Отче Кейф, но когда рассказал я жене,
Что народ говорит, та ответила мне:
Мол, те люди разумны бесспорно, —
И восторг ее был непритворный.
«Уповал же разбойник на помощь святых!
И по вере пришло воздаянье от них.
Кто так ловко веревку накинул,
Кто столь славно кончину отринул?
Здесь никак не могло обойтись без чудес,
Это ж ясно, что помощь явилась с небес!
Вас же с Питом вело провиденье
За усердное ваше раденье.
Благодарно и с трепетом должно понять.
Что нам выпало в чуде участье принять!
Три Волхва и святые хранители —
Столь нечаянные покровители!
Вот какая троим нам оказана честь —
Мы должны этот факт непреложно учесть,
Подозреньями душу свою не бесчесть».
Отче, так рассудила супруга,
Убедив в том и Сноя-супруга.
Святый Боже, как мог на святых я грешить,
Что злодея мешали они порешить!
Коль висел бы он прочно, не худо, —
Тут святые явили бы чудо!
Если недоповешен, – валяй, доповесь,
А иначе, палач, для чего же ты здесь?
Справь работу сперва, а потом куролесь!
От повторного к петле визита
Ты меня бы избавил и Пита!
Кейф, мы Рупрехту пищу давали и кров.
Наконец-то откормлен он стал и здоров.
И, его отпуская из дома,
Знал я – жизнь его свыше ведома.
Не свершивши добра, не обрящешь и зла.
Так не мыслю, но скверные вышли дела:
Лиходею – и казнь не наука,
Да и петля ему – не порука.
Отче Кейф, как настала вчерашняя ночь,
Разбрелись мы по спальням с домашними прочь.
Рупрехт вывел из стойла лошадку,
Он и упряжь добавил вприкладку.
Но ворочалась Элит, не в силах уснуть,
Догадалась, что лошадь хотят умыкнуть.
Разбудила меня, растолкала
И понудила сцапать нахала!
Моя славная Элит смекнула меж тем,
Кто кобылу увел, и куда, и зачем.
Не успели курнуть мы – по тропам
Кони рысью неслись и галопом.
Уверяю, что был это вовсе не сон, —
Как скакали мы, я и мой Пит Питерсон!
Без луны же окрестность безвидна.
Участь наша была незавидна.
Но мы знали округу, считай, назубок
И нагнали мерзавца, проделав рывок.
Чуть ножом не был я отоварен!
Рассуди, отче Кейф, сколь коварен
Тот, кто должен быть мне благодарен!
Мы скрутили его, мы связали его —
Всё же были вдвоем супротив одного!
Удалось обратать нам детину —
Мне и Питеру, славному сыну.
Мы опутали вора с макушки до пят,
Чтобы сверзиться подлый не смог супостат.
Оказалось веревок в достатке.
Приторочили вора к лошадке.
«Пит, с тобой мы нарушили Божий закон:
Ведь укравший спасения будет лишен.
Пусть возьмут нас с тобою под стражу,
Но должны возвратить мы покражу».
На бандюгу надели его кандалы,
Дабы не было нам за чужое хулы.
Как мы к виселице торопились! —
Ведь на важное дело стремились:
Нам не надо, чтоб люди глумились.
Как и давеча, петля висела, цела.
Мы веревку отмеряли, – что за дела!
Что палач недоделал почином,
Было кончено махом единым
Мной и Питером, доблестным сыном!»
ШЛОМО КРОЛ {105}
ШМУЭЛЬ ХА-НАГИД {106} (993 – 1056)ШЛОМО ИБН-ГВИРОЛЬ {107} (1021/22 – после 1045)
Будь море между нами – мне
Ужель препятствие волна,
Чтоб я твой прах не посетил
С душой, что трепета полна?
Тогда б я братству изменил,
На мне была б моя вина!
Увы, о брат, я здесь сижу,
Где плоть твоя погребена,
И в сердце, как в тот день, когда
Ты умер, – так же боль сильна.
Я говорю тебе: привет,
А мне в ответ – лишь тишина,
И мне навстречу не придешь
Ты, как в былые времена,
И мне не пить вина с тобой,
Тебе не пить со мной вина,
Ты лик не видишь мой, а мне
Твоя улыбка не видна,
Ведь дом твой нынче – мрачный гроб,
Шеол теперь – твоя страна.
Да будет доля в мире душ,
Мой старший брат, тебе дана!
Я в землю ухожу свою,
А над тобой земля черна.
Мне – ночью спать, вставать с утра,
А ты не встанешь ото сна.
И о тебе, пока живу,
В душе – печали пламена!
Смотри, алеет солнце в час вечерний,
Надев багрец, на западном пределе,
Снимая ризы с полночи и с юга,
И волны моря пурпур свой надели,
Земля же остается неприкрытой,
В одной рубахе тьмы ночной на теле;
И небо вмиг покрылось мраком, словно
Одеждой скорби о Йекутиэле.
Пой песню, о пчела, неспешным ладом,
Узнал «Шема» я, вняв твоим руладам:
Протяжное «Един», и звон «Запомни»
О Том, Кого узреть не можно взглядом,
Что мед вложил в уста твои, а жало,
На страх врагам твоим, наполнил ядом.
Пусть телом ты мала, но первородство
Тебе дано и ты с почтенным рядом,
Очищенная прелестями, птицам
Подобна ты, не насекомым гадам.
Коль мимолетна радость молодая,
И в персть земную мы сойдем, страдая,
И дни людские – тень, сосуд скудельный,
Что разобьется вдруг, не ожидая, —
К чему стремиться в мире, кроме Бога?
Всё в мире бренно, кроме Эль Шаддая.
Украв мой стих, ты отрицаешь ныне?
Разрушив благочестия ограды,
Чужим кичишься ты в своей гордыне,
Чтобы снискать в нем помощь и награды?
Когда на небе солнце светит ярко,
То могут ли затмить его Плеяды?
В моих глазах проступок твой ничтожен:
Не вычерпаешь кадкой водопады.
Ш ею склонив и преклонив колена,
Я в страхе пред Тобой стою смиренно.
Л ишь малый червь я пред Тобой, влачащий
Все дни свои во мгле земного плена.
О бъявши мир, и ангелы не вместят
Тебя, а кольми паче дети тлена!
М не ль восславлять Тебя? Твое величье
Безмерно, беспредельно, неизменно!
О , я умом стремлюсь к Тебе, Чье имя
Восславит всё, что жизнью вдохновенно.
ИЕГУДА ГАЛЕВИ {108} (до 1075 – после 1141)
Коль вожделенна горняя услада
И коль страшит тебя горнило ада,
Не дорожи мирским, да не влекут тебя
Богатство, слава и сыны-отрада.
Но принимай легко позор и нищету,
И что, как Селед, не родил ты чада.
Знай душу лишь свою: пребудет лишь она,
Когда прейдет телесная ограда.
Моя душа на востоке – я в закатной стране.
Найду ли вкус я в еде и наслажденье в вине?
И как обеты мои смогу исполнить, когда
Раб Идумеев – Сион, Араба узы – на мне?
Презрел бы я все сокровища Испании, коль
Узрел бы пепел святыни, что сгорела в огне.
Исполненный прелести, краса земель, град царя,
Е го я взалкал душой, от запада, чрез моря!
И жалости полон я о славе минувших дней,
Г рущу об изгнаньи, о гибели алтаря.
Я прах напоил бы твой горькой слезой, когда
У мел бы достичь тебя, на крыльях орлов паря!
Радею о граде я, что днесь в запустении,
Д ом царский, где змеи лишь кишат, в нем пути торя.
Развалины, сладостью меду подобные,
А х, как бы припал я к вам, любовью в душе горя!
К живому Богу страстию объята,
Душа моя взалкала града свята,
И я не обнял даже домочадцев,
Жену свою, друзей своих и брата,
Свой сад не оросил своей слезою,
Чтоб уродились в нем плоды богато,
Не вспомнил Иегуду с Азарелем —
Две лилии красы и аромата,
Не вспомнил об Ицхаке, что как сын мне —
Мой урожай восхода и заката.
И я почти забыл про дом молитвы,
Что был моей отрадою когда-то,
И праздников забыл великолепье,
Забыл про наслаждения Шаббата,
И свой почет я уступил невеждам,
Другим дана хвала моя, крылата.
Я променял свой дом на тень деревьев,
Был бурелом лесной – моя палата,
Постыли благовонья мне, и запах
Репья был вместо мирра и муската.
И перестал я ползать на коленях,
И в море устремился без возврата,
Чтобы узреть Всевышнего подножье
И там излить всё, чем душа чревата,
Врата свои раскрыть вратам небесным,
Встав у горы святой, что ввысь подъята,
Чтоб нард мой цвел от влаги Иордана,
Силоам силы дал корням граната.
Господь со мной – чего же мне страшиться?
Он охранит меня от супостата!
И вечно буду славить имя Божье,
Пока душа моя к Нему не взята.








