Век перевода (2006)
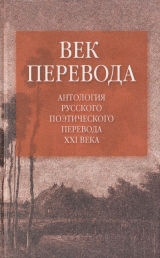
Текст книги "Век перевода (2006)"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Не знаю, отчего, но с давних лет
Живет предвосхищение во мне;
Оно – как будто трещина в стене,
Волшебный открывающая свет.
В нем ясности определенно нет —
Как будто вызываю я во сне
Воспоминанья о далеком дне,
Где приключенья дивного секрет.
Тогда леса, закаты мне видны,
Селенья, города, холмы и шпили,
Я слышу песни, что мы так любили,
И вижу море и огонь луны.
И стоит жить видений этих ради —
О них мечтаю я, как о награде.
Один раз в год, в осеннем грустном свете,
Над бездной океанской пустоты
Щебечут стаи птиц нам с высоты
О той стране, что держат на примете.
Сады там зеленеют на рассвете,
В них расцветают белые цветы —
Туда зовут неясные мечты
Птиц, забывающих о здешнем лете.
Они летят в одну из дальних стран,
Где город белобашенный встает, —
Но, лишь пустыня бесконечных вод,
Под ними расстелился океан.
Однако же из темной глубины
Им песни позабытые слышны.
Меня новинки вовсе не манят —
Мне в старом городке пришлось родиться:
Из окон крыш виднелась черепица
И в пристань упирался дальний взгляд.
Лучи заката лились с высоты,
Расцвечивая уличную пыль
И золотя церквушки острый шпиль —
Виденья детской сказочной мечты.
Сокровища, не ведомые тлену,
Соблазн для злобных призраков таят,
Что по дорогам спутанным летят,
Земли и неба пробивая стену.
Они, освободив меня от пут,
Встать одному пред вечностью дают.
Он стар был, когда нов был Вавилон,
Была его загадка долго скрыта;
И наконец из-под кусков гранита
Предстал, прекрасен, нашим взорам он.
Там было много древних прочных стен,
Широких мостовых и старых плит,
И изваяний фантастичный вид —
Вот мир, попавший в лет ушедших плен.
Вниз уводили ветхие ступени
К загадочным развалинам ворот;
Камнями был завален узкий вход —
Там древностей таинственные тени.
Но, вход пробив, мы крикнули «беги!»,
Услышав снизу грозные шаги.
Он телом оставался здесь всегда,
С рассветом он был дома, но лишь ночь
Пожалует, он духом мчался прочь —
Куда влекла полночная звезда.
Он видел Яддит, но хранил мечты,
Вернувшись целым из гурийских зон —
Оттуда, где в ночи скитался он
И слышал зовы труб из пустоты.
Проснулся как-то старцем он с утра —
И взгляды ближних были не милы,
И всё плыло, как из туманной мглы, —
Фантомы, ложь, пустая мишура.
Друзья не признают его своим —
Напрасно он тянуться будет к ним.
Над шпилями, нагроможденьем крыш
Всю ночь из порта слышатся гудки;
И к берегам, что страшно далеки,
Они несутся, нарушая тишь.
И каждого, кто ночью не уснул,
Влечет гуденье это через мрак;
С заливов, огибая Зодиак,
Сквозь космос к нам доносится тот гул.
Они ночами задают маршрут,
Который к темным сказкам нас несет;
И слышится нам эхо из пустот
Тех слов, которых люди не поймут.
И в хоре, что всё тише и слабей,
Земных мы не услышим кораблей.
Дорога уводила вниз – туда,
Где мшистые лежали валуны;
И капли, беспокойны, холодны, —
Невидимая капала вода.
Безветренно – ни вздоха и ни стона,
Молчали и деревья, и кусты;
И вдруг из непроглядной темноты
Возникла предо мной громада склона.
До неба возвышалась та скала,
И острый пик был страшен и высок;
А лестницей был лавовый поток,
Но для шагов крута она была.
Я закричал: что за звезда и год
Мне запрещают этот переход?!
Я увидал ее издалека —
Оттуда, где леса прикрыли луг;
Она сияла тускло мне, но вдруг
Вся вспыхнула, как золото ярка.
Спустилась ночь, и старенький маяк
Мерцающим сияньем бил мне в глаз;
Но светом ярче в миллионы раз
Звезда горела, разгоняя мрак.
И возникали в воздухе опять
Виденья прошлых лет – сады, леса,
Ночные башни, море, небеса;
С чего бы – не могу я вам сказать.
Но знал я, что в космической ночи
От дома моего шли те лучи.
В вещах старинных есть незримый след
Той сущности, прозрачной как эфир,
Которая пронизывает мир
И служит связью тех и этих лет.
И это – непрерывности печать,
Секретный ключ, открыть способный дверь
В закрытый мир, где прячется теперь
Минувшее – его не увидать.
Но в час, когда вечернюю зарю
Багровый провожает небосклон,
Встают века, что впали в мертвый сон,
Но не мертвы, а живы. Я смотрю
И в странном свете вижу: вот она —
Твердыня лет, где стены – времена.
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ (1911–1988)
Неизданные переводы
КЛЕМАН МАРО {262} (1497–1544)ТЕОДОР ДЕ БАНВИЛЬ {263} (1823–1891)
В пятнадцать лет вас Бог оборони!
Пять я в любви начислил степеней.
Взгляд первою бывает искони,
Второй – беседа, поцелуй за ней,
Потом желание обнять нежней.
Я степени последней не начел.
А в чем она? – Немеет мой глагол.
Приди, однако, вы в мои покои,
Быка я за рога возьму, хотя и гол,
И покажу вам, что это такое.
АНРИ КАЗАЛИС {264} (1840–1909)
На травке кролики в лесу
Резвятся нежно и невинно,
И пьют они взасос росу,
Как налегаем мы на вина.
Тот бело-, а тот сероух;
Бродяжки эти издалече.
От них исходит тминный дух,
Они ведут такие речи:
«Мы кролики. Невежды мы,
Неграмотнее нет народа.
Мы носим то среди зимы,
Что подарила нам природа.
Мы не гадаем по звездам,
Мечтою не стремимся к далям,
А также в область старых дам
Не следуем мы за Стендалем.
Нам Достоевский незнаком,
И мордочки у нас не строги,
И, уж конечно, мы ни в ком
Не ищем разных психологий.
В сапожках ходим меховых —
Мы только кролики лесные.
За неименьем таковых
Не пишем в книжки записные.
И Кант нам попросту никто,
Никак в его идеи вгрызться
Нам не желательно. Зато
Мы Лафонтена-баснописца
Глубоко чтим. Но предпочтем
Молчанье, нежели нам станут
Так излагать ученый том,
Что даже наши уши вянут.
Полезем за Елену в бой,
Готовы выкинуть коленце,
Но песни нет у нас такой,
Что пели древле митиленцы.
Фиалку песенкой простой
Мы забавляем без огласки,
А тонкость купно с красотой —
Пусть ими лакомятся ласки.
Ах, наша песенка тиха;
Ее лужайкам подарив, мы
Не брезгуем в конце стиха —
Уж вы простите – ставить рифмы.
И Шопенгауэру назло,
Которого мы не читаем,
Жизнь, свежий воздух и тепло
Великим благом мы считаем.
Вдыхая сладкий дух сосны,
Не в тесноте и не в обиде,
Мы кролики и мы нежны,
В тени на задних лапках сидя».
РОВЕР ДЕ МОНТЕСКЬЮ-ФЕЗАНСАК {265} (1855–1921)
Вздымался на дыбы вал, словно жеребец,
По воздуху мотал раскидистою гривой.
Я море в час грозы увидел наконец,
Я, что привык ходить в долине молчаливой.
Выл ветер и вопил, раскатывая зов,
И океан скакал на скалы, свирепея.
От этих ужасов, от черных сих валов
Дышалося душе свободней и вольнее.
Луна безумная, скользнув по небесам,
Вдруг осветила ночь сиянием туманным.
И в дали были лишь свирепый лай и гам
Да выкрики и рев над пенным океаном.
Природа вечная – знать, и тебе страдать,
Знать, и твоей душе известен час кончины.
Не в этих бурях ли ты будешь век рыдать
И в ветрах бешеных всегда кричать с кручины?
И ты страдаешь, Мать, ты, кем мы рождены,
Мы, что порой мрачней грозы твоей полночной,
Подобные тебе во всем твои сыны,
Как ты, изменчивы, измучены, порочны.
Нет в жизни ничего прекраснее, слаще и величественнее таинственного.
Шатобриан
Японцы выбрали эгидою от бед
Таинственную тварь и странное растенье:
Грибы, которые – ни зверь земной, ни цвет,
А к ним нетопырей, что вживе схожи с тенью.
Не в сих ли символах уразуметь дано,
Что счастье не бежит к свободам бирюзовым,
А только к ласковым и непонятным зовам
С вопросом, шепчущим: «Да где и в чем оно?»
О светлячочки,
Вы – точно точки
В ночи, и вновь
Гореть вы рады,
Как световклады
В саму любовь.
Вы на полянке,
Мои светлянки,
Огни полей!
И как вы падки
Зажечь лампадки
Ночных лилей!
И, как дождинки,
Ронять звездинки
Привыкли вы,
Их с высей сея, —
Рой эмпирея
На ткань травы.
От светоока
Блестит осока,
Мерцает лес,
И зелень нивы
Глядит ревниво
На синь небес…
Рой искроточек
Я на листочек
Собрал – и вот
Здесь, на поляне,
Так мил Диане
Ваш хоровод,
Когда несутся
С огнем сосудцы
Из темноты,
Огнепрыгуньи,
Светомигуньи,
Светоцветы.
ПОЛЬ ЖЕРАРДИ {266} (1870–1933)
Я запер зал опять и поприбрал покои, —
У барского добра без сна мне ночевать.
У пса – и у того есть время для покоя:
Врастяжку на плите он может почивать.
Закрыл водопровод, поставил в шкаф посуду,
И платье вычистил, и лампу я зажег,
И в тихой темноте под лестницею буду
Теперь ронять слезу на черствый свой кусок.
Мне отдых, Господи, сужден лишь на кладбище,
Впервые для меня зов будет мил и прав,
Когда откликнусь я, лежа в гробу на днище,
Тебя, о Господи, хозяином назвав.
ФРИДРИХ ГЁЛЬДЕРЛИН {267} (1770–1843)
Стрелок теней, схвативши в руки
Свой лук, с колчаном за спиной
Проходит лес, где дремлют звуки,
Когда густеет мрак ночной.
Ему собачьи очи светят,
А черный пес с ним рядом – бес.
Его зачуют и заметят
И волк, и вепрь, укрывшись в лес.
Трясясь от страха, в чаще горной
Охотник черный с черным псом
Идут так тихо ночью черной,
Не видя ничего кругом.
Пес бродит травами густыми,
И в ночь уставился стрелок;
Из дали следует за ними
Большой бродячий огонек.
Стрелок и пес ночи и тени
Всегда пройдут наперерез,
И человек – во тьме видений,
А черный пес с ним рядом – бес.
Ты жизни ищешь – брызжет искателю
В лицо огонь подземный божественный.
И, содрогаясь от желанья,
Ты низвергаешься в пламя Этны.
Царица так же гордо жемчужины
В вине топила. Пусть! Но зачем же ты,
Поэт, свой дар – твое богатство
В чашу кипящую тоже кинул?
И всё ж святым пребудешь мне, дерзостный,
Как власть земли, тебя восприявшая.
Не удержи любовь – и я бы
Ринулся в бездну вослед герою.
Под сенью мирно пахарь у хижины
Сидит, и мил и люб ему дым родной,
А путнику гостеприимно
Колокол сельский звонит под вечер.
Суда уж, верно, тянутся к гавани,
В далеких градах весело рыночный
Смолкает шум; в беседке тихой
Перед друзьями сияют яства.
А что же я? Трудом да наградою
Живет всяк смертный, чредуя радостно
Труды и отдых. Что ж не дремлет
Лишь у меня только в сердце жало?
В вечернем небе розы рассеяны,
Весна в цвету, сияет мир золотом.
Спокойно. О, меня вздымите,
Тучи багряные, – пусть на высях
В сияньи сгинут страсть и страдания!
Но прелесть, слыша просьбу безумную,
Исчезла. Смерклось. И, как прежде,
Вновь одинок я под небом темным.
Приди ж, дремота! Слишком ведь многого
Взыскует сердце. Минешь ты, молодость,
Мечтательницей неуемной, —
Старость же мирной и светлой будет.
ЭСАЙАС ТЕГНЕР {268} (1782–1846)
Зефиры! вас, посланцев Италии,
Меж тополями речку любезную,
Волнистость гор и вас, вершины,
В солнечном блеске я снова ль вижу?
Приют спокойный, в мечтах являлся ты
Во дни отчаянья мне, грустящему,
И ты, мой дом, и вы, деревья,
Давние други мои по играм.
Давно, давно уж покой младенческий
Пропал; исчезло счастие юности,
Но ты, о родина, священно —
Терпица, ты мне одна осталась.
И потому растишь ты детей своих,
Что вместе ваши горе и радости,
И в снах неверных манишь, если,
Странствуя, бродят они далёко.
Когда в груди горячей у юноши
Заснут желания своенравные,
Смирясь пред роком, – тем охотней
Грехоотпущенник возвратится.
Прости же, юность, и ты, любви тропа
В прекрасных розах! Вы, тропы странника,
Прощайте! Жизнь мою возьми ты,
Благословив, о, отчизны небо!
Греческий
Музе всех ты милей, ее родное наречье.
Жил ты в устах у харит и олимпийских богов.
Преданно, словно хитон к деве-купальщице, льнешь ты
И не скрываешь ты чувств, мыслям давая простор.
Латынь
Голос твой резок и чист, как звоны мечей закаленных,
Твердо и властно звучит – завоевателя речь.
Горд, непреклонен и нищ, половиной Европы из гроба
Повелеваешь, и тут римлянин слышен опять.
Итальянский
Томность и сладость в тебе, ты голос изнеженный флейты,
В пении вся твоя суть, каждое слово – сонет.
Голубь влюбленный, воркуй о радости и о томленьи.
Только беда, что поют лучше всех в Риме скопцы.
Испанский
Верно, красив ты и горд. Я не знаю тебя, но иные,
Так же не зная, тебя в Швеции превознесли.
Французский
Скачешь ты, вздор лепеча, и врешь, комплиментами сыпля,
Но пустословье твое лестно и сладостно нам.
Если ты между сестер перестал нам быть за царицу,
Светскую даму зато мы почитаем в тебе.
Но пощади нас – не пой, так только глухие танцуют:
Ноги проворны у них, такта же им не слыхать.
Английский
Ты, о язык для заик, где каждое слово – зародыш,
В речи твоей всегда по полуслову взаглот.
Всё-то в стране у тебя машинным движется паром.
Ну-ка, дражайший, пристрой двигатель и к языку.
Немецкий
Груб, здоров, мускулист – в лесу взращенная дева,
Гибок притом и красив. Только вот ротик широк.
Да поживее бы быть. Флегму оставь, чтоб начало
Фразы нам не позабыть, прежде чем кончишь ее.
Датский
Мне ты не по душе. Для северной силы ты нежен
И северянин еще ты для приятства южан.
Шведский
Славы геройской язык! Благородство и мужество в слове!
Чище металла твой звон, поступь же солнца верней.
Ты на вершинах живешь, где бури беседуют с громом,
Создан он не для тебя – низменный дола соблазн.
В море скорей посмотрись и чуждые смой ты румяна
С черт своих мужественных, если ты не опоздал.
ГУСТАВ ФРЁДИНГ {269} (1860–1911)
Скажи, ты помнишь, как в апреле
Пришла блаженная пора,
Когда сердца у нас горели
Взаимным пламенем с утра?
Часов утраты не считаю,
Злой бог какой-то счел их, но
Во глубине души вздыхаю:
«Давным-давно! Давным-давно!»
Потом пришла пора иная:
Ты холодна. Зачем – Бог весть.
Но был я счастлив, вспоминая,
И мнилось: друг мне всё же есть.
Жать руку и искать участья
Мне было все-таки дано,
И в этом тоже было счастье,
Но как давно! Давным-давно!
Ужель теперь не только милой,
Но даже друга нет? Дохни
На угли, на костер остылый,
Скажи: в нем есть еще огни!
Верни же мне себя былую,
Со мной будь снова заодно
И поцелуй, пока тоскую:
«Давным-давно! Давным-давно!»
Радехонек, заяц, пришипясь, сидит:
«Черникою я закусил – и сыт».
Лиса из-за кустика зайку хвать!
Рада-радешенька: «Вот благодать!»
Сиди себе знай, наедайся.
Вот песня про зайца.
И, морду себе облизав, лиса
Идет на досуге гулять в леса.
В лесу охотник с ружьем проходил.
Выстрелил он и в лису угодил.
Скакнула лисица в последний раз…
Вот и весь лисий сказ.
Охотнику нынче сам черт не брат:
«Потешил я душу! Уж рад так рад!»
А дома-то в кофий исподтишка
Карга подсыпает ему порошка.
И помер он, выкушав кофий охотненько.
Вот быль про охотника.
«Украшены ножны, как будто
Лемносский сработал их бог!
И мастер же ты, Бенвенуто!
А ну, покажи клинок!»
Стоял, улыбаясь, Челлини,
Приятелей внемля гул.
«Нам гордость Феррары ныне
Яви!» И клинок блеснул.
«Вот это – всем шпагам шпага!
Я с ней везде устою.
С такой поможет отвага
Пробиться в любом бою.
В бесстыжих глотках заколет
Насмешку клинок стальной.
Я буду биться, доколе
Не рухну к стене спиной.
Искусство свое и подругу
Сумею я с ним защитить
И, держа на эфесе руку,
В честь верного друга пить».
А та, что вином обносила,
Бледнела молча, но вдруг
Зарделась она и спросила:
«А кто же твой верный друг?»
Ответил он: «Дружба в море
Бежит, как Тибра струя,
А друг мой в беде и горе,
Верный мой друг – это я».
И поднял с подноса кружку,
И в ножны клинок вложил,
И обнял со смехом подружку,
И целовал, и пил.
БУ БЕРГМАН {270} (1869–1967)
«А что есть истина?» – наместник римский
Спросил; однако, ключ к загадке сей
Храня безмолвно и зажав зубами,
В подземный мрак спустился Назорей.
Но истина профессорам премногим
Вполне ясна. Какая благодать!
Их – легион, они ответ сумели
Скептическому римлянину дать.
Как странно всё ж, что истина едина,
А так менять умеет цвет и вид.
Что истинно в Иене иль Берлине,
То в Тейдельберге только удивит.
И словно слышу – Гамлет водит за нос
Полония игрою в облака:
«Вот это выглядит совсем верблюдом,
А это так похоже на хорька».
Таскает хлам по базару
с любой весенней поры.
В калено-синее небо
красные рвутся шары.
Берите мячи и дудки!
Тяните на счастье билет,
который хромым размером
сочинял безвестный поэт!
Ах ты, заморский бездельник!
Черномазый ты чародей!
Знакомьтесь, синьор коробейник,
с рукой и песней моей.
И у меня есть дудка,
и я на базаре стою,
наигрывая покуда
старую песню свою.
Но шарики отвязались,
дали тягу уже давно,
улетели с весенним ветром
в голубое небо на дно.
Видел мальчик, как плавал шарик
в выси солнечно-разлитой.
Этот шарик был мой последний,
тот, который надут мечтой.
По ухабистой прозе таскаю
с предсказаньем стихи вразнос,
всем пишу билеты на счастье,
а себе писать не пришлось.
Мой Бог, ты ясный день и свет.
Так просвети мой дух и взор,
вложи мне в душу твой завет,
спустись ко мне с небес и гор.
Боюсь, как смертного греха:
сразит тебя моя тоска —
не в день борьбы, не в день стиха,
а в ночь, которая близка.
Устало зыблется наш след.
И кто ж я, если получу
от черной тени тот ответ,
что свету был не по плечу?
А если всё, что я любил,
сбежит под страхом бед и нужд,
тогда прости! Ведь это был
тот, кто неведом мне и чужд.
НИЛЬС ФЕРЛИН {271} (1898–1961)
Сидел я ночью в тишине, но был обут.
До полночи осталось только пять минут.
Шаги послышались на улице, и тут
пробило полночь, и я понял: «Заберут!»
Звериными шагами шел вокруг конвой,
звериный взор пронзал, как нож во тьме ночной.
Уволокли под улюлюканье и вой
на следствие и на расправу под землей.
Сидел я годы, но я вытерплю напасть,
поклонов силе всё равно не стану класть.
Они ждут попусту. Честь знает свою часть,
и правде пережить дано любую власть.
Да будет Бог твой то, что сделает сильней
тебя и не отдаст на милость дикарей.
За тени принимаю я теперь людей,
а человеческое вижу у теней.
Ко мне приходят тени в гости с давних пор.
Джордано Бруно тихо всходит на костер,
и Марк Аврелий руку дружески простер
к юроду жалостному с Галилейских гор.
А подлость с глупостью есть двойни тьмы и зла.
Как лапы осьминожьи, вьются их дела.
Пусть время нам тюрьма, но кой-кому дала
судьба, чтоб вознестись над временем, крыла.
Чти память тех, чья кровь за правду пролита,
вой черни прегради презрением щита.
И помни, не страшась ни копий, ни креста,
что правда даже и распятая свята.
На самой последней миле
по курсу ост-вест-зюйд-норд,
усадьбою в Миднайт Хилле
жил-был эксцентричный лорд.
В Китае живал он и в Индии,
знавал африканский зной,
а волосы заиндевели,
когда вернулся домой.
Искал он повсеместно,
в трущобах любой страны
давным-давно известное —
что всё и ничто равны.
Ходил он охладелый,
глядел как бы поверх крыш,
а ночью то и дело
дымился в трубке гашиш.
На зорьке самой обычной,
пока петух не будил,
под дубом лорд эксцентричный
последний вздох испустил.
То было весной. Веселая
галдела в селе молодежь,
цвели анемоны, но голые
руки дуба кидало в дрожь.
На футы и дюймы привычной
и точной измерен рукой,
отправился лорд эксцентричный
вкушать последний покой.
И в алчной и грозной глине
его поглотила тишь…
Вовек не закурится, ныне
и присно, в трубке гашиш.
Живет он прахом во гнили,
а небо над ним светло,
а солнце светит могиле,
а солнце светит в село.
Как встарь, у британских прибрежий
стрижи и чайки кружат,
и те же бамбуки, те же
в далекой стране шуршат.
Таков был лорд эксцентричный
в поместье родовом.
Поместье мясник столичный
купил и надстроил дом.
В автобусе или в чайной
отличны от прочих лиц:
излучается необычайный
свет из глубин глазниц.
Иконоборцы! И ночью
в промерзлой воде они
трепещут, но ищут воочью
неведомое искони.
Мы рады бы их под засовы,
но их удержать не моги:
и мельницы им, и совы —
извечные наши враги.
На речах воспаряют в небо…
Мы тоже бы вознеслись,
но нам поближе к земле бы:
уж тут не грохнешься вниз.
Сперва замолкло всё село:
проклятую комету
как по заказу принесло
на ужас белу свету.
Вот знамение, что разгул
ведет к воротам ада.
Час Божьей милости минул,
и поразмыслить надо.
Довольно сирых притеснять
и гнать их от порога!
Пора законы исполнять
и даже верить в Бога.
Засели за календари
и со слезой во взоре
вздыхали – черт их подери! —
что мир-де иллюзорен.
И били бедняку поклон
с улыбкою елейной,
и без обвесу десять ден
трудились в бакалейной.
Смиренней и тупей овец
в Писание глядели.
Но им сказали наконец:
«Прошло уж три недели».
И закричали тут они:
«Нет, мир еще прекрасен!
Что ж горевать нам в эти дни
из-за церковных басен?
Луг серебрится от росы,
и зайка скачет шалый…
Давай-ка, старые весы
тащи скорее, малый!»
И снова шум у торгашей,
забыты сразу беды,
и снова бедняков взашей,
а знатных – на обеды.
И на пирушке старики
хмельную речь держали,
и пили годам вопреки,
и над молвою ржали.
И говорили – вот комедь! —
сопя взасос сигарой:
«Оборони и окометь
нас плеткой и гитарой!
Что страхи! Плюнь да разотри!
Не так уж скверно это.
Теперь за месяц раза три
является комета.
Она то здесь, то там, копьем
пронзая небо тупо.
А мы за день насущный пьем,
и нам Господь – заступа».
Считайте до тысячи… Тыща один
или тыща два, господин Юханссон!
А не то примите-ка аспирин,
всё получше ведь так, господин Юханссон!
Что за жизнь у вас? Или это треп?
Это драма иль треп, господин Юханссон?
Это бзик у вас или просто озноб?
Или это душа, господин Юханссон?
Коли только душа… Что ж! И то хорошо!
Как слепая кишка, господин Юханссон?
А мы ее – чик! И уснем хорошо,
уж так-то уснем, господин Юханссон!








