Век перевода (2006)
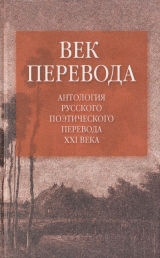
Текст книги "Век перевода (2006)"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Мы в мире мишуры живем
И лишь в минуты испытаний
Суть бытия мы познаем,
Смысл сновидений и мечтаний.
Мы верим лжи и чтим ничто,
Мы, как слепцы, одни в темнице,
Мы в бренных стенах ищем то,
Что только в вечности хранится.
В скупых обрывках сонных фраз
Хотим нащупать путь спасенья,
Ведь всё же Боги мы, и в нас
Не стерта память сотворенья.
АНТОН НЕСТЕРОВ {152}
УОЛТЕР РЭЛИ {153} (1554–1618)
Что наша жизнь? – Комедия о страсти.
Бравурна увертюра в первой части.
Утроба материнская – гримерка
Комедиантов слишком расторопных.
Подмостки – мир, и зритель в сей юдоли —
Господь, – шельмует за незнанье роли.
Как занавес после спектакля – тьма
Могилы ждет, бесстрастно-холодна.
И вот, фиглярствуя, идем мы до конца.
Но в миг последний – маску прочь с лица.
Так наважденья сна сереют утром: радость
Повыдохлась. Фавора дни прошли.
Забавы утомили. Оказалась
Злым мороком любовь. И мне теперь брести
Долиной скорби. Разум, как свеча,
Еще чадит. Игралище судьбы,
Гляжу я вслед волне, что унесла
Всё, кроме горечи. И все мои мольбы
Теперь – о смерти. Путь утратив правый,
Бреду, оставив за спиной весну.
Мне лета не обресть. Подлунной славой
Не дорожу давно. И все-таки прошу:
Пусть будет скорбь вожатым и оградой,
Сквозь холод старости ведя к иным отрадам.
АЛАН ДАГЕН {154} (1923–2003)
Время, расчетливый ростовщик,
Юность нашу берет в оборот,
Нашу радость, наш восторг и порыв,
Зная заранее, что вернет
Прахом и тьмою могилы долг,
Смертной чертой подведя итог.
Но покуда Ты – мой Доверитель, Господь,
Знаю: встретятся вновь дух и плоть.
Июнь назван так в честь Юноны/Геры.
[Закрыть]
РОБЕРТ КРИЛИ {155} (1926–2005)
Тебе остается – всего-то не забывать,
коли связался с нею, о паре вещей:
она открывает пути,
она поджидает в конце всех путей.
Но об этом не стоит
задумываться, не стоит, ибо
она – такова
и таков – ты.
Просто не надо упоминать ее имя.
Она любит тебя, по-своему: любит.
И ты ее любишь, по-своему.
Что до имен… Назови свою бабу коровой – и всё,
твоя песенка спета, так что говорить о богине?
Покуда ты жив (ты ведь хочешь пожить?),
будь почтителен, называй ее
тысячей прозвищ: незабудкой волоокой,
маргариткой собачьего взгляда,
цветком золотым, белой лилией, лилией благоуханной,
хризантемой цветущей,
чем угодно, но главное – не произноси ее имя,
имя волоокой богини,
что начинается с Г,
а потом идут Е, Р и в конце – А,
– понятно, о ком я?
О той, что снисходит под покровом
Ночи Солнцестоянья, в сопровождении Звездного Пса
(его кличут Сириус), пса – охранника и убийцы,
о той, в чьей власти время начала и время конца:
снисходит – и расцветают цветы
и цветут, умирая, чтобы семенем
стать, бросить плод свой на ветер, и снова взойти, —
так примни же ковер маргариток. Но помни о псине;
его зовут Черным Псом:
если глянет он на тебя
желтым косящим глазом,
глянет, поверх плеча твоего
– жизнь твоя и всё вокруг
рассыплется черной горячей золою.
ДЖОН ЭШБЕРИ {156} (р. 1927)
Теперь-то я понял:
мне всегда выпадало
быть чем-то вроде
фотокамеры
на автоспуске,
трубы водосточной,
по которой вода
так и хлещет,
чем-то вроде цыпленка,
которому шею
свернут к обеду,
чем-то наподобие плана
в голове мертвеца.
Любое из определений
годится, когда вспоминаешь,
а как оно всё началось?
Об этом – Зуковски:
«Родился слишком юным
в мир, что стар, слишком стар…»
Век шел полным ходом,
когда я явился,
теперь он подходит к концу,
и я понимаю:
недолго осталось.
Но как твердила мама:
А по-другому неужто нельзя?
Почему было нужно
убить всё и вся, почему
правота обернулась ошибкой?
Я знаю: тело нетерпеливо.
Я знаю: голос мой слаб, разум так себе.
И всё же: любил и люблю.
Не хочу сантиментов.
Просто хочу знать – здесь я дома.
AГА ШАХИД АЛИ {157} (1949–2001)
Средневековый город: скаутская форма
Японских школяров – на улице? Снегопад,
Что ложится на землю при мысли о снеге?
Красота образов? Очередная попытка
Убежать от идей, как в этом стишке? Мы
Возвращаемся к ним, будто к женам, уходя
От возлюбленных – страстно желанных. Теперь
Им придется поверить и в это,
Как поверили мы. Школа причесала
Нам все мысли: осталась равнина,
На которой всё голо. Закроешь глаза —
И предстанет пустыня, до горизонта.
А теперь распахни взор, взгляни: вертикальная тропка.
Что нам даст восхожденье? Нарвем ли цветов?
(Патриции О'Нил)
Где и когда я потерял твой след?
Сеющие опустошение кричат о мире.
Когда ты уехала, всё было кончено, камни погребены:
Беззащитным оружие не пристало.
Когда горный тур трется о скалы, кто станет
Сбирать его шерсть с каменистых отрогов, на пряжу?
О Ткач, полотно Твое гладко, но кто же
взвесит руно на весах справедливых?
Сеющие опустошение кричат о мире.
Что за ангелы ночью застыли на страже у врат Эдемских?
Память, гончая сука, готова бежать по следу.
Фары армейских конвоев, ночь напролет через город ползущих,
как караван сквозь пустыню, – всю зиму, из ночи в ночь, время остановилось,
запах солярки и мятой травы.
Разве спросишь пришедших: с этим миром покончено?
В водах озера храм с мечетью застыли – отразившись – в объятьях друг друга,
Готова ли ты их осыпать шафрановой взвесью – столетья спустя,
в той стране, где я не смог оторвать от себя твою тень?
В той стране, куда мы уходили в ночи, неся двери домов пред собою,
чтобы в дом не забрались воры.
А дети несли в руках окна – чтобы видеть.
Ты шла вместе со всеми, в коридоре огней.
Когда выключен свет – можно ли не порезаться об осколки?
Я потерял твой след.
Когда-то я был тебе нужен. Ты жаждала видеть во мне совершенство.
В разлуке ты отточила мой образ. Я стал Врагом.
Жизнь превращается в память, чтоб в ней затеряться.
Я – все утраты твои. Ты не можешь простить мне.
Я – все потери твои. Твой прекрасный враг.
Воспоминанья, твои и мои, здесь сольются:
По адской реке я проплывал через сад Эдемский —
фатоватый призрак, укрытый ночью.
По адской реке, в лодочке сердца: волны как из фарфора,
ночь тиха. Лодочка-лотос:
я плыл – на вянущем цветке лотоса – в направлении нежного бриза,
может, хотя бы у ветра есть ко мне жалость.
Если бы только ты могла быть моей —
что тогда невозможно было бы в мире?
Я – все утраты твои. Ты меня не простишь, никогда.
Память идет по следам, будто гончая сука.
Я не знаю вины за собой. Непрощенный.
Сокровенная боль, о которой не скажешь.
Нет ничего, что нельзя бы простить. Не простишь.
Если бы только была ты моей…
Что бы тогда невозможно было бы в мире?
ЗИБА КАРБАССИ {158} (р. 1974)
В пустыне, где брожу я, только тени, отброшенные
Голосом твоим. Движенье губ, дрожащих как мираж.
Былье и пыль, что разделяют нас, – когда-то ты могла
Заставить пустошь расцвести кустами роз.
Касанье воздуха – так ты лица касалась поцелуем. Разгораясь,
Тягуче-медленно, – и запах мускуса. И дальше
За каплей капля, там, над горизонтом сияет
Влага на лице разгоряченном.
Память ладонью гладит Времени лицо, касаясь
Его, заботливо и осторожно, будто длится
То утро расставанья, будто вечер еще вернет
Тебя в мои объятья, обнаженной.
СТЕЙН МЕРЕН {159} (р. 1935)
Капля за каплей – дни,
Будто дождь.
Вверх не глядим…
Помнить забыли:
Жизнь наша – домик картонный.
(Вот и весна наконец)
Смех и крики бегущих мимо детей
кроны деревьев взметнулись зеленью водопада
вверху спешат облака
старик замирает,
будто от толчка в спину
Здесь когда-то был сад
когда-то, давным давно
Только твое дыханье отделяет меня от бездны – тьмы ночной.
Я – ветер, я – охотник, что гонит кровь твою по жилам, будто зверя,
и голоса садятся, стоит нам назвать по имени друг друга…
Утлые слова, что переправят нас на берег утра…
Чем суждено им стать в том темном зазеркалье,
где вожделенье – палая звезда, игрушка смерти?
Лета нет и не будет
Есть лишь волна весны
идущая по летним пейзажам
и тянущая за собою осень
Лето так коротко: коротко, как жизнь
Единственное, что от лета уцелеет
застывшее короткое мгновение во времени
Почти как память: отраженье
деревьев в озере лесном
Они не знают, что они – лошади
Они восходят на холм, на вершину холма
И стоят – силуэты на фоне неба,
Медленно впитывая его сияние
А потом несутся, несутся как ветер, как пламя
по высокой траве, несутся
в замедленной съемке сквозь кинозал ночи
Они не видят снов. Они сами становятся снами,
снами земли: в них лошади
стелятся в скачке, будто огонь по траве.
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА {160}
РОБЕРТ САУТИ {161} (1774–1843)ТОМАС ЛАВЕЛЛ БЕДДОУС {162} (1803–1849)
1
Император Нап собрался в поход,
Барабан гремит, труба зовет.
Под лазурью небес зелена трава.
Морблё! Парблё! Коман са-ва!
Вперед! Нас ждет Москва!
2
Несметное войско – солдат не счесть!
Приятной прогулки к далекой Москве!
Дюжина маршалов во главе,
Герцогов ровно двадцать шесть
И короли – один или два.
Рысью вперед! Зелена трава.
Морблё! Парблё! Коман са-ва!
Нас ждет не дождется Москва!
3
Здесь и Жюно, и маршал Даву.
Вперед на Москву!
Тут же Домбровский, и с ним Понятовский,
И маршал Ней, что всех сильней.
Генерал Рапп тоже не слаб,
А главное – сам великий Нап.
Птички поют, зелена трава,
Морблё, парблё, коман са-ва!
Рысью вперед! Ать-два!
Кружится от радости голова,
И манит к себе Москва.
4
Император Нап такой молодец!
Мистер Роско напутан вконец.
Джон Буль, – говорит, – он тебя покорит,
На колени пади, преклони главу,
Мошной потряси, замиренья проси,
Ведь он идет на Москву!
С ним поляки воспрянут, дрожать перестанут,
Поколотит он русских, проглотит прусских. —
Солнышко светит, пышна трава.
Морблё, парблё, коман са-ва!
Узнает Напа Москва!
5
И Генри Брум, сей глубокий ум,
Сказал, как узнал про поход на Москву:
С Россией покончено, господа!
Конечно, и Лондон ждет беда —
Ведь Нап заявится и сюда,
Но это лишь с одной стороны,
А с другой стороны, мы понять должны:
То, что русским плохо, – не повод для вздоха,
Пусть каждый рассудит – что будет, то будет,
И всё это к лучшему по существу. —
И мистер Джефри, исполненный сил,
Это мнение полностью разделил.
А голосом Джефри вещает сам рок:
Ведь он издает «Эдинбургский пророк».
Этот журнальчик в синей обложке
Не обойдешь на кривой дорожке —
Он знает грядущее, ведает сроки,
Этот журнал – Закон и Пророки.
Морблё, парблё, коман са-ва!
Весомы его слова.
6
Войска идут, их русские ждут,
Они не могут парле-франсе,
Но драться отлично умеют все.
Но уж Нап коль взялся, вперед прорвался.
Над зеленой травой небес синева,
Морблё, парблё, коман са-ва!
Взята французом Москва!
7
Но Нап не успел оценить подарка,
Стало в Москве ему слишком жарко,
После стольких стараний такой удар:
Пылает московский пожар!
Небо синеет, растет трава,
Морблё, парблё, коман са-ва!
Покинута Напом Москва!
8
Войско в обратный путь пустилось,
Тут на него беда и свалилась:
Ермолов, Тормасов и Балашов,
И много других с окончаньем на «ов»,
Милорадович и Юзефович,
Да заодно уж и Кристафович,
И много других с окончаньем на «ович»,
Голицын, Дедюрин, Селянин, Репнин,
И много других с окончаньем на «ин»,
А также Загряжский, Закревский, Запольский,
И Захаржевский, и Казачковский,
Волконский, Всеволожский и Красовский,
И куча других на «ский» и на «овский».
Много было тут русских фамилий,
Очень Напу они досадили:
Дохтуров полечил его,
Потом Горчаков огорчил его,
И Давыдов слегка подавил его,
А Дурново обдурил его,
А Збиевский сбил с ног его,
А Игнатьев погнал его,
А Кологривов в гриву его,
А Колюбакин в баки его,
А Рылеев в рыло его,
А Скалой по скуле его,
А Ушаков по ушам его.
А последним шел седой адмирал,
Страшней человека никто не видал,
А уж имя его – читатель, прости —
Мне не написать и не произнести.
И обступили бедного Напа,
И протянули грубые лапы,
Да как погнали его по росе.
Вот такое вышло парле-франсе.
В глазах зелено, на губах синева,
Морблё, парблё, коман са-ва!
Такое вышло парле-ву.
Попомнят французы Москву!
9
Тут, словно мало прочих невзгод,
Русской зимы наступает черед.
Нет у трескучих морозов почтения
К сану и славе военного гения,
Что блестящих побед одержал столь много,
Веруя в счастье свое, а не в Бога,
А ныне живой ушел едва.
Над белым снегом небес синева.
Морблё, парблё, коман са-ва!
Далеко осталась Москва.
10
Что же он сделал, великий Нап,
Когда в русских снегах ослаб и озяб?
Он решил, что дрожать и мерзнуть ему,
Как простому солдату, совсем ни к чему,
Подвергая риску в неравном бою
Драгоценную шкуру свою.
Пусть другие рискуют своей головой,
Пусть гибнут они, был бы я живой!
И, бросив армию средь невзгод,
Поскакал во всю прыть вперед.
Морблё, парблё и парле ву!
Кончен поход на Москву.
11
Да, в Москве он согрелся, пожар кляня,
А потом ему холодно было.
Но есть пламя жарче земного огня,
Холодней России – могила.
Коль правду нам Папа Римский твердит,
Есть место, где огнь негасимый горит.
Морблё, парблё, коман са-ва!
Коли правда душа по смерти жива,
Он к хозяину своему попадет,
А хозяин его прямо в печь метнет,
А из той печи, кричи не кричи,
Вот беда, не сбежать никуда.
Из Чистилища Нап, уж поверьте вы,
Не сбежит, как сбежал из Москвы.
Коли хочешь вести любви моей счет,
Ты новые мысли сперва сочти,
Что на землю несет
Свежевыпавший год,
Снежно-белых и черных мгновений полет,
Что Вечность выронила из горсти, —
Коль вести любви моей счет.
Коль хочешь вести счет любви моей,
Ты хрустальный звон сочти тогда
Вечерних дождей,
Небесных гостей, —
Сколько сияющих бусин-вестей
Нижет на луч золотая звезда?
Столько возьми и любви моей.
Мертвец девицу полюбил.
К ее изголовью он приходил,
Скользя во мраке ночном,
И пел ей с негой и страстью, какой
Не ведать вовеки любви живой,
Он пел ей всё об одном.
Могильные змеи сладкий яд
В призывной песни своей таят,
В склепах среди костей их приют,
«Умри поскорей!» – поют.
Оставь свое тело, иди со мной.
Сладко обнявшись лежать под землей,
Под крышкой свинцовой тепло вдвоем.
Земля обоймет, убаюкает нас,
Века пролетят, как единый час.
Оставь свое тело, пойдем!
Могильные змеи вкрадчивый яд
В призывной песни своей таят,
На кладбище средь черепов их приют,
«Умри поскорей!» – поют.
РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕНСОН {163} (1850–1894)
Он .
Хочешь, я первой любовью буду, первой любовью твоей?
Я в сладкий плен на бархат колен перед тобой опущусь,
К твоим драгоценным ногам цветком головы прижмусь
И поклянусь, что одним томлюсь всё пламенней и нежней.
От любовной тоски —
Твоих розовых губ лепестки.
Она .
О да, хочу, ты первым будешь, первым любимым моим.
Я тебя с колен подыму и к груди цветок головы прижму,
Целуй без счету мои глаза, и губ я не отниму,
Никто в тот час не увидит нас, тайну мы сохраним,
И ты не покинешь меня
До нового дня.
Он .
Нет, лучше второй я любовью буду, вторым меня назови.
Я поздней ночью в твое окно тихонько постучу,
За полог твой прокрадусь тайком, и мы погасим свечу.
И я до утра останусь с тобой в тесном кругу любви,
В кольце твоих рук
Под сердца стук.
Она .
О да, лучше стань у меня вторым, второй любовью моей.
Я тихого стука в окно дождусь, ты войдешь в светлицу мою.
Как апрельский дождь поит цветы, так я любовь твою пью.
До самой зари ты будешь со мной, я сожму объятья тесней.
Руками огражу,
Заворожу.
Он .
Нет, я хочу быть третьей любовью, третьим хочу я стать.
Тебя у лесного ручья в глуши за купаньем подстерегу,
В охапку схвачу, на коне умчу, не споткнется конь на бегу.
Твои плечи нежны, слова не нужны, молча буду тебя обнимать.
И ты в тишине
Покоришься мне.
Она .
Если так, ты не будешь любимым моим, любимым тебе не быть.
Коли первым придешь, посмеюсь над тобой, израню тернием грудь.
Коль вторым придешь – прогоню, осрамлю, ты в дом мой забудешь путь.
Ну а третьим придешь – прямо в сердце нож обещаю тебе вонзить.
А после умру, скорбя,
Оплакав тебя.
АМБРОЗ БИРС {164} (1842–1914?)
Воскресный благовест плывет
И вдаль, и ввысь, под небосвод.
В долинах и над гладью вод
Трезвон веселый
Поет и к радости зовет
Луга и села.
Отдохновенье от трудов
Всем возвещает этот зов —
Вкусят заслуженных плодов
На вольной воле
И горлица в тени садов,
И пахарь в поле, —
А он привык за много лет
Шесть дней подряд вставать чуть свет,
К безделью же привычки нет,
И, впав в истому,
Слоняется, полуодет,
С утра по дому.
Жене заботы через край:
Детишек в церковь собирай,
То приструни, то приласкай,
Одень на славу,
Сластей в кармане припасай
На всю ораву.
Вот к церкви девушки спешат,
И юбки нижние шуршат.
Корсетом пышный стан зажат,
Во взорах нега,
Рубашки складочки лежат
Белее снега.
Хозяин, шествуя, брюзжит,
На пыль дорожную сердит —
Мол, что у башмаков за вид! —
Ведь он скупенек:
И вакса тоже, говорит,
Чай, стоит денег!
Вот Марджет – нет ее резвей —
В зеленой юбочке своей,
И Дейви Кротс под ручку с ней,
Тряся вихрами, —
Бегут вперед, чтоб всех первей
Явиться в храме.
За ними – наш добряк с женой.
Костюм напялил выходной,
Цилиндр на голове – такой
Он франт сегодня! —
Манишка блещет белизной
В честь дня Господня.
Вот и церковные врата:
Все в сборе здесь, толпа густа,
Приветствий шум и суета,
Рукопожатья…
Щебечут девичьи уста,
И вьются платья.
Но чу! Сильней звонарь наддал —
Пусть поспешит, кто запоздал!
Рой черных сюртуков нажал —
В дверях уж тесно,
И тут подъехать подгадал
Помещик местный.
В углу судачат старики,
Сужденья метки, глубоки,
В политике все знатоки,
Умом богаты —
В сравненьи с ними простаки
Мужи Палаты.
Кой-кто сторонкой меж могил
С серьезной миною бродил,
И вид могильных плит будил
В душе тревогу:
Мол, смерть близка, а нагрешил
Я слишком много.
Кого года, кого недуг —
Вон Сэнди Блейн, вон Меррен Брук,
Легли родные дяди в круг,
Всего четыре.
Родня, сосед, знакомый, друг —
Почиют в мире.
И в памяти из темноты
Встают знакомые черты,
И из могильной немоты
Звучат приветы —
Знакомый голос слышишь ты,
Живущий где-то…
Летит торжественный трезвон,
Приветствует живущих он,
О тех, кто смертью унесен,
Напоминает,
И каждый, сердцем умилен,
Ему внимает…
Но вот уж в церкви все и там
Расселись смирно по местам.
Вот пастор движется к вратам —
Грехи сурово
Изобличать его устам
Давно не ново.
Но прежде гимн! – сейчас, горласт,
Старик презентор тон задаст —
Затянут, кто во что горазд,
Напев старинный,
Фальшиво и не в лад, в контраст
Их мине чинной.
Потом молитву вознесут,
Текст из Писания прочтут, —
Шуршат страницы там и тут,
И горьковатый
Из Библий аромат свой льют
Полынь и мята.
Приход истомою объят,
Клюют носами стар и млад,
Но над детьми мамаши бдят:
Чуть сполз на лавку
И засопел – сейчас вонзят
В плечо булавку.
Усердных видим трех иль двух,
Кто обращен прилежно в слух,
Но также тех, кто ловит мух,
Зевает сладко
Да на девиц и молодух
Глядит украдкой.
А пастор, ревностен и строг,
Разит грехи, клеймит порок.
И леность губит, остерег,
И расточительность,
И блудных помыслов итог —
Душегубительность.
И, мол, не лучше турка тот,
Кто лишь от дел спасенья ждет,
Но в церковь ложную идет —
Не в нашу, то бишь.
Вкушаешь там нечестья плод
И душу гробишь.
Да, нашей церкви лучше нет,
Лишь в ней спасение и свет! —
Согласный храп звучит в ответ…
И служба длится,
А тем, кто наш оставил свет,
Всё крепче спится.
СТИВЕН ВИНСЕНТ БЕНЕ {165} (1898–1943)
Мне снилось, что сплю я и вижу во сне,
Что в саду средь цветущего лета
Я заснул, и во сне остров грезится мне,
В океане затерянный где-то.
Аромат этот нежный – он там или здесь?
Нету роз для смятенного взора,
Но их запахом воздух пронизан весь,
Как хоралом своды собора.
И я понял, я понял, куда перенес
Меня снящийся сон, что мне снился
Вместе с запахом роз: Зачарованный Нос
Звался остров, где я очутился.
Я и прежде подчас слышал странный рассказ
О сиренах и дивном их саде —
На погибель суда устремлялись не раз
Аромата волшебного ради.
Нет сирен уж давно, но струят всё равно
Этот запах незримые розы
На могилах несчастных, кому суждено
Было сгинуть от странной угрозы.
Но мне снилось, что думал я: сказки лгут,
Это бредни матросов бывалых,
Будто призраки роз ароматы льют
И манят скитальцев усталых.
Я сказал себе: прочь, мне здесь быть невмочь,
Я покину остров обманный,
И побрел я во сне сквозь туман и ночь,
Но вел меня запах желанный.
Я шел, как безумный, я в гору лез,
По тропам меня носило,
И в зловещий лес, полный темных чудес,
Привела меня странная сила.
Мне снилось, что сплю я и слышу во сне
Чьи-то крики, вздохи и стоны,
Мне снилось, что вспыхивает на сосне
Злобных глаз чьих-то пламень зеленый.
Что листья покрыты кровавой росой,
Что месяц налит багрянцем,
Что синий туман идет полосой,
Отливая светящимся глянцем.
Всё сильней аромат! Радость без берегов!
Я замер, от счастья вздыхая:
На осине трупы моих врагов
Качались, благоухая.
О боги, страшный день! Зловещи тени
Свинцовых туч, и свой багровый глаз
Сердито щурит солнце. Как змея,
Дорога вокруг леса обвилась
И колдовством обволокла растений
Дрожащую листву. И в тишине
Под налетевшим ветром сосны гнутся,
Толкаются, как злые горбуны;
Смешок недобрый бродит по кустам.
…Что если справа, где на валуны
Неверные лучи заката льются,
Вдруг крик раздастся?.. ЧТО МЕЛЬКНУЛО ТАМ?
И шепот побежал по ржавой хвое
Злорадный: «берегись!». Отпрянул я
В ознобе липком ужаса, и стон
Издали сосны. Облаков края
Кровавым вспыхнули огнем – и вдвое
Я ужаснулся: появился Он.
Весь в черном – только жарко пламенели
Каменья в кольцах и на башмаках,
Откинул плащ он, как махнул крылами,
И скрипку высоко взметнул в руках.
Я слушал. Струны жалобно звенели,
Пока он их настраивал. Орлами
Взмывали ноты ввысь, к вершинам пиний.
Потом наканифолил он смычок
И поклонился. «Ваш слуга, синьор, —
Сказал он. – Я в игре не новичок,
Но вреден холод пальцам. Впрочем, вздор!
Меня зовут Никколо Паганини».
И скрипка вскрикнула, словно душа
Терзалась чья-то в нестерпимой муке,
И музыка помчалась вскачь, рыдая, —
Как языки огня, плясали звуки,
Захлебываясь, горестью дыша,
Вздымаясь воплем, стоном опадая, —
Вот замерла, печальным разрешась
Звучанием минорного аккорда,
А через миг взвился ее прибой
Пугающе, стремительно и гордо,
Как армия, что с песней понеслась
В отчаянный и безнадежный бой —
И в пропасть ада. Соль и горечь слез
Ожгли мне губы. Рушились созвучья —
Весь лес играл – деревья простирали
Кривые ветви, и смычками сучья
Вздымались. Ураган скрипичный рос,
Вращались звуки в бешеной спирали…
Прочь бросился я. Адский гром и звон
Мне несся вслед – но наконец ослаб.
Я, весь дрожа, назад оборотился.
Вдали, тряся ветвями черных лап,
Безумствовал, метался и клубился
Огромный, темный, страшный лес-дракон.








