Век перевода (2006)
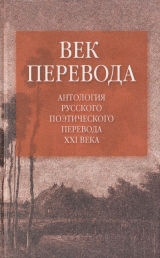
Текст книги "Век перевода (2006)"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
корабль военно-морских сил Ее Величества
Смиренное обращение
к советникам военно-морского ведомства
Ее Величества,
которые продали Германии старинное судно —
флагман Нельсона – за тысячу фунтов стерлингов
Безденежье – удел глупцов,
А мы… Себе мы – не враги:
Наследство дедов и отцов
Мы выставляем на торги!
В делах застой, карман пустой.
Наш хлопок, уголь – кто берет?
Торгуй святым; святое – дым.
Вперед, вперед!
Очаг Шекспира (господа,
За это кое-что дают!),
Уютный домик (не беда,
Что это – Мильтона приют!),
Меч Кромвеля (хотите, нет?),
Доспех Эдварда (о, восторг!),
Могила, где лежит Альфред, —
Отличный торг!
Сбыть мрамор – тоже не позор
(Большая выгода при сем!).
Эдвардов разнесем Виндзор,
Дворец Уолси разнесем.
Не будь ослом, – продай на слом
Собор святого Павла. (Ай,
Какой барыш!) – Чего стоишь?
Считай! Считай!
Ужель неясно, торгаши,
О чем ведется эта речь? —
Не отовсюду барыши
Вам дозволяется извлечь!
Историю не продают,
Здесь неуместен звон монет.
Мы продаем и жизнь, и труд,
Но славу – нет!
На бойню отведи коня
(Он, старый, срок свой пережил!),
Лакея не держи ни дня
(Тебе он, старый, отслужил!), —
Но взгляд широкий обрети
На то, чем наш народ богат,
И славный флагман вороти,
Верни назад!
И если нет, куда ни кинь,
Стоянок лишних никаких,
Старинный флагман отодвинь
Подальше от путей морских.
Открой кингстоны. Пусть умрет,
Когда иного не дано,
И с флагом, с вымпелом уйдет
На дно, на дно!
МАЙЯ ЦЕСАРСКАЯ {240}
ЭНДРЕ АДИ {241} (1877–1919)ДЮЛА ЮХАС {242} (1883–1937)
Заждалось гномье – ишь, как долго
Держусь. И сник бы трусом,
Да никак. Стою, Геракл долга.
Вот бестолочь: да я и сам им
Давным-давно сломился бы,
Каб вздохнуть – клянусь небесами.
Так нет же: прут, мельтешат – гонят
На беду себе, недоумки,
В новую веру, в песню, в огонь.
Зло б взяло на себя самого,
Так ведь и их на меня берет,
Нет уж. Шагаю – и ничего.
Изболеться б, взвыть, хоть под стреху
Влезть – и пропади всё пропадом, —
Но не швали же на потеху!
Что ж, так и быть. В драку, так в драку.
И сон неймет, и смерть неймет меня,
Знай хорохорюсь – горе-Геракл.
Эй, вы, спесь, вошь, мелкая заводь,
Потише б, да попочтительней,
А то ж не умру никогда ведь.
ДЕЖЕ КОСТОЛАНИ {243} (1885–1936)
Какой же была она – кос твоих медь?..
Забыл я, но летом поля золоты,
и в колосьях, если подолгу глядеть
против солнца, мерещится: ты!
Какой же была она – глаз твоих синь?..
Не помню, но осени сини без дна…
И сквозь оторопь разлук невыносимо
льнет, обволакивает: она!
А шепота шелк? – Был он или не был?
– Не знаю… Но луга весеннего вдох…
И вестью весны, далекой как небо,
твой оклик, Анна: теплом, врасплох…
ФРИДЕШ КАРИНТИ {244} (1887–1938)
Как трогателен плохой поэт. Годами
о нем молчали, а потом забыли понемногу.
Вот он, потрепан, сед, вышагивает в драном
пальтеце, с болтающейся пуговицей, вверяя
неизданное ледяному ветру – весь порыв и гонор.
Издали злоба, зависть на его лице такой нездешней
печалью выглядят – особенно на фоне
знаменитых, захваленных продажной прессой,
всех тех, кого приветствуют восторги
торгашей, авантюристов, овации концертных залов.
Обвив венком из слез чело апостола по плешь,
жизнь вознесла мечты его отрочества, и он всё больше
верит им. И даже худоба его – последствие дурного
питания, чахотки – тоже стиль. Как в книге.
Зря говорили – критика, литература.
Идеализм – он. Он – истинный поэт.
АТТИЛА ЙОЖЕФ {245} (1905–1937)
Тому, кого я вглубь себя упрятал
И в тайне ото всех ношу в себе, —
Ребенку, кажется, не по себе,
Обиделся.
Сопит, пыхтит – колотится сердечко
В моем; что ему в голову взбрело? —
Улыбку будто смыло; морщит лоб,
Набычившись.
Я делом занят, я с людьми встречаюсь.
Я говорю им: «здрасьте» и «а вам
Как платят?» И «а как же, передам»,
«А вам куда?»
Зачем-то останавливаюсь там же,
Где и трамваи. Из-за труб луна
Поглядывает. Надо мной она,
А я под ней.
Поглядывает. Ждет. Остановилась,
Всё неувереннее влажный взгляд,
Всё гуще облака, вот-вот назад
Упрячется.
На повороте достаю бумажник,
И ветер вдруг слегка, как чья-то кисть,
Ворошит волосы: ну обернись,
Да что же ты?..
Скользит неслышно солнце по скале,
Некому высечь из нее вино,
Крест на краю замшел давным-давно, —
Иду себе.
Под вечер ключ в двери моей скрежещет,
То вверх, то вниз снует кадык – я ем.
Без ласки засыпаю, и совсем
Не боязно.
Но тот, кого я всё ношу во чреве
Души, ребенок, мечется во мне,
Брыкается, не засыпает – не
Понимает.
Садится, озираясь, в темной спальне,
Глазищами сверлит меня насквозь,
А в дрожи губ: да что же ты? Небось
С ума сошел?
Сам не свой, уж неделю, днями
брожу, а мысли все о маме.
Как, скрипя бельевой корзиной,
шла она вверх лестницей длинной.
Я ж в прямоте былой ребячьей
вслед орал, заходясь от плача,
как шмотье ее ненавижу.
Меня пускай несет на крышу.
Как молча шла она, раз надо,
и ни попрека мне, ни взгляда,
как рвались, лучом раскрашены,
врозь и ввысь штаны и рубашки.
Заново б, – когтит раскаянье.
Где теперь – вон какая она!
Серым по небу прядей небыль,
синьку разводит в воде неба.
СТАНИСЛАВ ЧУМАКОВ {246}
ИЕРОНИМ МОРШТЫН {247} (ок. 1580 – ок. 1623)ЯН АНДЖЕЙ МОРШТЫН {248} (ок. 1620–1693)
Я и весел, и в охоте,
Когда еду я к Дороте,
Забываю о заботе,
Лишь приеду я к Дороте,
Восхитительны те гроты,
Где сидел я у Дороты,
Меркнет злато – я скажу, —
Коль с Доротою лежу.
Да и в целом, кроме чести
У Дороты всё на месте.
Ты был убит. Я – как и ты – убит.
Стрелою смерти – ты, а я – любви стрелою.
Бескровья – ты, я – бледности не скрою.
Тебе – явь свеч, во мне ж – огонь сокрыт.
Ты сверхутканью траурной покрыт,
Я изнутрипленен был темнотою,
Тебе связали руки, – я рукою
Могу пошевелить, но цепью мозгобвит.
Но ты молчишь, а я смолчать не смог,
Лишен ты чувств, – от боли я страдаю,
Ты – словно лед, а я в аду пылаю.
Ты станешь прахом через малый срок,
Что до меня… Увы, удел не светел:
Гореть вовек, не обращаясь в пепел.
Такая девушка душе моей любезна,
Чтоб не шпионила, в дела мои не лезла,
Пусть поворчит, но вовремя отстанет,
Поняв, что и за мной ответ не станет.
Пусть не играет слишком в добродетель,
Не ангелы мы, Бог тому свидетель…
Пусть будет в теле, понимает шутку,
Пусть даст себя облапить на минутку.
Ведь если будет чистой, боязливой,
Тщеславной, богомольною, ревнивой, —
Такую мое сердце не полюбит.
Подумать страшно, – то жена уж будет!
Я раньше верил всей душой:
Печаль разлуки небольшой —
В духе Природы.
Недолгий срок я продержусь,
А заодно и наслажусь
Благом утраченной свободы.
Казалось, стрелам твоих глаз
Сквозь даль, что разделила нас,
Уж не пробиться,
И пламя скрытое мое
За сотни миль от твоего
Не разгорится.
Но вынужден признаться я:
Вдвойне болит душа моя.
К огню былому
Прибавился огонь разлук,
Источник новых страшных мук,
Он пепелит меня, аки солому.
Теперь не верю в глупый сказ,
Что, мол, разлука лечит нас.
Скажу иначе:
Чем дальше солнце от меня,
Тем больше от него огня,
Тем оно жарче.
Словно татарин, деру дав,
Стремясь от рыцаря стремглав,
Вдруг обернется
И острая его стрела,
Злобой языческой полна,
В грудь християнскую вопьется, —
Вот так и ты, собой маня,
Смертельно ранила меня:
Миг улучила
И, обратясь ко мне спиной,
Жестоко справилась со мной,
Любви стрелою сердце мне пронзила.
Коварства женского порок
Теперь навеки мне урок.
Я предлагаю:
Немедленно ко мне вернись
И спередисо мной сразись, —
Не проиграю!
Зоська с Замостья, Баська с Туробина,
Евка Звежинская, из Кшешува Марина,
Четыре бляди, с девой старой в дружбе,
Меняют дислокацию по службе.
Оне служили, пока уд упругий
От них, нижележащих, ждал услуги.
Но вдруг, на жен законных сделав ставку,
Вышестоящие списали их в отставку.
Идут они домой, о чем и извещаю.
Встречать их ласково отнюдь не воспрещаю.
Но – как оплаченных давно и многократно —
Использовать их можно и бесплатно.
Прочь, бляди! Хватит члену моему!
Теперь он должен ублажать свою жену.
Официально предложить вам рад
Искать иное бремя для услад.
Или купить покрытый шкурой воз
И влиться с ним в армейский наш обоз,
Иль ярмарки и рынки объезжать,
Или кухаркой у магната стать.
Ведь ваша жизнь возможностей полна,
А рассчитался с вами я сполна
И на прощальной той ночной попойке
Раскладывал вас на буфетной стойке.
Какого ж дьявола? Уж я женат немножко!
Прочь, бляди, прочь, и скатертью дорожка!
СЕРГЕЙ ШЕСТАКОВ {249}
РОБЕРТ ГЕРРИК {250} (1591–1674)
Кто любви бежать привык,
Мой, должно быть, ученик.
От неё напастей боле,
Чем хлебов созревших в поле.
Вздохи, стоны, слёз поток —
Все не счесть их, как песок.
То огонь, то холод жжёт,
Часты обмороки, пот;
За ознобом жар, волненье —
Вот любовников мученья.
Трудно, – надо ль говорить, —
Даме сердца угодить:
Каждодневно, как луна,
Переменчива она.
Лжив, бездушен, вреден, зол
Вожделенный женский пол.
Меньше бы любить нам всем
Или не любить совсем.
Зачахнут и нарцисс, и ноготки;
И примулы увянут лепестки;
Тюльпан головку свесит, – что-то есть
В нем от девицы, потерявшей честь;
Фиалка сникнет, лик залив слезами:
Пост у нее одно с похоронами;
Узрев Сафо в унынии, навеки
Сомкнет, простившись, маргаритка веки.
Спросили: где, зари красней,
Растет чудесный лал? —
На губки Юлии моей
Я молча указал.
Спросили: где растет жемчуг? —
Сказал своей любви:
Открой уста, мой нежный друг,
Жемчужины яви!
Что сердце ранишь мне насквозь,
Как будто вечно быть нам врозь? —
Я клялся (зря ты не кори!),
Что через день, иль два, иль три
Вновь буду у твоей двери.
А коль не веришь клятве той,
Тогда прими зарок другой:
Средь алых роз твоих ланит
Слеза росинкою блестит,
И высохнет она навряд
Скорее, чем вернусь назад;
Я, прежде чем пойду, прощен,
Наполовину возвращен.
Она в слезах, и кажется залитым
Огонь любви, что жег ее ланиты.
Не закрывайтесь быстро так, —
Медлительная ночь
Еще не гонит день во мрак
Иль солнце с неба прочь.
И бархатцев не скрылся цвет —
Их сумрак не страшит;
Еще звезды пастушьей свет
Поля не серебрит.
Вот очи Юлия сомкнет,
Что дарят благодать,
И всем решить придет черед:
Жить или умирать.
Возлюбленная встала с ложа —
Как это на зарю похоже;
А встала и уже одета —
Восход напоминает это.
Любой могу принять я вид —
Как Зевс, когда в нем страсть кипит;
Не так приду к тебе, несмелой,
Как он явился пред Семелой.
К чему мне молния и гром? —
Часы в беседах проведем.
Потом одежды сбросим враз,
Чтоб наготой насытить глаз.
На ложе для любовных дел
Сплетем клубок из душ и тел
И утолим свое желанье
Неслышным ласковым лобзаньем.
ДЖОРДЖ ГЕРБЕРТ {251} (1593–1632)
Слова Любви сплетайте, словно нити;
А те, что стыдно говорить, – пишите.
Я долго шел к высокому холму
Моей надежды.
О, как же тяжек путь к нему!
Пройдя тропою узкой между
Отчаяния бездной и скалой
Гордыни злой,
На луг Мечтаний с множеством цветов
Я вышел вскоре
И здесь остаться был готов;
Но недосуг… Дорогу торя,
Пройти я смог сквозь заросли Забот
Не без хлопот.
И в пустошь дикой Страсти я ступил;
Порой богата
Та местность. Но угас мой пыл, —
Всего я здесь лишился злата;
Лишь «ангел», что зашил мне друг-портной,
Всегда со мной.
…И вот холма достиг я наконец!
К заветной цели,
К надежде, где пути венец,
Карабкаюсь я еле-еле…
Увы! Там в озере вода одна —
И солона.
Как жала ос, меня пронзила боль, —
Везде страданье;
Я возопил: «О, мой Король!
Ужель мне слезы – наказанье?»
…Потом лишь мною в сердце был прознан
Самообман.
Мой холм был дальше. Прочь отсюда, прочь!
Мне крик навстречу:
«Живым тот путь не превозмочь!»
«Коль так отвратно всё, – отвечу, —
И смерть прекрасна на пути моем,
И тихий дом».
СЕРГЕЙ ШОРГИН {252}
РОБЕРТ УИЛЬЯМ СЕРВИС {253} (1874–1958)
Коль Одинокий Путь позвал – не изменить ему,
Хоть к славе он ведет тебя, хоть в гибельную тьму.
На Одинокий Путь вступил – и про любовь забудь;
До смерти будет пред тобой лишь Одинокий Путь.
Как много путей в этом мире, истоптанных множеством ног, —
И ты, по пятам за другими, пришел к развилке дорог.
Путь легкий сияет под солнцем, другой же – тосклив и суров,
Но манит тебя всё сильнее Пути Одинокого зов.
Порою устанешь от шума, и гладкий наскучит путь,
И ты по нехоженым тропам шагаешь – куда-нибудь.
Порою шагаешь в пустыню, где нет годами дождя,
И ты, к миражу направляясь, погибнешь, воды не найдя.
Порою шагаешь в горы, где долог ночлег у костра,
И ты, с голодухи слабея, ремень свой жуешь до утра.
Порою шагаешь к Югу – туда, где болот гнилье,
И ты от горячки подохнешь, и с трупа стащат тряпье.
Порою шагаешь на Север, где холод с цингою ждут,
И будешь ты гнить при жизни, и зубы, как листья, падут.
Порой попадешь на остров, где вечно шумит прибой,
И ты на пустой простор голубой там будешь глядеть с тоской.
Порой попадешь на Арктический путь, и будет мороза ожог,
И ты через мрак поползешь, как червяк, лишившись навеки ног.
Путь часто в могилу ведет – не забудь; всегда он к страданьям ведет;
Усеяли кости друзей этот путь, но всё же тебя он влечет.
А после – другим по костям твоим идти предстоит вперед.
С друзьями распрощайся ты, скажи любви: «прощай»;
Отныне – Одинокий Путь, до смерти, так и знай.
К чему сомнения и страх? Твой выбор совершен;
Ты выбрал Одинокий Путь – и пред тобою он.
ВЛАДИМИР КОРОТКЕВИЧ {254} (1930–1984)
Поведал мне эту историю Майк – он стар был и одноглаз;
А я до утра курил у костра и слушал его рассказ.
Струилась река огня свысока, и кончилась водка у нас.
Мечтал этот тип, чтоб я погиб, и строил мне козни он;
Хоть ведал мой враг, что я не слабак, – но гнев его был силен.
Он за мною, жесток, гнался то на Восток, то на Запад, то вверх, то вниз;
И от страшных угроз еле ноги унес я на Север, что мрачен и лыс.
Тут спрятаться смог, тут надолго залег, жил годы средь мрака и вьюг
С одною мечтой: клад найду золотой – и наступит врагу каюк;
Я тут что есть сил землю рыл и долбил ручьев ледяной покров,
Я тут среди скал боролся, искал свой клад золотой из снов.
Так жил я во льдах – с надеждой, в трудах, с улыбкой, в слезах… Я стар;
Прошло двадцать лет – и более нет надежд на мидасов дар.
Я много бедней церковных мышей, обрыдли труды и снега;
Но как-то сквозь тьму – с чего, не пойму – всплыл забытый образ врага.
Миновали года с той минуты, когда взмолился я Князю Зла:
Чтобы дал он мне сил, чтобы долго я жил, чтоб убил я того козла, —
Но ни знака в ответ и ни звука, о нет… Как всё это было давно!
И хоть юность прошла, память в дырах была, – хотел отомстить всё равно.
Помню, будто вчера: я курил у костра, над речкой была тишина,
А небо в тот час имело окрас рубиновый, как у вина.
Позже блеклым, седым, как абсент или дым, надо мною стал небосвод;
Мнились блики огней, и сплетение змей, и танцующих фей полет.
Всё это во сне привиделось мне, быть может… Потом вдалеке
Увидел пятно; спускалось оно, как клякса чернил, по реке:
То прыжок, то рывок; вдоль реки, поперек; то на месте кружилось порой, —
Так спускалось пятно; это было смешно и схоже с какой-то игрой.
Туманны, легки, вились огоньки там, где было подобье лица, —
Я понял вполне, что это ко мне тихо двигалась тень мертвеца.
Было гладким лицо, как крутое яйцо, гладким вроде бритой башки
И мерцало, как таз, в полуночный час средь змеящихся струй реки.
Всё ближе блеск, и всё ближе плеск, всё видней мертвец и видней;
Предстал он в конце предо мной в кольце тех туманных, дрожащих огней.
Он дергался, ныл; он корчился, выл; и я не успел сбежать,
Как вдруг он к ногам моим рухнул – и там так и остался лежать.
А далее – в том клянусь я крестом – сказал мне этот «пловец»:
«Я – твой супостат. Я знаю: ты рад увидеть, что я – мертвец.
Гляди же теперь, в победу поверь, тверди же, что месть – сладка;
Гляди, как ползу и корчусь внизу, средь ила, грязи, песка.
Если время пришло – причиненное зло исправить люди должны;
И я шел потому к тебе одному, чувствуя груз вины.
Да, я зло совершал, и тебя я искал – тут и там, среди ночи и дня;
Хоть я ныне – мертвец, но нашел наконец… Так прости же, прости меня!»
Мертвец умолял; его череп сверкал, его пальцы вонзились в ил;
Уйти я не мог – лежал он у ног; он ноги мои обхватил.
И сказал я тогда: «Не буду вреда тебе причинять, скорбя.
Хоть безмерна вина твоя, старина, – ну да ладно, прощаю тебя».
Глаза я протер (может, спал до сих пор?), стряхнул этот сон дурной.
Сияла луна, освещала она пятно средь воды речной;
Спускалось пятно туда, где темно, где лунный кончался свет,
Вниз и вниз по реке; наконец вдалеке исчез его тусклый след.
Седого и дряхлого Майка рассказ я слушал почти до утра.
Потом он уснул, и по-волчьи сверкнул стеклянный глаз у костра;
Отражал этот глаз в предутренний час небесного свет шатра.
БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН {255} (1877–1937)
Так он продал Христа. И за это ему отвалили
Тридцать звонких монет, без обману, – был правилен счет;
А еще – тридцать первый (его накануне отлили)
Полновесный динарий Каиафа вручил от щедрот.
Ни за что. Просто так. Сувенир, или дар пустяковый,
Или попросту щедрой была у Каиафы рука:
Дал «на чай» он за тот поцелуй – хладнокровный, суровый, —
На который ответил апостол ударом клинка.
Коль свиней разводить разрешал бы закон иудеям —
Много лучшей наградою стало бы стадо свиней.
И несчастье не в том, что был продан «сын божий» злодеем, —
В том, что продан живой человек. Что бывает страшней?
Словно зайца, который бежит от погони кровавой
И к ногам твоим жмется, спасения ищет с тоской,
Сдать охотникам лютым – чтоб он перед смертной расправой
Завизжал, когда двинут его за ушами рукой.
И распятый затих. А Иуда ликующей своре
Крикнул: «Кровью омылась греха и измены гора!
Что же я натворил? Кровь невинную продал, о горе!» —
В грязь с размаху швырнув ненавистную горсть серебра.
Понял он, что погиб и что проклят навеки отныне:
Не касался его очищающий дождь проливной…
Петлю он завязал на брезгливо дрожавшей осине —
И ногой посильней оттолкнул от себя шар земной.
А монеты собрали и дали горшечнику-скряге
За участок земли, что погостом общественным стал
(Где покой обретали прервавшие век свой бедняги —
Там доходных домов нынче высится целый квартал).
Даже скалы заставит заплакать история эта…
Тридцать первый серебреник тщетно искали потом:
Некий мытарь увидел, куда откатилась монета,
В грязь ногою вдавил – и потом утащил к себе в дом.
Нес динарий удачу, умножилась прибыль стократно;
Скупердяй богател, без конца пополнялась казна.
Стал не только богатым – бессмертным. Оно и понятно:
Для того чтоб повеситься, все-таки совесть нужна.
Он каменья швырял и глумился вовсю над распятым,
Львам бросал христиан и поганил Христовых невест,
А потом окрестился и стал богомольцем завзятым,
И доносы строчил, и костром возвеличивал крест.
Громче римского папы орал на соборах о вере…
Но когда угодил к сарацинам в неволю потом —
Первым крикнул «Аллах!», и надсмотрщиком стал на галере;
Тех, кто веру не предал, стегал беспощадным кнутом.
С сотней лиц, с кучей рук, был как идол индийский, как Шива,
Выл у тронов и плах, словно злобный натасканный пес,
Городские ворота врагу открывал суетливо,
«Молот ведьм» написал, написал на Джордано донос.
Лишь измену не предал и тех, кто платил за измену
Перед всяким мерзавцем был рад пресмыкаться в пыли,
Доносил на отца и на сына, и нощно и денно,
Доносил на друзей, что его под обстрелом спасли.
Но гляделся – святым. И один за другим, как бараны,
Звали люди его правдолюбцем, во мраке – лучом:
«В правоте убежденный, в жестокой борьбе неустанный,
Как за правое дело он бьется огнем и мечом!»
Был источником вечных раздоров – всё новых и новых,
И змеиным поклепом шипел, возмущая умы;
И никто не сказал ему слов наших предков суровых:
«Мы измену поймем – но изменников вешаем мы».
Был фискалом, шпиком. Лез повсюду – и низом, и боком.
И в гестапо служил, и в охранках, к стенаньям глухой…
Ныне «наш гуманизм» защищает в боренье высоком.
Что ж дивиться тому? Генофонд у злодея такой.
Он людей палачам за столетия сдал – миллионы.
И живет он, живет. И приходится вам ко двору.
Ваших деток берет к себе на руки он умиленно;
Речь с трибуны орет, хлещет водку у вас на пиру…
Только сыщет момент – расползется чумою по свету,
Сдаст на муки друзей и былое предаст божество.
Почему же вы, люди, не бьете уродину эту?
Почему не плюете вы в подлое рыло его?
День приходит. Пора вырвать злобное сердце у гада!
В гроб свинцовый его! пусть сгниет вместе с жалом подлец!
И расплавить скорей тридцать первый серебреник надо.
А иначе – несчастье Земле. А иначе – конец.
Что припомнишь ты в час накануне кончины,
Когда память твоя, в ожиданье пучины,
На прощанье весь мир обнимает земной?
Может, юности день, самый давний, чудесный —
Ибо день этот в край отлетел поднебесный,
Ибо он не угас и порою ночной?
Или явятся вдруг чьи-то смутные лица?
Или лишь одному суждено появиться,
Только это лицо ты успеешь узнать?
Иль с могильною тьмой в поединке суровом
Свою память запрешь ты скрипучим засовом
И не станешь, скупец, ничего вспоминать?
Иль увидишь сквозь мглу – как зеленое злато —
Лес, что видел мельком, мимолетом, когда-то,
Лес, что ныне опять увидать суждено?..
И, глазами скользнув по небесным просторам,
Ты покинешь сей мир, глядя радостным взором
В неожиданный лес, позабытый давно!..








