Век перевода (2006)
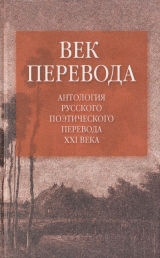
Текст книги "Век перевода (2006)"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
РУПЕРТ БРУК {119} (1887–1915)
Они манят издалека,
Над ними дней не властен ход:
Любовь как вечная река,
Что вдаль течет, не утечет,
И красота – бесценный свет,
Разлитый радугой вокруг
Тех скал, где, пеною одет,
Поток тревожит горный луг.
ДЖОЗЕФ (ДЖО) КОРРИ {120} (1894–1968)
Коль я погибну, думай лишь о том,
Что стал навек английским утолок
Вдали, за сотни миль, в краю чужом,
Где в прахе тучном клад бесценный лег.
Он Англией рожден был и взращен,
Ее частица, плод ее любви.
Он, воздухом и солнцем освящен
Английским, дух ее носил в крови.
Знай, это сердце, прочь отринув зло
И слившись с вечным пульсом, навсегда
Всё сохранит, что Родина дарила:
Счастливых дней мечты, и душ тепло,
И юные веселые года
Под светом мирных звезд отчизны милой.
Я в классиках не очень-то силен.
Что Данте, что Гомер? Лишь имена.
А Тир и Троя – что-то из времен
Старинных. И когда мне не до сна,
Мой голос хриплый о простой любви
Поет – о том, что знаю, – о простых
Девчонках – Боже их благослови! —
И мало проку от рулад моих.
Спою-ка я еще! А вдруг – как знать —
Я в песенке о той, что мне мила,
Смогу с косноязычьем совладать?
Любви по силам всякие дела.
Черт побери, ведь сколько было тех,
Кто парой строчек заслужил успех!
ЯКОВ ЛАХ {121}
ИЕГУДА АМИХАЙ {122} (1924–2000)
Высокие ветра текут над нами
и даже не касаются листвы.
Вот разве только облака быстры
и рябь струится нашими тенями.
Транжирят брызгалки – рука легка —
предшественников достоянье – воду
в угоду травам, птицам, небосводу
и нам с тобой чуть-чуть. Издалека,
с холодных гор спускается туман,
ползет во прахе, неуклюж, незван,
тоскливо думу думая одну.
И морю близкому, что заслонил курган,
катить вовек нутро свое по дну
на берег, что и так настроен на волну.
Когда победный первый гул затих,
Давид вернулся в общество ребят,
они в кольчугах новеньких своих
по-взрослому держались все подряд.
Охриплый смех и по плечу шлепок.
Кто сплевывал, а кто – бранился на чем свет.
Давид же, позабыт и одинок,
впервые понял, что других Давидов нет.
И Голиафову башку куда девать?
О ней он будто начал забывать,
хотя еще за волосы держал.
Тяжелый и ненужный матерьял.
И птицы вдаль кровавые плывут,
не слыша, как и он, вопящий люд.
НАТАН ЗАХ {123} (р. 1930)
В смятении всё на дыбы взвилось
внезапно перед каменной стеной —
псалмы, ступени, проволоки ость,
могильники и кипарисов строй,
что знали обо всем, но замерли, когда
стреляли из молитвенных рядов
очередями плача. И без дальних слов
шофары [12]12
Шофар – древний пастушеский рог, в который трубят в синагогах при молитве в осенние праздники.
[Закрыть]не оставили следа
от бывшей тишины. Лишь высилась стена,
монашеское доносилось пенье,
и минарет за церковью Успенья
уже не целил ввысь – макушка снесена.
Но выстлали они ковровый разноцвет
Давиду своему, которого там нет.
Человек что трава его дней.
Его дни трава.
Дни человечьи трава
его дней.
Не убоись.
Адамов сын на труды рожден.
Рожден на труды
Адамов сын рожден на труды
рожден.
Не убоись.
Но искры взметнутся ввысь.
Взметнутся искры.
Но искры взметнутся ввысь
взметнутся.
Не убоись.
Саул внимает музыке.
Саул внимает.
Какая музыка ему играет?
Саул внимает музыке,
которая врачует.
Саул внимает музыке.
Он слушает и чует,
будто царский зал опустел,
будто пропал весь кагал.
Ведь Саул внимает музыке.
Но разве эту музыку
Саулу следовало слушать
в такую пору?
Да, такую музыку Саулу
следовало слушать в эту пору,
ибо нет сейчас иной
и, может быть, не будет
до горы Гильбоа.
ДАЛИЯ РАВИКОВИЧ {124} (1936–2005)
Самсоновы волосы никогда не были мне понятны:
огромная сила, аскетизм охраняемой тайны,
запрет (да не осудят его) проговориться случайно,
вечное опасенье лишиться кос, паника всякий раз,
когда Далила проводит рукою по глади волос.
Зато я вполне понимаю волосы Авессалома.
Понятно, что он красив, как солнце ясного дня, как месяца красная месть.
Запах, что от него исходит, слаще сладости женских духов,
Ахитофел, холодный и злой, принужден глаза отводить,
когда видит перед собою причину любви Давида.
Эти чудные волосы, лучшие в царстве, могут запросто
бунт любой оправдать, а потом и дуб.
Ицхаку Ливни
Ты знаешь, сказала она, сшили платье тебе из огня,
помнишь, Ясона жена так и сгорела в одежде?
Это Медея, сказала она, это устроила ей Медея.
Платьем займись, она говорит.
Занимается платье твое,
угольками горит.
Ты наденешь его? Не надо, сказала она, не надевай его.
Это не ветер свистит – пузырится яд на теле.
И пусть не принцесса ты, что сделаешь ей, Медее?
Ты должна различать голоса, сказала она,
это не ветер свистит.
Сказала я ей, помнишь меня шести лет?
Шампунем намылили голову, так на улицу и пошла.
Запах мытых волос тянулся облаком вслед.
Я тогда заболела от ветра и от дождя.
Греческие трагедии читать еще не умела,
но запах шампуня струился и я тяжело болела.
Сегодня я понимаю – шампунь этот был непрост.
Что же с тобою будет, она сказала, платье твое горит.
Мне горящее платье сшили, я знаю.
Так что ты столбом стоишь, платьем займись, она говорит,
Разве тебе неизвестно, что значит «платье горит»?
Известно, я ей сказала, но не нахожу огня.
Запах того шампуня сводит меня с ума.
Согласия мне не должна даже и ты сама,
к трагедиям древних греков веры нет у меня.
Но платье, платье огнем горит.
Что она говорит, кричу я, не понимаю!
Нет никакой одежды на мне, это сама я сгораю.
ИСРАЭЛЬ ПИНКАС {125} (р. 1935)
Бела была голубка одна.
– Любите голубку, это она —
Простерла крыла и прочь из гнезда.
– Любите голубку, это она.
Задев одного из вороньих царьков,
– Любите голубку, это она —
Коснулась, летая, стаи волков.
– Любите голубку, это она.
И встретила недругов семьдесят семь.
– Любите голубку, это она —
Из зависти к ней заклевали совсем.
– Любите голубку, это она.
Пока не сошла, белоснежной была.
– Любите голубку, это она —
Да станет примером пера и крыла.
– Любите голубку, это она.
Сон бежит от меня
по ночам, взлетая,
взлетая, покоя
не зная.
Дремота моя так легка
и тонка, над бездной
витает она.
Бледны, как воск,
у нее крыла.
Я знаю, холодно ей,
знаю, утомлена.
Мне бы ее укрыть,
пока она сну отдана.
И я, может быть, принимаю ее за любовь иногда.
Лицо затеряно в облаках, будто луна,
что больна. Оттого обнимает меня темнота.
Бывает, что запах тела ее меня обвевает.
Когда по улице я иду,
чудится, что вдыхаю благоухание плоти,
близкой ко мне в дремоте, и сон
бежит от меня, взлетая.
И вдруг опечалился я
по ослабшим, и плачется горько по братьям
по старшим: Шимон, Реувэн
и Леви, они в рыхлую землю ушли,
во мрак подземного дома,
где волосы их продолжают безумно
расти, а также – настырные ногти
с целью, не ведомой мне.
На всех на нас теперь я гляжу, а брат мой скрипку берет,
тело его мало – это скорее душа, и вот
в зеркале глаз широко распахнут, будто вопрос задает
в изумленьи, а мы – еще дети тогда, но выросли мед
собирать в тяжелые лета, и из года в год
добавляется птичий пух, что на малом теле растет.
«Яаков, я сын твой
меньшой, ел
египетский хлеб
и у тебя
за столом веселился.
Йосэф, который во мне,
всё видит и плачет
по Биньямину,
который во мне,
вдвоем к тебе я
приду.
Чувствую волны
плесенной тьмы,
что от рук твоих
горьких исходят.
Прими же мой дар: это я,
младший из сыновей,
предстать хочу пред тобою».
Sur mon ame! Vous m'avez donne un bal a Venise, je vous rends un souper a Ferrare. Fete pour fete, messeigneurs.
V. Hugo. Lucrece Borgia. III. 2[13]
«Я ужин устрою в Ферраре. Будете у меня
пировать. Бал вы задали в Венеции, прошу вас мной
не пренебрегать».
Глубоко в сердце завелся подвох,
как мох. Тело растит недуг, шелестит
во мгле, пестует
ропота завязь, и на груди уже
шорохом полноты цветенья —
розы державный цветок.
В черном шелке проносится буря.
Душа, что ни разу желанного не коснулась,
покоряется снова.
Последняя трапеза ваша
готова.
В преддверьи трапезы внимания прошу к деревьям и кустам.
Вы все приглашены сопровождать меня в прогулке по садам.
И как гостям рекомендую вам отметить мой немного странный
образ жизни, обратите ваши взоры к соловьям и
к армии дроздов, вы слышите шипение, присущее дроздам?
Они грузны сейчас. Они волнуются в предощущеньи зла.
Ну, а цветы мои, мои цветы, мои цветы,
мясистого объятия которых вы скоро удостоитесь, навек.
О, мои цветы! Вы различаете дрожание цветов?
На золото заритесь по
ночам. На злато чужое по чужим
дворцам. Ваши змеиные язычки
перемалывали годами
зубы свои.
Помню подарок ваш,
гады, свившиеся
в клубок, вы мушиный яд
подарили, уста же роняли
мед. Помню вашу
похлебку, жижа стекала
с одежд, струя нечистот
на ложе, врезалось пение
в память, солнце, что поднялось
над вами, запомнился
бал.
ДЖОН КИТС {126} (1795–1821)
Куда
пропали вдруг
веселые танцоры,
и сладкие мелодии, и хоры
на ветвях?
Зачем поблекли милые
плоды, и смех
умолк в кустах?
Как побелела глупая
рука!.. утихла ваша кровь…
Склонясь к земле,
почтением исполнен сад.
Теперь Messieurs, Mesdames,
a table, s'il vous plait [14]14
Дамы и господа, пожалуйте к столу (фр.).
[Закрыть].
И всё же я скажу вам кое-что еще:
С недоумением глядел
отряд моих дроздов
на вас, и выпала роса
тяжелая на вас – как послесловие
великих дел.
Название поэмы средневекового французского поэта Алена Шартье, букв.: «Прекрасная дама, лишенная милосердия».
[Закрыть]
Ax, бедный рыцарь, что с тобой?
Ты бледен, краше в гроб кладут;
Засох на озере камыш
И птицы не поют.
Ах, бедный рыцарь, что с тобой?
Скитаешься, страданье для;
Полны у белок закрома,
И скошены поля.
Я вижу лилию во лбу,
В испарине ты занемог;
И слишком рано у тебя
Увяли розы щек.
Я встретил деву на лугах,
Дитя, волшебная краса,
Длинноволоса и легка,
И дикие глаза.
И усадивши на коня,
Я не сводил с нее очей;
Склонила голову она
И пела песню фей.
Я сплел ей девичий венок,
Запястья, пояс анемон,
И видел страсть в ее глазах,
И сладкий слышал стон.
Коренья пряные нашла,
И мед, и манник полевой,
И мне на языке чудном
Клялась в любви святой.
В чудесный грот меня ввела,
Вздохнула, и стекла слеза,
И поцелуем я закрыл
Печальные глаза.
И задремали мы во мху,
И видел я – о боль сама! —
Мой сон последний там в тени
Холодного холма.
Шли предо мною короли
И воины – бледны, слабы,
Вопя: «La belle Dame sans merci,
Мы все твои рабы!»
Мне снилась судорога губ,
Зловещего оскала тьма,
И пробудился я в тени
Холодного холма.
И потому я здесь пока
Скитаюсь, одинок и худ,
Хоть и засох уже камыш
И птицы не поют.
ВЛАДИМИР ЛЕТУЧИЙ {127}
ТЕОДОР КОРНФЕЛЬД {128} (1636–1698)



Новое, друзья, совсем не то,
что машина руки замещает.
Пусть вас эта новость не смущает —
вспомнит ли о ней назавтра кто?
Всё равно Вселенная новее,
чем и кабель, и высотный дом.
Видишь – звезды; нет огня старее,
новые огни затмятся в нем.
И трансмиссию не приневолят
колесо грядущего вращать.
Вечность только с вечностью глаголет.
Даже то, что было, не познать.
И стремится будущее в дали
вместе с тем, что мы в себя вобрали.
Счастливы, кто знает, что за речью
несказанное стоит,
что оно в своем добросердечье
нас в неизмеримом единит!
Перекинуть мост общенья
каждый волен свой:
лишь бы встреченные восхищенья
пребывали радостью одной.
Время – летучий песок. Как медленно убывает
зданье, чей счастлив покуда статут.
Жизнь вечно веет. И без связи уже выступают
колонны – и ничего не несут.
Но разрушенье: разве печальней, чем возвращенье
фонтана к бассейну – блестящим дождем?
Перетирают нас зубы извечного превращенья,
пока наконец не проглотит нас оно целиком.
– Ах, помоги поточней ты
нужный найти оборот:
в оборванных звуках флейты,
видно, пропал переход,
когда твой лик угасает,
всё еще страстью палим…
– Танцовщицы предъявляют,
слова не надобны им.
– Ты себя расточала
в движеньях и жестах, как шквал,
и сразу другой предстала,
но я твой отказ понимал,
как будто бы в нем страдает
то, что стало моим.
– Танцовщицы не теряют,
себя раздаряя другим.
– Но у такого стремленья
нет последней черты.
Чтобы ушла в движенье
снова, легкая, ты,
тщетно мой крик взывает
к флейтам и скрипкам немым.
– Танцовщицы умолкают
вместе с пространством своим.
Коснись волшебной палочкой былого,
что громоздится грудою ничьей,
и мальчиком себя увидишь снова
и испытаешь преданность вещей.
Коснись еще раз – и глаза любимой
рассеют на мгновенье забытье:
о, чистый свет, на небесах хранимый,
с прикосновеньем перейдет в нее.
И в третий раз коснись, признав смиренно,
что время чудной силы истекло,
пребудь самим собой и откровенно
поведай, что с тобой произошло.
Маски! Маски! Чтобы от сиянья
не ослепнуть вмиг, когда придет
он, как летнее солнцестоянье,
и прервет весенний хоровод.
Тишина, ни говора, ни гама.
Все напряжены… Далекий стон…
И вселяет, как во чрево храма,
дрожь неописуемую он.
Ах, забылась, ах, совсем забылась!
Бог и скор, и юнолик.
Повернулась жизнь, судьба свершилась.
И внутри поет родник.
Ты повернулось, окно, празднично к звездному миру
с самых начальных времен;
всех пережить ты смогло – лебедя даже и лиру;
лик твой обожествлен.
Форма, что в стены домов проще простого вписалась,
далью даруя людей.
Даже пустая дыра в брошенном доме казалась
светлой по воле твоей.
Брошен судьбою сюда ветром извечных лишений,
счастья, потерь и обид.
То же созвездье в окне из череды превращений
перед глазами стоит.
ПАУЛЬ ЦЕЛАН {132} (1920–1970)
Иду, а взгляд уже на перевале,
где дальний отблеск солнца не погас;
в нас что-то есть от высоты и дали,
неодолимо страждущее в нас, —
чья суть вдруг обретает достоверность
и вслед за светом тянется из тьмы;
с безмерностью встречается безмерность…
Но чувствуем лишь встречный ветер мы.
Поющие мачты к земле —
плывут обломки крушения неба.
В эту деревянную песню
крепче вцепись зубами.
Ты – прикрепленный к песне
вымпел.
Жеребец, с цветущим фитилем-султаном,
зависший в прыжке над гребнем
хребта,
кометный блеск на
крупе.
Ты, в со —
заколдованных диких ручьях, рас —
пластанный,
вздымающаяся грудь в пряжке
стихострочного ига, —
скачи со мной сквозь
картины, скалы, числа.
Выскользни
у меня из-под руки,
возьми с собой
один удар пульса,
спрячься в нем —
как в мире.
Вырежь молитвенную руку
из воздуха
глазами-ножницами,
накрой ее пальцы
твоим поцелуем:
от тайн в складках
у тебя перехватит дыхание.
МИХАИЛ ЛУКАШЕВИЧ {133}
АНОНИМ {134} (XVI в.)ФРЭНСИС БРЕТ ГАРТ {135} (1836–1902)
В стынь брожу разут-раздет,
Продрог, что твой кобель,
Эх, кабы только Бог послал
Мне для сугрева эль!
Тогда бы вновь вскипела кровь,
Расправилась спина;
Долой нытье! Коль есть питье,
Одежка не нужна.
Мне не грозят ни дождь, ни град,
Ни лютая метель,
Пока меня верней огня
Веселый греет эль.
Пускай озяб я и ослаб,
Но как хлебну пивка,
Ни Джон-силач, ни Том-ловкач
Не вздуют мне бока.
Я вам клянусь, что становлюсь
Могуч, хитер и смел,
Едва взбодрит, вооружит
Меня мой добрый эль!
Неси на стол мой разносол:
Селедку да сухарь;
Хлебца чуток пойдет мне впрок,
А курицу не жарь.
Приберегу свою деньгу —
Уж больно тощ кошель! —
И так я сыт, пока бежит
По жилам старый эль.
Но что за черт?! У этих морд
Не пиво, а вода.
Да будет Бог к мерзавцам строг
В день Страшного суда!
Каков притон! За тыщу крон
Ноги моей отсель
Не будет здесь. Будь проклят весь
Паршивый жидкий эль!
Хоть не буян, напившись пьян,
Скачу я как олень.
Начнет светать, валюсь в кровать
И дрыхну целый день.
Проспавшись, я ищу питья:
Повыветрился хмель,
И в брюхе жар – тушу пожар,
В себя вливая эль.
Мне рыба в рот уже нейдет —
Так плох желудок мой,
Но мы вдвоем с святым отцом
Прикончим жбан пивной.
Я пью до дна, а коль жена
Начнет жужжать, как шмель,
Я вдрызг упьюсь – развеет грусть
Благословенный эль.
Кто пиво пьет, тот без забот
Свершает путь земной:
На сотню бед один ответ —
И в ус не дует свой.
И стар, и млад, и трус, и хват,
Кончайте канитель!
Под кружек звон скликайте жен
И пейте добрый эль!
В стынь брожу разут-раздет,
Кусается метель,
Эх, кабы только Бог послал
Душе пропащей эль!
Кто-то вырезал в долине
Имя доньи на маслине —
«Мануэлла де ла Торре».
Кто она? Крутом молчанье;
Дождь и солнце точат зданье;
Ветра тщетно призыванье —
«Мануэлла де ла Торре».
Позабылась песня эта,
Лишь припев не канул в Лету —
«Мануэлла де ла Торре».
Но порой наводит чары
Отдаленный звон гитары,
И слова легенды старой
Льются ночью на просторы:
Были стены эти юны
И впервые пели струны —
«Мануэлла де ла Торре».
Чудо, сэр! – В округе равных ей нету;
Верно, малышка моя, Чикита, красотка?
Шея-то – бархат! Погладьте! – Ах ты чертовка!
Тпру! – Джек, садись – покажи джентльмену аллюры.
Морган! Не кляча какая – бумаги все в полном порядке.
Дочь Вождя Чиппева! За тыщу – и то не расстанусь.
Бриггс ее бывший хозяин – может, слыхали?
Что прогорел и вышиб мозги себе пулей во Фриско?
Крепко влип этот Бриггс… Джек! Хорош красоваться!
Это всё чепуха – а вот дайте-ка ей работенку!
Сами знаете, лошадь ведь всякой бывает,
И не всякий, забравшись на лошадь, – наездник.
Брод на Форке видали? – Гиблое место! —
Фланиган чуть было там не угробил упряжку.
С месяц назад мы с судьей да с племяшкой евойным
В темень подались туда – в самый дождь, в половодье.
Мчим по ущелью – ручей аж бурлит под ногами,
В щепки разбита плотина, и нету другой переправы.
Я на чалом, судья на гнедке, паренек на Чиките —
А за нами грохочут каменья с вершины каньона.
Вот подлетели мы к броду, и эта Чикита
С ходу за дело – мы слова сказать не успели! —
Плюхнулась в воду – я чуть не заплакал,
Глядя, как конского мяса на тыщу уносится к черту!
И что бы вы думали? Этой же ночью Чикита
В стойло пришла и тихонько стоит, обтекает —
Чистая, точно бобер, – а упряжи нет и в помине.
Так вот, стало быть, реку она одолела, наша Чикита.
Знатная лошадь! и – как вы спросили? – Племянник?
Видно, утоп – потому как еще не вернулся;
Он, дурандай, и в седле-то не шибко держался;
С огольца что возьмешь? – Это вам не лошадка!
Как радостен жизни
Закон! —
Любить и лететь
На рожон!
Отыщу, обет храня,
В смерче дыма и огня
Я того, кто для меня
Был рожден.
И его не спутать мне
Ни с одним:
Он – герой и в битве не —
победим.
У него лицо под стать
И божественная стать,
Скоро, скоро должен стать
Он моим!
Вот и он – моя любовь,
Мой храбрец!
Это я – твоя любовь,
Наконец!
Счастье мне скорей даруй —
Отвечай на поцелуй!
Что ж ты, милый? Не балуй!
Холоден мертвец.
Рассказ Правдивого Джеймса Столовая гора, 1870
ОГДЕН НЭШ {136} (1902–1971)
То бишь верьте, друзья —
Заливать не привык! —
Что по части вранья
И дешевых интриг
Никого нет ушлее китайца —
Заявляю о том напрямик.
Ли Син звался он,
И не спорю я тут,
Что подобных имен
Просто так не дают,
Но улыбка его была кроткой —
Нипочем не дознаться, что плут.
Просветлело тем днем,
То бишь можно сказать,
Что язычник лицом
Был погоде под стать,
Но в тот день он меня с Билли Наем
Так обставил, что срам вспоминать.
Точно желтый божок,
Он возник у стола.
«Ты играешь, дружок?» —
Я спросил. «Мал-мала».
Мы засели за юкер, но сразу
Хуже некуда карта пошла.
Я тут было взгрустнул:
Дело, то бишь, – каюк,
Но Билл Най провернул
Свой излюбленный трюк
И в рукав запихнул полколоды —
Он мастак в смысле ловкости рук.
Но в игре не везло
По-кошмарному нам,
Козыря, как назло,
Так и липли к рукам
Простодушного с виду китайца —
Продували ко всем мы чертям!
И вот тут-то прокол
И случился такой:
Мне на сдаче пришел
Валет козырной,
А язычник зайди со второго —
Чем и выдал себя с головой!
Хоть я тертый игрок,
Но застыл, как стена,
А Билл Най всё просек
И вздохнул: «Вот те на!
Облапошил нас вшивый прислужник», —
И настала китайцу хана.
Из его рукавов
(Я не лез в мордобой)
Сотни карт меж столов
Разлетелись листвой,
Да с ногтей его восково-желтых
Мы и сняли налет восковой.
Так что верьте, друзья, —
Заливать не привык! —
Что по части вранья
И дешевых интриг
Никого нет ушлее китайца —
Если вру, пусть отсохнет язык!
Представьте себе: вы на темной террасе и к девушке рядом
проникнуты чувством настолько странным,
Что становится ясно – дело не только в приданом.
В воздухе летняя нега, и вечер волнующе дивный,
И луна вам шепчет лукаво, что «любить» – это глагол активный,
И звезды мерцают над вами как-то особенно,
И старинные венские вальсы играет вдали оркестр бесподобенно,
И она ничуть не противится, когда вы нежно сжимаете ей локоток,
И спустя мгновенье, исполненное романтики, вы спрашиваете:
«Милая, куда унес тебя мыслей поток?»
И она возвращается из омытых лунным сиянием далей
в сумрак веранды, И говорит: «Я просто задумалась, сколько побегов бамбука
съедает за день детеныш Гигантской панды».
Или так: вы стоите с ней на холме и закатом любуетесь зимним мечтательно,
И, как в книгах Унсет, красиво всё сногсшибательно,
И вы обвиваете рукой ее талию и произносите искусно
составленное признание, столь же проникновенное, как в книгах Уиды и Теккерея,
И спустя мгновенье, исполненное романтики, она говорит: «Ой,
я забыла купить для дайкири лаймы и в салат – сельдерея».
Или в полутемной гостиной вы только что задали ей самый
главный вопрос и с трепетом ждете ответа,
И спустя мгновенье, исполненное романтики, она говорит:
«По-моему, этот столик будет лучше смотреться на месте того
столика, только ума не приложу, куда поставить второй
столик, не дашь мне совета?»
И вот так они бьют нас ниже пояса день за днем.
И не то чтобы для них не было ничего священного – просто
в Священный Момент они всегда размышляют о чем-то
ином.








