Век перевода (2006)
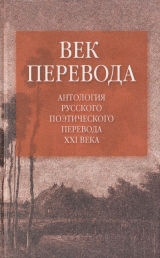
Текст книги "Век перевода (2006)"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
ДЖЕЙМС ТОМСОН {34} (1834–1882)
Лейтесь, слезы, долу,
Влагой станьте росной
Сим стопам, что с вестью
К нам сошли с Престола:
О спасеньи, очи,
Плачьте души косной;
Только лишь о мести
Плачут горько золы.
Потопите все мои
Лжи и произволы;
Боже, виждь сквозь слезы
Грех мой, глядя долу.
ДЖЕРАРД МЭНЛИ ХОПКИНС {35} (1844–1889)
В ночи раздался крик:
«Где солнца блик?
Смогу ль теперь
Войти в Неба дверь?
Я средь личин
Брошен один!» – В ночи раздался крик:
Туман бледнолик,
Привиденье-луна,
Внизу – морок сна
Темной, стылой земли
В душной пыли. В ночи раздался крик:
Он в уши проник,
Сильней зазвучал —
Потом вдруг пропал,
Словно звезда
В мрак, никуда. В ночи раздался крик:
Не подмигнул блик,
Не прозвучал звук,
Только вокруг
Трепет земли, —
И замер вдали.
Доротея и Теофил
С корзиной, выстланной травой,
Я так легко скольжу.
Все вздох задерживают свой,
Когда я прохожу.
Там, на дне, в зеленой снасти —
Обещанье горькой сласти.
Посмотри на лилий цвет,
Нет их в царских цветниках.
Вот айва, когда нет,
Нет айвы нигде в садах.
Нет, ведь деревья не цвели,
Зима во всех концах земли.
Но эти плоды с юга,
Где холод – быль иных времен.
Росы бубенчик в мальве с луга
Так уж закален?
Земель тех звездных он краса,
Звезда ли то, роса?
Плод айвы ль в ладонь упал?
Нет, зрелая луна.
Мальвов цвет ее увял
В вечернем небе. – Не видна?
Уж зашла, душа? – Ни слов,
Ни Дороти, ни цветов.
Как мне сказать о нем?
Милость ли то – его, ее?
Извещенье ль посланцом
Выдано твое?
Твой договор не совершен —
И вдруг пропала без препон.
Ушло туда, где вечный свет,
Но здесь приобрело свой спрос:
Еще в душе свеж чуда след,
И равномерен чуда рост.
О ликованье! Слез из глаз
Поток, пока жив чуда час.
В крови бесстыдное стило,
И порчи полн приказов гнет.
Из кривого мира зло
С ветвью сей навек уйдет.
Проконсул! – Где Саприций мой?
Вот христианин здесь другой.
Солдатик Горн из казарм (за горкою они
Вон) – горнистик: мать с гор ирландских, отцом —
Англичанин по крови (в нем
Лучшие черты их, как ни поверни),
В тот день, по моем визите позднем, спустился в наш он дол,
Блага снискавши, коим его я обильно
Оделил посильно, —
Итак, к первому причастью в тот день он пришел.
В красном мундире колени склонил.
Был вынут из шкафа Христос – поспешить
Отрока возвеселить!
В легкой облатке – средоточие Его сил.
Приими! Вашими, благие, будь
Дарами, о небеса, осыпан – сердцем отважным;
Словом бесстрашным;
Юностью и чистотой, что мужества суть.
Ангел-хранитель грозный, суровый,
Срази вразей злобных, спеши на подмогу;
Шагай, ратник, с ним в ногу;
Придай дням его жизни порядок толковый.
Как сердце мое там ликует, когда они,
Ловки и ладны – мои ученики,
Как персик спелый мягки,
Стремят к лучшему своевольно упорству сродни!
Ступать мне, стало, стезею отрады
Долго еще, и перед Ним заслуга
В том, что был я прислугой
И пайку Христову выдавал солдату.
Не всё, нет, совсем не всё так бередит
Нас: цветопад цветущей юности в предвестье
Награды в том месте,
Царстве, где Владыка-Христос царит.
За работу смелей, елей священный!
В ход чары, чуры, заграду злу,
Клеть для любви в души углу!
Да не увижу его и досады мгновенной,
Что чаяньем чезнет, отчего – подъем,
Однажды заприметить броский багрец,
В кровавых каплях венец,
Гллахада Господа. Хоть идет путем
Дитя это предначертанным, и не мне
Стенать; но не пойдет ли дурной стезей,
Возвращаясь в край свой? —
Воля на то Господа, я в стороне;
На слове печатном доводы воздвиг,
Что потрясут непреклонные своды, едва
Мои замолчат слова;
Загодя, но всё же – пускай небеса услышат меня вмиг.
В регистрационную книгу гостиницы
УИЛЬЯМ СУТАР {36} (1898–1943)
Желал ли отдыха, отрады
Вдали от города ль глотнул, —
Искать досуг другой не надо,
Как только здесь, у Пенмайн-Пул.
Ты альпинист? или гребец? —
Здесь спорту каждому посул:
Взберись на Кадера венец,
Плесни веслом на Пенмайн-Пул.
Что там вдали? – Дифвис седой,
Трехгорбый Великанский Стул,
Давай, друг старый, мы с тобой
Осушим чашу Пенмайн-Пул.
И весь пейзаж окрест часами,
От тихих троп до скальных скул,
Стоит, качаясь, вверх ногами
В простом, прозрачном Пенмайн-Пул.
И звезды дивные, и тучи,
Чью шерсть как будто вихрь раздул,
Сияют в небе, гурт летучий,
Колышась в темном Пенмайн-Пул.
Гляди, как Маутах петляет!
Разлива яростный разгул
На отмель реку загоняет
В низовьях, по-за Пенмайн-Пул.
А как бывает в непогоду,
Когда льет дождь и ветра гул? —
Дождинки вышивают воду
Мельчайшей рябью в Пенмайн-Пул.
Но и на святки, в день студеный,
Когда все реки лед стянул,
Пушистый снег посеребренный
Укроет хмурый Пенмайн-Пул.
И, наконец, достигнув дома,
Припомнишь, как ты отдохнул,
Отдав дань элю золотому,
Какой схож с пеной в Пенмайн-Пул.
Приди ж, кто отпуска, отрады
Еще в деревне не глотнул,
Ты не найдешь усладней клада
И кладезя, чем Пенмайн-Пул.
Лишь утра край —
Вороний грай
На Крэйги Ноуз
Рассвет зовет:
Рассвет зовет,
Вставай, вставай!
А день идет
На Крэйги Ноуз:
На Крэйги Ноуз
В округе всей
Услышу грай —
И кончен день.
И кончен день,
Звезда ярчей,
И ух сычей
На Крэйги Ноуз.
В землице сырой
Наш Джонни Макнил:
Хоть был он чудной,
Его всяк любил.
Был звон вразнобой;
И старый наш поп
Прощался с душой,
Когда клали гроб.
Зеленой травой
Тот холмик покрыт;
И знак небольшой:
«Тут Джонни лежит».
Сказ, в общем, простой:
Хоть Джонни Макнил
Был малость чудной,
Его всяк любил.
Кромвель был вояка,
Кромвель был святой,
В Скотию он прибыл
Как к себе домой.
К Перту подвел пушку
Страшной толщины.
«Бум!» – пальнула пушка,
Вот и нет стены.
Спейгейтская нищенка
Взвыла: «Стой, балбес!»
Каркнул: «Творю, старуха,
Волю я небес».
Тумак дали в школе —
Прочитать не сумел.
Тумак от мамаши —
Расплескать суп успел
Тумак же от брата —
Поиграть взял не то,
И тумак от папаши —
Бог знает за что.
Джон Нокс знал по-латински,
Иврит и грецкий знал,
Но всё ж с его амвона
Родной язык звучал.
Хоть росту небольшого,
Большой тряс бородой,
Сей бороды боялся
Всяк, даже зверь лесной.
С галер домой принес он
Морей озноб и страх,
И речи были солью,
Блеск моря был в глазах.
Джон Нокс был предназначен
Вступить с короной в спор;
Над Скотией всё веет
Его дух до сих пор.
ОЛЬГА ГАВРИКОВА {37}
ДУНКАН КЭМПБЕЛЛ СКОТТ {38} (1862–1947)ДЖОН РОНАЛЬД РУЭЛ ТОЛКИН {39} (1892–1973)
В святой тайник возвышенной души
Фиалки нежной пал цветок —
С красой простившись, меж страниц, в тиши,
Утратил жизни сок.
Его собратья в мускусе лощин
Лиловый вновь соткут ковер,
Прохладу изумрудную долин
Вплетая в свой узор.
Ему быть тенью этой красоты:
Поблек их стеблей чистый тон,
И ярко-синий цвет крыла мечты
В горсть пепла превращен.
Но здесь, где страстью страсть сотворена,
Он дар Шекспира превзойдет;
От Дездемоны вглубь цветка, бледна,
Душа ее скользнет.
И светлый край вдруг в памяти всплывет,
Где вихрь людских страстей возник:
Роса, в зерцале пруда звездный свод,
На роще лунный блик.
Тот голос, что дрожал во тьме ночной,
Рванется ввысь, – и вдруг, застыв,
Как жаворонка светлый звон лесной,
В холмах замрет мотив.
Читатель пьес, от чаянья устав
В них свое сердце разгадать,
Уйдет искать средь сумрачных дубрав
Озер подлунных гладь.
Вот кот: толст живот,
вкусны ли сны —
о сливках жирных, мирных
мышах-крепышах?
Иль во сне, горд, тверд,
наш кот бредет
по полям-лесам – там
его род живет:
закален, стан силен,
высок прыжок,
людей, зверей – бей,
непрост восток!
Льва оскал – как провал;
когтей страшней
не найдешь, клык – что нож,
штыка острей!
Грозен тигра рык,
легки прыжки,
в чаще в черную ночь
тихи шаги.
Там, где лес до небес,
хищный род царит;
кот ручной – не такой,
он в уюте спит.
Только толстый кот,
что домашним слывет,
память ту бережет.
ДМИТРИЙ ГАГУА {40}
НИКОЛОЗ БАРАТАШВИЛИ {41} (1784–1856)ЖОЗЕ-МАРИЯ ДЕ ЭРЕДИА {42} (1842–1905)
Я пришпорил коня, позабыв о привычной дороге.
Сзади ворон кричит, как всегда, предвещая тревогу.
Что ж, Мерани, лети, как придется, по жизни, по свету,
с черной мыслью сплети обезумевший, яростный ветер.
Воздух, воды и твердь рассеки, бей копытом невзгоды!
Слышишь, конь, торопись! Сократи расстоянья и годы,
Слышишь, конь, не щади ни себя, ни меня в бурях грозных;
в стужу, слякоть и зной ты скачи, не надеясь на отдых.
За спиной – отчий дом, плечи друга, улыбка любимой.
Всё забыто, разбито и скрыто в удушливом дыме.
Мне отчизной в ночи станет место шального ночлега;
со звездой заведу разговор, отдыхая от бега.
Всё, что было во мне, что в душе я так долго лелеял,
отдаю плеску волн и биенью копыт, не жалея.
С черной мыслью сплету обезумевший, яростный ветер,
на коне пролечу, как придется, по жизни, по свету.
Знаю я: где умру, там и лягу под пасмурным небом,
и не вспомнит никто обо мне. То ли был, то ли не был.
Мне никто из людей пятаками глаза не прикроет;
ворон выроет яму, а ветер присыплет землею.
Будут дождь и роса вместо слез на любимых ресницах,
а оплакивать станут меня перелетные птицы.
Но пока я живой и судьба мне хребет не сломала,
пронеси меня, конь, к горизонту, где светятся дали!
Я враждую с судьбой, измеряя года по минутам.
Будь что будет! Пусть смерть помешает дойти до приюта.
Мчись, Мерани, вперед, без оглядки, по жизни, по свету,
с черной мыслью сплети обезумевший, яростный ветер!
Видно, я обречен. Темнота подступила вплотную.
От дороги устав, задыхаюсь в холодном поту я.
Но не зря я летел на коне, забывая про раны;
путь для тех, кто пойдет, протоптал беспокойный Мерани.
И опять кто-то гонит коня, позабыв о дороге,
и опять воронье, как всегда, предвещает тревогу.
Что ж, Мерани, лети, как придется, по жизни, по свету,
с черной мыслью сплети обезумевший, яростный ветер.
У моря, на горе – святилища руины.
Смерть размешала там, в пластах горячих глин,
и бронзовых бойцов, и мраморных богинь,
чью славу погребло безмолвие полыни.
Один лишь волопас стада гоняет ныне;
он, раковиной той, где дышит древний гимн,
наполнив даль небес и тишь сквозных глубин,
свой черный силуэт воздвиг в бескрайней сини.
Земля, как мать, нежна к античным божествам;
велит, чтоб меж стеблей разбитой капители
другие по весне аканты зеленели.
Но Человек, увы, чужд праотцев мечтам;
без дрожи внемлет он со дна ночей смиренных
пучине, что ревет и плачет по Сиренам.
И звероборец шел один сквозь чащу леса
по распахавшим грунт следам гигантских лап;
вдруг по плечам хлестнул горячий хищный храп
и солнца свет померк за гибельной завесой.
Не ведая пути, как если б встретил беса, —
в терновник, по ручью, с обрыва на ухаб, —
к Тиринфу убегал объятый страхом раб.
Широкие зрачки от ужаса белесы.
Он видел въяве тот живой кошмар Немеи:
космата и рыжа шерсть на короткой шее,
оскаленная пасть, клыков кинжальный строй.
Так в сумерках грозна тень длинная фигуры
Геракла, что стоит в кровавой львиной шкуре;
не человек, не зверь – чудовищный герой.
Дух мирры умащал наложниц молодых,
что нежатся в мечтах, декабрь смакуя вяло,
и угольницы медь покои озаряла,
метав огонь и тень по ликам бледным их.
На пурпурных одрах, в подушках пуховых,
подчас одно из тел – тех, мрамора ль, опала —
то выгнется, а то взметнется – и опало;
так складками лежит виссона страстный штрих.
Вот, сочивом себя саму разбередив,
восточная раба парильни посреди
бессильно вьет рукой в томленьи безголосом;
и вольную толпу увядших Авзонид
в неистовом кругу пьянит, манит, блазнит
дикарство черных кос, оплетших бронзу торса.
Вот древний дикий лог, сокрытый от Эвксина;
смоляный лавр дутой склонен поверх ключа,
и Нимфа тут, с ветвей задорно хохоча,
касается ступней воды студеной сини.
Ее товарки вмиг, по голосу букцины,
в волне искристой плоть забавой горяча,
ныряют в пену брызг, а там – изгиб плеча,
бутон груди, бедро всплывают из пучины.
Веселья дивный глас переполняет чащу.
Но вдруг из-за дерев сверкает взор горящий.
Сатир!.. Зловещий смех нарушил их игру;
они несутся прочь. Так ворон каркнет быстро,
и по-над снеговым потоком, на ветру
вскипает забытьём взлет лебедей Каистра.
ЕВГЕНИЙ ГАЛАХОВ {43}
РОБЕРТ БРАУНИНГ {44} (1812–1889)
[Антиохийца Памфилакса труд,
Как говорят, – пергамент пятый мой,
На греческом, в три слоя склеен он
И тянется от эпсилон до мю.
Лежит вторым он в избранном ларце,
Печать на крышке – теревинфа сок,
Покров из шерсти, буква кси на нем —
Ксанф, мой сородич, ныне в небесах.
Мю с эпсилон я имя заменю —
Его писать нельзя. Поставлю крест
В знак, что, как все, Его прихода жду,
И здесь закончу. Начал Памфилакс]
Я молвил: «Коль смочить уста вином,
Широкий лист платана отыскать
Иль обмакнуть обрывок полотна
В сосуд с водой и ровно положить
Чуть выше глаз, чтоб освежить чело,
Тогда как братья с каждой стороны,
Встав на колени, руки разотрут, —
Быть может, он еще заговорит».
То было не во внешней из пещер
И не в сокрытой глубине скалы,
Где мы, вослед указу, две луны,
Верблюжью шкуру постелив ему,
Его кончины ждали, что ни час,
Но в среднем гроте, где полдневный свет,
Проникнув в сумрак, позволял ловить
Последние движения лица.
Я с изголовья, а с изножья – Ксанф,
Валент и Мальчик за него взялись
И вынесли его из глубины,
И положили в бледный полумрак,
Когда кривиться начали уста
И трепет век дал знать, что срок пришел.
За полпути от входа в наш вертеп
Бактриец обращенный нес дозор, —
Он вызвался сойти за пастуха
Козы, что нам давала молоко,
Кормясь травой в тени окрестных скал,
Чтоб, если воин или вор придет
(Гонители разыскивали нас),
Он мог ему отдать козу и жизнь,
И тот ушел бы прочь, добыче рад,
В прохладе грота не ища иной.
Был полдень, и пылала синева.
Ксанф молвил: «Вот вино», – и капнул им,
Я, наклонившись, наложил лоскут,
Растер десницу, Мальчик шуйцу взял,
Валент подумал и слепил комок
Из нарда, и разъял, чтоб запах шел.
Но он не то чтоб пробудился – лишь
Чуть сдвинулся с улыбкою во сне,
Как если милый трогает, зовет —
И спящий любит, но не хочет встать.
Ксанф помолился; он, как прежде, спал.
Тот самый Ксанф позднее скрылся в Рим,
Был там сожжен, и мне пришлось писать.
Вдруг Мальчик побежал, вскочив с колен,
Внезапною догадкой озарен,
Из сокровенной кельи к нам принес
Седьмую, сплошь свинцовую скрижаль,
Перстом ощупал вырезы на ней
И произнес, как будто в первый раз:
«Аз есмь и Воскресение, и Жизнь».
Он тут же широко открыл глаза,
И сел он сам, и посмотрел на нас.
С тех пор никто и слова не сказал,
И лишь бактриец повторял порой
Крик птицы, что в глуши живет одна,
В знак, что опасность не грозила нам.
Он начал так: «Когда бы друг назвал
Моих сынов – Валента и тебя —
Иаковом, Петром, – нет: если б он
Сказал, что этот мальчик – Иоанн,
И в это я поверил бы на миг!
Так глубоко укрылся я в себе,
Покинула душа увядший мозг,
Где, чувствуя, владела естеством
Посредством членов, немощных давно.
Но я есмь я; я чувствую себя —
И никаких утрат. Итак, начну!»
[Так он обыкновенно изъяснял,
Как три Лица свидетельствуют в нас.
Есть три души в одной душе: сперва —
Душа всех членов, вместе и поврозь,
В них трудится, в них действуетона
И, подчиняя персть, склоняет нас
Вниз, но, совета высшего взыскав,
Растет в иную, что ее растит,
В себя вбирает и живет в мозгу,
Использует все навыки ее,
Чтоб чувствовать, судить, желать и знать,
И, устремляясь выше в свой черед,
Растет в иную, что ее растит,
В последнюю, что подчиняет те,
Хотят они того иль не хотят,
И образует Я, способность быть.
И так она велит играть второй,
Как первой – та, и, устремляясь ввысь,
Оплот находит в Боге, чтобы мы
Не рухнули под бременем скорбей.
Ей Бог – удел, а в месте нет нужды.
Деянье, Знанье, Суть: единство трех.
Такую глоссу сделал Феотип.]
Затем: «Когда-то весь мой жезл горел,
Но стал золой – лишь тлеет головня.
Но если дуть на искры, то огонь
Чуть-чуть окрепнет, вспять пойдя, и так
Я понуждаю дух, служивший мне,
Чтоб он остатки мозга вновь напряг,
Насколько угли сохранили вид,
Да повелят руинам членов те
Вкусить, как прежде, правду о вещах
(Он улыбнулся) – ту, что столь мелка:
Что вы – мои сыны и что давно
Смерть унесла Иакова с Петром,
И я – последний, брат ваш Иоанн,
Кто видел, слышал, может вспомнить всё.
Всё вспомнить! Нет, не дерзость – так сказать.
Что, если б снова Истина с высот
Сошла ко мне? Ведь может быть и так:
Он, несомненно, может мне предстать,
С огнем в очах, с кудрями словно снег,
Средь светочей, с мечом, как видел я —
Я, недоумевающий теперь,
Как брат ваш, видев это, уцелел?
Я жив еще – для блага, чтоб любовь
Открылась людям. Пусть одна зола
Обличье Иоанново хранит,
Подумайте: рассыплется она —
И на земле не будет никого,
Кто видел оком, осязал рукой
Живой Глагол, что от начала был.
Никто не скажет больше «Я узрел».
Так, чтоб взойти, склоняется любовь.
Когда Христос призвал меня учить,
Я стал ходить по свету, говоря:
«Так было; так я видел и внимал»,
При случае, и верил мне народ.
Потом я Откровенье получил
На Патмосе, не призванный учить,
Но лишь внимать, взять книгу и писать,
Не добавляя ничего к словам,
Не опуская, не меняя их;
Так я писал, и верил мне народ.
Когда же годы подошли к концу,
А больше глас писать меня не звал,
Я, исходя из знаний, стал учить,
Чтоб все, любя, признали мощь любви,
Подчас друзей в посланиях прося
О ней же только, больше ни о чем,
И рассужденьям верили друзья.
Но мне казалось, что остался я
Медузою на патмосских песках,
Чтоб жителям прибрежий говорить
О странствиях, о чудищах пучин
И повторять: «Я видел, слышал, знал»,
И возвращаться к прежним берегам,
Когда уже Антихрист в мире был,
И множеству антихристов внимать:
«Ты – Иоанн, Иаспер – я, и что?
Я юн, ты стар и мог уже забыть:
Так отчего ж поверим мы тебе?»
Я не хотел сводить на них огонь
Иль, как в былые дивные года,
На змей и скорпионов наступать;
Но вспоминал, что в житии Христа
Забыто было иль искажено.
Ведь многое из прежних дел и слов,
Изложенное ясно и сполна,
Умножилось (иль выросла душа
За столько лет, столь дивный свет познав,
Хранимая, чтоб видеть и учить)
И новое значенье обрело;
Я в прежних точках звезды различил
И описал в Евангелье своем.
Ведь вопрошали: «Много лет прошло,
И где обет пришествия Его?» —
Юнцы в расцвете силы обо мне,
Заставшем в летах детство их отцов.
Но я, любя, охотно отвечал, —
Ведь я был жив и мог еще помочь;
И верили они, в конце концов.
Так, наконец, я от трудов ослаб
И смерти ждал; вы унесли меня,
И я почил в раздумьях об одном:
Что, если даже мир лежит во зле,
В нас – истина, а прочим Бог судья.
Но ныне я очнулся, столь смущен,
Как будто поскользнулся и упал,
Расставшись с тем, чем был я до сих пор,
И уцепиться ни за что не смог, —
Я понял, что покинул этот мир,
Когда разверзлась бездна подо мной,
Средь нерожденных в будущих веках
Внимая или мысля, что внимал:
«Так жил ли вправду этот Иоанн
И называл ли видевшим себя?
Заверь, мы спросим, что он видеть мог?»
Как их заверить? Могут ли они
В одежде юной плоти, полной сил,
На каждом духе средь житейских нужд,
Живя, учась, пока с годами персть
Не станет тоньше, чтобы он прозрел, —
Понять, как я, удержанный едва,
В обносках прежней ризы, трепещу,
Вселенскому сиянию открыт?
Вотще ль стареем и слабеем мы,
Любимцы Бога? Благ без боли нет.
Да, для меня рассказ, та Жизнь и Смерть,
О чем писал я «это было» – есть,
Здесь и сейчас; не мыслю об ином.
Не в мире ль Бог, Чьей силой создан мир?
Не спорит ли с грехом Его любовь,
Когда мы видим, как творится зло?
Боль, зло, любовь – что вижу я еще?
Что – Воскресенье? Что – Восход Христа
К деснице Отчей, если не прорыв
Всей истины, разлившейся в душе,
Когда, вослед греху и смерти, я
Вдруг вижу то, что сможет их затмить, —
Добра и Славы будущий поток?
Я видел Мощь и вижу, как Любовь
Ее приемлет; в слове «вижу» я
Дух, общий Им Обеим, признаю,
Что нашим духам отверзает взгляд,
Веля взирать. Я вижу – суть Они,
Но вы, те чада, коих любит Он,
Нуждаетесь в том зрительном стекле,
Что изумило некогда меня,
Творение искусных мастеров:
Предметы, поднесенные к глазам,
Лежали в беспорядке, и никак
Не мог постичь их связи слабый взор,
Пока стекло не отдалило их —
Столь четким, мелким, ясным стало всё!
Так истину постичь и вы должны,
Сведенную к деяньям прошлых дней,
Что могут ясным доводом служить,
Но далеки от вас. Пусть чувства вновь
От вечности вернутся к временам
И в них отыщут эту Жизнь и Смерть.
Смотрите на нее, пока она
Не разольется вширь, как звездный свет,
Не станет миром вам, как стала мне.
Ведь жизнь, отрады, горести ее,
Надежда, страх – поверьте старику —
Лишь случай, чтобы мы могли постичь,
Какой была, бывает, есть любовь,
Чтоб мы держались стойко за нее,
Чтоб зависть мира не смущала нас,
Чтоб правду мы блюли – и это всё.
Но посмотрите, как наш путь двояк —
Не так, как тело, учится душа!
Казалось бы, что в свой короткий срок
Плоть, для души опорою служа,
Должна спешить, но нежило тепло,
Свет озарял и услаждала снедь
Тела людей уже века назад,
Как в наши дни. В стремленье к высоте
Остановилась плоть, душа же – нет.
Как в этот полдень могут мудрецы
Афин и Рима нечто постигать
В предвечной мощи, скрытое вчера,
Так, если мощь от этого растет,
Тем более растет эфир над ней,
Любовь над силой, в Божестве – Христос.
И, чтоб урокам не было конца,
Доколе время длится на земле,
Нужны предупрежденья каждый день,
Чтоб не лишилась доблести душа, —
Препоны для старинного вреда,
Ручательство о жизни вновь и вновь,
Вопрос извечный: «Вправду ль любит Бог,
И соблюдете ль эту правду вы?»
Вы знаете, что для телесных благ
Нам в мире подтвержденья не нужны:
С тех пор, как в стужу дали нам огонь,
Мы знаем, какова его цена,
И неизменно пламень бережем.
Поблек рассказ, как смертным Прометей
Принес Зевесов краденый цветок
(Язычники так сами говорят),
Но что бы в прошлом ни было с огнем —
Его поныне ценит и знаток,
Смеющийся Эсхиловым стихам,
Как оценил в трагедии сатир,
Что прикасался к пламени, дивясь.
Будь так с душой, когда бы правду мы,
Узнав, всегда хранили в чистоте
И множили, как всё, что тешит плоть, —
Проверка бы окончилась, земля б
Погибла; пусть размыслит человек,
Затем решит – отдаст ли он огонь,
Познав его, за злато и багрец?
Отверг бы он Христа, будь речь ясна?
Чтоб испытать нас, доводы плывут,
И мы не можем их принять, как все,
И напрямую в жизни признавать,
Как благо несомненное – огонь.
«Но раньше было легче», – слышен вздох.
Чтоб дать ответ, остался я в живых.
Взгляните – с Ним я от начала был!
Вы знаете, что видел я; затем
Впервые испытание пришло:
«Что от Христа, Который подле вас
Преобразился, по волнам прошел
И Лазаря воздвигнул из пелен,
Могло тебя отвлечь?» – смеетесь вы.
Что отвлекло? Свет факелов и шум,
Внезапный римлян вид, удар меча,
Угрозы иудеев – вот о чем
Написано: «Оставил и бежал».
Таков был испытания исход.
Но дух, обретший правду, мог расти:
Год-два спустя – какмалое дитя
Иль женщина, не знавшая вовек
Моих видений, только вняв словам,
Креста не обхватили бы, смеясь,
В горящей ризе, славя Божество?
Что ж, все угрозы минули? Не все.
Уж начинался незаметный труд,
У правды притуплявший острие,
Пока любовь сомнений не сразит.
Наставники шептали: «Пусть верны
Рассказы старцев, – юноши поймут
То, что от старцев скрыла скудость сил:
Учение раскрылось лишь теперь».
Так, как когда-то римское копье,
Ту Истину, что трогал я рукой,
Пронзили хитроумные слова
Керинфа, Эвиона и других,
Пока не грянул клич: «Спаси Христа!»
Я описал, что в житии Его
Забыто было иль искажено.
Я сделал так, но что нас ждет теперь,
Когда в уме я слышу голоса:
«Так был ли вправду этот Иоанн
И называл ли видевшим себя?
Заверь, мы спросим, что он видеть мог!»
Не это ль бремя сих последних дней?
Не помогу ль я вам его нести,
Чтоб немощью умножить вашу мощь?
Когда бы здесь, в пещерной темноте,
И родилось, и выросло дитя,
Что слышало о солнце лишь от нас,
Но видело лишь отблеск, а не свет, —
Тот, кто хотел бы обучить его,
Охотно б сам ушел в слепящий мрак
На месяцы, и так бы он постиг,
Что различают очи в темноте;
Должно быть, он сумел бы объяснить,
Что в мире света больше, чем внутри,
Не говоря: «Я видел, верьте мне!»
Вам это бремя тяжкое нести
В чужих и обновившихся краях,
Со мной расставшись, вскоре предстоит.
В сомненье вы? Расстаньтесь с ним скорей!
Я вижу – проповедуете вы
В ином обличье вечером в полях,
На островках, которым нет имен,
Под портиком пытаетесь спастись
От шумных толп в огромных городах,
Где ныне слышно только пенье птиц,
И спорите средь каменных руин,
Где праздным взорам видится Эфес.
Тогда не спросит ближнего никто:
«Так где обет Его прихода?» – но
«Открылся ли в какой-то жизни Он —
Как Мощь, Любовь и действующий Дух?»
Всё выскажу скорей – торопит срок:
Вопрос – ответ, чтоб мы спастись смогли!
Не молкнет книга, писанная мной,
Но тихий голос отвечает ей:
«Ты говоришь о давних временах;
Кто вспомнит правду даже день спустя?
Не довод для ученья – чудеса.
Что ж есть в ученье? Мы должны любить,
И любим мы любовь и мощь в одном —
Пусть это мы постигли из речей
О Господе; но вправду ль был Христос?
Есть в Нем нужда? Не нами ль создан Он?
Ум узнает лишь то, что скрыто в нем.
Начнем с любви: мы признаем Христа,
Поскольку нам ясна Его любовь,
Поскольку в нас она уже живет,
Иначе б не узнали мы ее.
То – отраженье нашего ума,
Которое вернулось к нам опять
И чем-то внешним кажется для нас,
Дела, обличье, имя обретя.
Брось в воздух вещь – на землю упадет,
Как доказать, что было всё не так?
Теперь – о мощи: Он – Творец и Царь.
Конечно, мир возник, и власть в нем есть,
Коль не всегда он был таким, как стал.
Отцы считали – носят скакуны
К восходу солнце вверх, к закату – вниз,
Что ныне ходит вверх и вниз само,
Как будто вольной брошено рукой, —
Имея руки, думали они;
Однако новый слышится вопрос:
Ужель все силы таковы, как мы?
У нас есть руки, воля есть, но то,
Что правит им, – неведомый закон,
А воля и любовь знакомы нам.
И книги нам свидетельствуют, как,
Чтоб наказать иль наградить людей,
В недолжный срок давало солнце свет,
Скрывалось, застывало: вот молва!
Но и теперь нуждается земля
В наградах или карах, как тогда,
Но мы не ждем вмешательства светил.
Итак, ошиблись наши праотцы,
И страсть сокрыла истину от них.
Вернемся вспять, к истокам всех вещей:
Мы видим волю, разум и любовь
В себе самих – и мы их придаем,
Считая правдой, мнимым божествам,
Как прежде – руки, ноги, стан, чело.
Забыты Герин взор, Зевесов лик,
Остались Гере – гордость, Зевсу – гнев.
Их заменили воля, мощь, любовь;
Мощь, волю и любовь сменил закон.
Как доказать, что с Богом всё не так,
Коль прочее умом порождено?
Нет, я силен, не нужно мне вина, —
Евангелье вложите в руки мне.
Мы призваны расти, а не коснеть;
Как только мы на палец подрастем,
Ненужную опору заберут
И новую дадут для новых нужд.
Отсюда ясно – мы, увидев высь,
Должны всходить, опора же пускай
Падет, едва покинута стопой, —
Ведь всё превратно, кроме Божества.
Мы с каждым шагом зрим иное в Нем.
Где лестница падет – труду конец,
Доказанное не докажешь вновь.
Так терния сажает садовод,
Чтоб указать, что спят ростки меж них,
Предупредив неосторожный шаг;
Взойдет трава – колючки можно срыть.
Пытаясь вникнуть в свойства и роды,
Ты на кустарник больше не глядишь,
Что послужил защитой семенам,
Но на саму траву, на свет над ней,
На завязи. Плод книги видим мы,
И чудеса нам больше не нужны,
Хотя доныне эти чудеса
И стебелек, и корни соблюли
От вепря, от вола и от козы.
Что ж, человек – махина из колес,
Что могут встать и закрутиться вновь?
Нет, он всё время движется вперед,
И не забудет он того, что знал.
Так мнят языки, я же так учу:
Как ты питаешь малое дитя,
Потом оно растет и ест само,
Так с ложки кормят истиной и ум,
Лишая кашки, чуть он сможет есть.
Я чад кормил, не спрашивая их;
Пусть отрок алчет или ищет снедь.
Кричал я: «Чтоб уверовать в Христа,
Взгляни, как зренье обретет слепец!»
Теперь кричу: «Ты требуешь, хитрец,
Смеющийся рассказу о слепце,
Чтоб повторил я чудо пред тобой?»
Скажу, что в чудесах была нужда,
Когда и веры не было б без них.
Что изменялось – видимый предмет
Иль разум смертных, видящий в вещах
Не больше, чем угодно Божеству
(Как думаете вы, что вижу я
Вокруг всех нас, где вам видна скала?),
Не знаю я, но был исход таков.
Так вера исключила чудеса;
Избыток повредил бы, не помог.
Затем, признанье Бога во Христе
Твоим умом дает тебе ответ
На все вопросы неба и земли,
В тебе питая мудрость испокон.
Отвергнешь ли, чтоб снова доказать?
Уйдешь ли ты от знаний к их корням,
Хоть доводы ты мог бы применить —
Так применяй же дальше иль умри!
Я говорю, что смерть и только смерть —
Убыток от того, что ты стяжал,
Тьма от лучей, незнанье от ума,
Любовь, что в безлюбовность перешла.
Так лампа меркнет, маслом залита,
Так чрево алчет при избытке яств.
Неведение лечится всегда.
Когда спросили о природе мы:
«Что, если мощь за этой мощью есть?» —
Нуждались мы в подмоге от Творца;
Он дал ее, как писано для вас.
Но, коль за мощью некто мощь найдет,
Но спросит так: «Всё – мощь, а воля где
Источник всякой мощи, ибо в нас
Людская воля и людская мощь
Являют в малом связь двоих в большом, —
Он обернется и застынет вновь,
А встать на месте – значит умереть.
И вопрошая: «Нет ли и любви
С могуществом и волей наравне?»,
Нуждались мы в подмоге от Творца;
Он дал ее, как писано для вас.
Но, если всюду видим мы любовь
И рассуждаем: «Коль любовь везде,
Мы сами любим и любви хотим, —
Любовь – от нас, и не было Христа»,
То как помочь постигшему в себе,
Что должен он любить и ждет любви,
Коль, полн любви, ведущей ко Христу,
Из-за нее Христа отвергнет он?
Залили лампу, чреву не стерпеть
Избытка пищи, и душа умрет.
Но он добавит: «Это было лишь
Уловкой; ты виновен больше всех.
Ты называл места, людей, года,
Где, с кем, когда к нам Истина пришла, —
И в первой правде оказалась ложь,
Что на вторую нам бросает тень.
Зачем дарить нам знанье, если дар
Дается так, что пользы не найти?
И почему нельзя предотвратить
Сомненья, для которых места нет,
Где истина бесспорна и чиста?
Зачем мне выбирать и отвергать
По мере сил иль немощи моей,
Коль ты не отвечаешь на вопрос:
«Однажды было это или нет?» —
Как говорит правдивый человек.
А ты поешь, как эллинский аэд?
Прославленное действо вспомни вновь
О похищенье Зевсова огня,
Как он достался смертным в тростнике:
«Есть правда в басне, – мудрецы кричат, —
В том, как добыли смертные огонь,
Хоть он и дух, и на земле зажжен.
Что с Прометеем, то же и с тобой:
Зачем смущать ошибками людей
И всё в прямых словах не рассказать?»
Я дам ответ: «Ужель поспоришь ты
С простейшим положеньем: человек —
Не Бог, но к службе Богу призван он,
Есть у него наставник и урок,
Есть что отвергнуть, есть и то, чем стать?
Коль так, то к новым целям от былых,
От лжи ко правде, от тщеты – к делам,
От меньших – к большим благам мы идем.
Иначе – как продвинуться вперед?
Пока не стали спорить: «Что есть Бог?»,
Не спрашивал дикарь: «А что есмь я?»,
Себя не мнил верховным существом,
Как мнят сейчас все те, кто говорит,
Что в Боге нет ни воли, ни любви,
А только мощь законов естества,
В себе ж любовь не меньше признают,
Чем волю или мощь – и правы в том.
Будь человек единственным из всех
Существ, в ком мощь, и воля, и любовь,
Как ни малы, сливаются в одно,
И можно их найти и показать,
То он стоял бы выше, чем стоит
Любая мощь без воли и любви,
Совсем как жизнь в малейшем мотыльке,
Чьи крылышки сквозь пыль едва видны,
Стократ чудесней, чем Атлантов прах,
Что служит лишь опорой мотыльку!
Так, человек – над всеми; словом, Бог.
И к пораженью торжество ведет,
К ущербу – прибыль, к падшести – подъем,
Жизнь невозможна, остается смерть.
Но если, так воззвав, признает он.
Что человек в смирении своем,
Не зная Бога, лишь себя поймет,
Я следствие немедля укажу,
Сказав, что так он сам в себе открыл
Удел людей – ни Бога, ни зверей:
Нам знать дано лишь то, что можно знать,
Бог знает всё и может делать всё,
Зверям довлеют ум и сила их,
И не желают большего они,
Не сознавая своего ума.
Мы знаем часть, но больше сознаем,
От мнимого к бесспорному влачась,
И в том стремленье, воздух превратив
В предмет, что можно взять и применить,
Идем вперед, как только нам дано —
Бог есть, зверь есть, и только человек
Отчасти есть, но чает быть вполне.
Не легче было б двигаться душе,
Когда б достиглась сразу цель борьбы
И, не гадая, мы бы знали всё,
Чем телу, будь оно окружено
Сплошной землей, в то время как сейчас
Мы с места к месту двигаться вольны.
Так человек приходит к мысли, что
Он то, что знает, раньше знать не мог,
А что известным кажется сейчас —
Окажется ошибкою поздней.
Вот так у смертных знание растет:
Мы учимся, поскольку мы живем,
Былое Я велит учиться нам:
Нас, как зверей, обязывает мир,
А как людей – обязывает ум,
Закон привычки, знаний, естества.
Дар Божий – в том, что правду угадать
И от ошибки устремиться к ней
Мы можем прежде, чем постигнем вещь.
Так хвалится ваятель до трудов
Подобным даром – образом в уме
И жаждою его запечатлеть,
И, глину взяв, ей форму придает,
Крича: «Смотрите, что увидел я!»
Но он черты меняет много раз,
В подобье правды истину ища.
Что, если б он кричал: «Ни лика мне,
Ни стоп, ни тела в глине не узреть»?
Пускай в ладоши лучше хлопнет он,
Смеясь: «Вот это – образ мой живой!»
Лжи радуясь, ее осуществит,
Пока вы сами не узрите плоть
В том, что создать из глины он сумел.
Он прав, вы правы – в этом путь людской!
Лишь Бог живое сразу создает.
Отвергнете ли эту часть труда?
Нет более виденья на Горе —
Оно, явившись, вновь ушло в ничто.
Подобья же, как Моисей велел,
Еще в ходу, сменяясь при нужде.
Так повторяйте образец по ним!
За небреженье ожидает суд:
Тем недоступен ангельский закон,
Кто уступает прихотям души,
Где радость, жизнь, порыв, закон – одно!
Вот в этом бремя сих последних дней.
Я выжил, чтоб его изведать сам
И дать ответ: довольно ли сего?
Ведь если горе новое придет
И надо будет братьям руку дать,
Доколе жила бьется на моей —
Да задержусь на долгие года,
Чтоб извлекать из пропасти слепцов,
Хотя б ушел на это целый век!»
Но он был мертв, и полдень миновал.
День к вечеру клонился. Впятером
Мы погребли его и разошлись,
А я, переодет, ушел в Эфес.
Пещерный вход теперь забит песком.
Валент исчез, его утерян след.
Бактриец был как дикое дитя —
Он не писал, не молвил, лишь любил.
И чтобы эта память не ушла, —
Ведь завтра отдадут меня зверям, —
Я то же Фебу верно расскажу.
Ведь и доныне лик Ученика
Любимого, кому служил и я,
Иные люди ищут на земле,
Но тщетно – то ль не поняли они
Один намек в конце труда его,
То ль эта речь была искажена,
Переходя из уст в уста других.
Поверьте – в этом мире больше вам
Не встретить взгляд божественных очей!
Всё было как сказал я, и теперь
Он вновь лежит у Бога на груди.
[Керинф, прочтя, стал спорить; вот ответ:
– Когда Христос, как утверждаешь ты,
Не более чем лучший Человек, —
Его награду следует признать,
Сейчас и вечно, худшей из наград.
Ведь Он считал, что жизнь – в одной любви,
Считал – любовь должна войти во всех,
Наполнить души, слить с Его душой, —
Его отрада всем и всех – Ему.
Ты говоришь – награду Он обрел.
Но и сейчас немало вольных душ
И множество – живущих во плоти.
Когда б замедлил с возвращеньем Он
Еще на десять иль двенадцать лет
(Таков расчет), на каждый палец твой
Придется в день, когда погибнет мир,
По сотням душ, уверенных в словах,
Что Он со всеми станет Плоть Одна,
Будь это Памфилакс иль Иоанн —
Жених для всех! Так может человек?
А Он затем и умер, как сказал.
Признай же, что Христос – безмерный Бог
Иль побежден!
Но побежден Керинф.]








