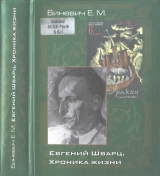
Текст книги "Евгений Шварц. Хроника жизни"
Автор книги: Евгений Биневич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 50 страниц)
Его университеты
Почему же Шварцы избрали для сына карьеру юриста? В кругу майкопской интеллигенции, к которой принадлежали и семьи Шварцев, Соловьевых, Шапошников, Соколовых, Петрожицких и многих неназванных, самыми либеральными профессиями, приносящими наибольшую пользу народу, – были врачевание и адвокатура, защита людей от болезней и несправедливостей, давали широкое знание жизни.
И Народный университет, открытый по инициативе и на деньги генерала А. Л. Шанявского (1837–1905), был оставлен, как вариант, для Жени, потому что туда принимались все достигшие 16-летнего возраста, независимо от политических и религиозных взглядов. Во главе его встал Н. В. Давыдов, близкий друг Л. Н. Толстого.
Когда вопрос об открытии Университета ставился на Государственной думе, небезызвестный Пуришкевич предупреждал: «Народный университет большое благо, но это есть палка о двух концах, и мы твердо должны помнить это. Ни на какие послабления мы пойти не можем, ибо знаем, что школа взята революционерами, что она будет источником новых вспышек революции, которая явится, если мы её не предупредим».
Перед отъездом, как и тогда, когда Женя собирался в подготовительный класс, Мария Федоровна повела его по магазинам. Ему купили готовый костюм, галстук и воротничок 37 размера.
Лев Борисович тоже собрался в Москву, т. к. у него как раз был отпуск. Во-первых, надо было поначалу как-то устроить сына там, а во-вторых, он сам решил попрактиковаться у кого-нибудь из хирургических светил, что в ту пору было обычным делом.
– Десять лет я не выезжал с юга, и каких десять лет – от семи до семнадцати. В Москву мы приехали вечером и остановились на Тверской в меблированных комнатах «Мадрид» или что-то в этом роде. Помещались они на втором этаже, примерно на том месте, где театр им. Ермоловой. Утром вышел я взглянуть на Москву. Чужой, чужой мир, люди, люди, люди – всем я безразличен. Отвратительная суета, невысокие грязные дома, множество нищих, жалкие извозчики, одноконные, с драными пролетками. Я спустился к Охотному ряду – грязь, грязь – и дошел до Большого театра.
На следующий день Женя с отцом пришли в Коммерческий институт. Какой-то враждебный, как показалось Жене, канцелярист, порывшись в разных списках, объявил: «Не принят за отсутствием вакансий».
Первой, кому написал Женя из Москвы, была, конечно же, Милочка. Послал на гимназию, т. к. боялся, что его письмо, перехваченное матерью, может не попасть Милочке.
Гостиница оказалась дороговатой для Шварцев, и Лев Борисович нашел комнату в районе Бронных. Отсюда Женя делал вояжи по городу, который помаленьку начинал ненавидеть.
– Маленькие лавки, маленькие киношки, пивные, серый полупьяный в картузах и сапогах народ, вечером никуда не идущий, а толкущийся на углах у пивных, возле кино. Босяки, страшные, хриплые проститутки – тут я их увидел на улице впервые. Так вот она, столица! Вот предел мечтаний майкопской интеллигенции… Бедные, подмокшие на осенних дождях, церквушки теряются среди грязных домов… Я пошел в неряшливо содержащийся Кремль. По его булыжной мостовой трещали колеса пролеток, проезжали ломовики с рогожными тюками, что казалось мне тоже признаком чисто московским. Рогожное хозяйство. Не понравился мне и дворец. Старая Русь и николаевская перемешаны, как в московской солянке. Общее было – рогожная, неряшливая, осенняя московская окраска. И духа истории потому не ощутил я в Кремле. Старая столица отодвинута, новая в Петербурге.
Но он пытался увидеть и что-то отрадное, то, что отсутствовало в Майкопе. Однажды, попросив у отца рубль, он отправился в театр.
– Я, судя по Майкопу и Екатеринодару, считал, что подойдешь к кассе, купишь билет – и всё. Но повсюду все билеты были проданы. Маруся Зайченко рассказывала, что в Художественном театре билеты всегда проданы, но все было продано и у Корша, и в опере Зимина. Только у Незлобина мне удалось купить билет на галерку. Шло «Горячее сердце». Хорошо, но не слишком, почувствовал я с первых же явлений. Почему? Я знал, что мечта каждого актера служить в Москве. Почему же столько средних актеров ходит по сцене?
Незадолго до возвращения Льва Борисовича в Майкоп они решили проверить «запасной вариант» для жениной учебы – университет Шанявского. В канцелярии с ними были более вежливы, чем в Коммерческом институте, но и тут он почувствовал отчуждение. И тем не менее, его записали вольнослушателем на лекции юридического факультета. «Строгим девицам, записывающим меня, – вспомнит через много лет Е. Л., – я не понравился, как не нравился Москве вообще». И они с отцом отправились искать комнату для Жени поближе к университету. И нашли её на 1-й Брестской улице.
Поначалу университет, вернее – его здание, понравился Жене.
– Мне очень понравилось в коридорах, показались необычайно уютными диванчики в углублениях за колоннами в холле второго этажа. Там свисали с потолка лампы в кубических матовых фонарях. С одной из лестниц в длинное окно увидел я Миусскую площадь – унылую, осеннюю, брандмауэры домов, закат за домами. Рамка придавала этому виду особую выразительность. Примирившую меня с московской окраской.
Женя купил открытку с видом на университет Шанявского, и она поехала в Майкоп – матушке. На ней, исписанной мелко карандашом, со стершимися от времени некоторыми словами, ещё можно разобрать: «Дорогая мама! Может, тебе интересно будет посмотреть на здание нашего университета. Аудитории наши в центре здания. Здесь в этом корпусе – помещаются в углу – как видно по надписи, – педагогические курсы, а в остальных помещениях аудитории и т. д, и т. д. Часть университета с научно-популярным отделением снимает дома в средней части города. Недавно в октябре……» Дальше все стерлось. Судя по
почтовому штемпелю, открытка отправлена 8 ноября 1913 года.
Хотя в воспоминаниях Евгений Львович часто жаловался на московское одиночество, на то, что, кроме Милочки, ему и письмецо написать некому, на самом деле это не совсем так. Оставшись один, он сразу же наладил переписку с Юрой Соколовым, Наташей и Лёлей Соловьевыми, находящимися в Петербурге. И переписка велась достаточно интенсивно. «Но мы не сохраняли письма», – скажет мне потом Наталия Васильевна.
И тут следует сразу оговориться. Не сохраняли Женины письма ни родители (открытка от него была скорее исключением, нежели правилом, вероятно, за изображение на ней), ни Людмила Крачковская, а если Юра Соколов и не выбрасывал их, то они погибли вместе с ним в 1918 или 1919 году. Не сохранились и их письма к Жене. Но совсем по другой причине. Дело в том, что, уезжая из блокадного Ленинграда в декабре 1941 года, Шварц смог взять с собой только основные, главные свои рукописи, а вся его корреспонденция осталась и, скорее всего, сгорела в печках оставшихся соседей.
А вскоре он получил письмо из Майкопа от Вари Соловьевой. На развороте листа, вырванного из ученической тетради, громадными буквами было написано лишь одно слово «С В И Н Ь Я!!!!». И Женя тут же ответил. И Варвара Васильевна единственная из его корреспондентов той поры сохранила все Женины письма. Большинство, по крайней мере. В перипетиях её долгой жизни некоторые могли и потеряться, и подлинники их сейчас переданы в РГАЛИ, а копии Варвара Васильевна подарила мне.
И на то, первое послание, всё поняв, Женя ответил тут же.
«Краткое и энергичное воззвание не могло не подействовать на лучшие свойства моей души. Благодарю за память. Я ежедневно собирался писать тебе. Письмо твое заставило действовать. Девочки пишут и снабжают марками и запоздалыми майкопскими новостями. Послал им свою карточку (в новом костюме снят). Если хочешь, пришлю и тебе. У меня черт-те сколько. Слушал я дважды «Кармен», раз в Большом театре и раз у Зимина, причем в роли Дон Хозе выступал Дамаев. Фигуркой и грацией он отдаленно напоминал все-таки знаменитого Костальяна. Слышал Дамаева и в «Пиковой даме». Томский был плохой и мою арию про графа Сан или Сен Жермена исполнил отвратительно. Видел моцартовского «Дон Жуана». Вообще, таскаюсь по театрам охотно. (…) Надеюсь, что мой репертуар не забыла? Ведь очень возможно, что я приеду на Рождество. Произведу строгую ревизию. Духи у меня ещё не все вышли. Я их расходую крайне экономно. Шоколад, который мне подарила, мы с малюткой Жоржем слопали по дороге на вокзал. Москва хороша шоколадом. Простой шоколад, свежий, только потому, что его поломали при упаковке, продается за 35 копеек фунт. Я, как тебе известно, обучаюсь в университете имени генерала Шанявского. Дела у меня много, развлечений порядочно, но временами скучновато. Не привык я один ещё пока. (…) Пиши о Майкопе, как можно больше. Я свинья действительно, что не писал раньше, теперь буду отвечать аккуратно, ежели ты меня помилуешь. Да что там я спрашивал – слать карточку! Шлю. Не понравится, отправляй обратно!
Не сердись на молчание и пиши сейчас же. Как Матюшка и Костя? Что вообще нового? От друга своего Жоржика не имею известий. Напиши всё, что знаешь о нем. Подрос ли он? Как попрыгивает Чижик-Петруша? Как в гимназии Надежда Александровна? Кланяйся ей от меня. Кто теперь в библиотеке? Кланяйся Вере Константиновне и Василию Федоровичу, Косте, Павлу и всем прочим чадам и домочадцам. Чтобы не утомиться, можешь кланяться не очень низко. А то голова заболит. (…) Письмо твое очень рассердило мою хозяйку – почтальон пришел рано и разбудил её звонками. Она выругала его чертом. Жду писем. Где ты выцарапала мой адрес? Не знаю, как дошло письмо. Пришло с опозданием. Нужно писать 1-я Брестская – их целых 3».
Е. Шварц
К несчастью, Женя не датировал свои послания, а Варвара Васильевна выбрасывала конверты, по штемпелю на которых можно было бы приблизительно определить дату написания. Очевидно, это письмо было написано в октябре или ноябре тринадцатого года. Надежда Александровна – матушка братьев Соколовых, Павел – повар, кучер и прочая в доме Соловьевых. «Малютка Жоржик» – Георгий Истоматов, соклассник Жени, был довольно высокого роста, а их преподаватель литературы Петр Николаевич Колотинский, наоборот, маленького, за что и получил прозвище «чижик».
А учеба не очень влекла Женю. Более того, постепенно он начал её ненавидеть. «Занятия в университете Шанявского шли вечерами, – записал Е. Л. 1 сентября 1952 г. – И я убедился в ужасе, что не могу слушать профессоров – и каких! Мануйлов, читающий политическую экономию, Кизеветтер, о котором говорили, что он второй оратор Москвы (первым считали Маклакова), Хвостов, Юлий Айхенвальд (критик) и многие другие внушали мне только тоску и ужас, и я не в силах был поверить, что их дисциплины (тут я впервые услышал это слово) имеют ко мне какое-то отношение. (…) Я не имел ни малейшей склонности к юридическим наукам и чем ближе их узнавал, тем более ненавидел».
И ещё – через две недели (13 сентября): «Время шло, а я не привыкал к Москве. Напротив, окончательно её возненавидел. Одиночество душило. А новые знакомства не завязывались да и только. (…) И вот я жил и жил в тоске и одиночестве. Никто не говорил мне: «Пойди постригись», и я ужасно оброс волосами».
– И я стал опускаться. Я сказал учителю [латыни], что заниматься с ним не буду больше. Распрощался с университетом Шанявского. Вставал в двенадцать, лениво валялся до часу – это в семнадцать лет! Потом покупал в киоске газету и тонкие журналы… Прежде всего «Новый Сатирикон». И плитку шоколада. Возвращался домой, валялся и читал. Потом покупал колбасы на обед, которая по сравнению с майкопской казалась мне невкусной… Вечером шел бродить по улицам или в оперу Зимина, куда легко было достать билеты, или в цирк Никитина… В мечтах моих было одно здоровое место: начало. Начинались они всегда одинаково: я мечтал, что вот каким-то чудом начинаю работать. Меняюсь коренным образом, пишу удивительные вещи и, главное, с утра до вечера, не разгибая спины. Возвращался я домой утешенный, полный надежд, давая себе торжественное обещание завтра же начать новую жизнь. И с утра начиналось то же самое. Вот во что превратился я при первой же встрече с жизнью…
Но изредка случались и «развлечения». Как-то, проходя по Камергерскому переулку мимо Художественного театра, какой-то подросток предложил ему билет на «Вишневый сад». И несмотря на то, что тот потребовал три рубля, Женя его взял. Место оказалось прекрасное – в партере, в самом центре зала.
– Фирса ещё играл Артем, а Епиходов был неожиданный – Чехов. Понравился он мне необыкновенно – так я увидел этого удивительного артиста впервые. Сцену со сломанным кием, когда он беспомощно бунтует, зная, что ничего из этого не выйдет, просто от отчаяния, провел он так, что я с удивлением подумал: «Так вот, значит, как можно играть?» Так я впервые в жизни увидел артиста, лучшего из всех, каких я знал.
А перед этим был ещё «Николай Ставрогин», которого он смотрел с далекой галерки. Качалов показался ему маловыразительным, «остальные тоже казались приглушенными, а не правдивыми. Исключение составляла Лилина, которая играла хромоножку удивительно и одна только походила на героиню Достоевского». Потом ему на утреннике удастся посмотреть «Синюю птицу», которая ему «понравилась, но меньше».
Он любил заглядывать в Третьяковку. И здание музея ему нравилось своей оригинальностью и, вероятно, потому казалось «дружественным во враждебной Москве». А однажды он забрел на вечер футуристов, в котором участвовали братья Бурлюки и Маяковский.
– Они эпатировали буржуа несвободно. Им было неловко, и только Маяковский был весел. Играл не актерски, а от избытка сил. Рост, желтая кофта с широкими черными продольными полосами, огромная беззубая пасть – все казалось внушительным и вместе с тем веселым. Понравились мне и его стихи. И ещё стихи Бурлюка-младшего – рослого блондина в студенческом сюртуке. Маяковский был храбр, остальные храбрились, и чувство неловкости и напряжения все не проходило… Вообще весь этот бунтовской вечер казался любительским. Кроме Маяковского.
Но то были нечастые островки счастья, причастности к московской жизни, а ежедневные будни и одиночество угнетали неимоверно, особенно по вечерам. И только отвечая на письма майкопских друзей, Женя становился самим собой – веселым и остроумным.
Поэтому друзья даже не подозревали о его мучениях. И когда я начал было писать эту книгу в 70-е годы, их свидетельства стали бы основными о его тогдашней жизни. И Шварц получился бы совсем иным.
«Уважаемая Варвара Васильевна! – писал он в очередном письме. – Напрасно вы приняли выражение «выцарапывать» в смысле «отыскивать», «искать». Сей вопрос, вопрос о выцарапывании был задан во избежании дальнейших ошибок в адресе на конвертах, посылаемых мне писем, и из любви к нечастым, усталым почтальонам… Я недавно отличился – послал Юрию Васильевичу письмо, не указав улицы. Написал только «Петербургская сторона». И письмо пришло, запоздав на четыре дня, все покрытое штемпелями и справками. Юрий Васильевич рассказывает, что почтальоны с нетерпением ждут моего появления в Петербурге, чтобы совершить надо мною жестокое убийство с целью мести. Если хочешь порадовать меня, старика, то пришли ты мне свою карточку. Но очень прошу наклеить марок, сколько нужно, ибо сижу в стесненных обстоятельствах, и средства рассчитаны до копейки… Жду с нетерпением подробного письма о Майкопе и его жителях.
Девочки зовут в Петербург, соблазняя посылками из Майкопа, конфетами и шоколадом. Здесь тепло, снегу нет, недавно шел дождь, грязь отчаянная. Проклятые театры дразнятся и зовут, а денег лишних нет. Когда приеду в Майкоп, вернее, если приеду, научи меня петь Лазаря. Москва – город прекрасный, жизнь моя поинтересней жизни моей в Майкопе, но тянет хоть ненадолго домой. Посещаю я лекции, слушаю известных профессоров (думаю, что писано это, чтобы родители не заподозрили правды. – Е. Б.), посещаю театры, наслаждаюсь игрой величайших артистов земли русской (а быть может, чтобы подразнить Варю. – Е. Б.). Недавно видел «Вишневый сад» в Художественном театре, и не знаю наверное, пришел ли в себя теперь или нет…
Когда пишу, слышу отчаянные звонки трамваев и свистки городовых. Может быть, раздавили кого-нибудь, а может быть, скандал. Нигде нет такого скандального города. Нет случая, чтобы прошел день без того, чтобы не изувечил кого-нибудь трамвай. Не было случая, чтобы возвращаясь домой в праздник, под праздник, откуда-нибудь вечером, я не натыкался на скандал, драку, ограбление. Обязательно где-нибудь толпа народу и городовой свистит. А пьяных тут! «Господи, послушайте», – тебя бы здесь вогнали в гроб.
Пиши о майкопской погоде. Пиши о вечерах. Устраивала ли Мария Гавриловна [Петрожицкая] ещё музыкально-мучительные утра? Пожалуйста, пиши, Варя, побольше и подробнее. Мне почти никто не пишет, и каждому письму я очень рад. Одеколон, твой подарок, я разбавил водой, и он вдруг побелел. Что это значит? Жду письма.
Е. Шварц».
А на самом деле:
– Непривычный к систематическому труду, изнеженный мечтательностью, избалованный доброжелательными и терпеливыми друзьями, югом, маленьким городом, где половину прохожих я знал если не по имени, то в лицо, я оказался один – и при этом безоружным и оглушенным силой своей любви – в сердитой Москве.
И очень хотелось хотя бы на рождественские каникулы приехать домой.
– Дни моей одинокой, самостоятельной, постыдной жизни приходили к концу. Предполагалось, что я останусь в Москве на зимние каникулы, но я послал маме умоляющее ласковое письмо с просьбой разрешить мне провести каникулы дома. И получил согласие родителей.
В Майкоп полетело очередное послание (начало декабря).
«Пишу более подробно. Вечером того дня, когда я получил твое письмо и тебе послал открытку, проще говоря – сегодня вечером, я окончательно узнал, что на Рождество в Майкоп поеду. Мама пишет, что папа решил меня взять. Не знаю. Не передумает ли. Держись, Варя, подтянись и повтори мой репертуар. Я личность строгая и вспыльчивая. Ты просила написать девочкам, что слышал от тебя, как скучает Вера Константиновна. Поручение твое выполнил с блеском. От девочек письмо пришло часа через два после твоего. Лёля, видно, сама колеблется, ехать или нет. Надеюсь, мое письмо послужит решающим толчком. Знаешь, в таких колебаниях самое незначительное воздействие бывает решающим. Цитирую Лёлино мнение о поездке: «Нас тянут домой. Мама очень скучает, право, не знаю, что и делать, поедем ли, неизвестно». Во всяком случае, Лёля не очень протестует. Потом я взывал к их сестриным чувствам. «Посмотрите, – рыдал я, – как выглядит Варя без вас! Она вдвое пополнела и поправилась! Возвращайтесь, если не хотите, чтобы она совершенно растолстела!» Надеюсь, хоть это их проберет. Я не точно цитирую свои слова, это верно.
На твоей карточке похоже, что зверь Лабунский разбудил тебя чуть свет, не дал даже причесаться, как следует, и злобно защелкал фотографическим аппаратом. Удивительно у тебя сонный и встрепанный вид. Или ты снималась после обеда? Однако ты поправилась! Хотя, может быть, карточка врет? Или действительно отсутствие трио так благотворно на тебя повлияло? Маруся Петрожицкая в феврале дает здесь концерт. Петя Петрожицкий в Майкопе?
Что ты в каждом письме обещаешь писать подробно и обрываешь их все посередине. Письмо твоим почерком в три листа – это моим в один. (…)
Слушай, любезная, что за необразованность в твои годы? «Петь Лазаря» – это значит милостыню просить. Невежество!
Выеду я, вероятно, числа двадцатого. Не раньше 18-го. Надеюсь, на этот раз ты ответишь аккуратнее, т. е. не через сто лет, как в прошлый раз. Как Костино здоровье? Поклонись Василию Федоровичу и Вере Константиновне. Жду письма.
Е. Шварц.
Нравится тебе моя новая почтовая бумага?».
Лабунский – лучший майкопский фотограф. А бумага была действительно прекрасно-голубая, лощеная.
Наташа и Лёля тоже собирались на каникулы в Майкоп. Женя ещё ждал деньги на дорогу, а Соловьята уже были в пути. Ехали через Москву. «Когда мы собрались на зимние вакансии, – рассказывала Наталия Васильевна, – мы купили заранее билеты и известили Женьку, чтобы он нас встретил. Был конец декабря, очень холодно. Лёля, зная неряшество Женьки, купила ему шарф и перчатки, что оказалось весьма своевременно. Действительно, у Жени было все потеряно, и он, ожидая нас на вокзале, имел самый несчастный вид. Лёля затащила его к нам в купе, сняла с него пальто, надела под пальто свой пуховый платок, завязала на спине узлом. Потом одела шарф, дала перчатки и приказала ему привести платок в Майкоп, что Женька потом и сделал. Сообща мы выделили Женьке вкусные вещи из нашего пайка, он был очень доволен, так как всегда был без денег, их терял».
Женя их не терял, хотя и это слово в данной ситуации тоже можно было бы употребить относительно его характера. Он их без расчета, без распределения на весь месяц, тратил по мелочам, и они кончались раньше, чем приходил очередной перевод из дома.
И вот деньги пришли, и он тоже в дороге.
– Я стою у вагонного окна и смотрю, смотрю и потихоньку ем копченую колбасу… Я ошеломлен несчастной, постыдной своей жизнью в Москве и все думаю, думаю. Я за эти месяцы стал старше. Я отчетливо понимаю, что сам виноват в своих бедах. Лень, распущенность, смутное представление обо всем… И я мечтаю, как переделаю свою жизнь в Майкопе. О возвращении в Москву и думать не хочу. Я ошеломлен, что Москва приняла меня так сурово… Невесело думаю я и о Милочке. Она все та же и по-прежнему не знает, любит меня или нет. Но за всеми этими мыслями вспыхивает от времени до времени радость. Предчувствие счастья. Сознание праздничности самого бытия моего. Эти вспышки радости, вопреки всему, – вечные мои спутники…
Встретить Женю на вокзал пришла Мария Федоровна с Валей. Вид вышедшего из вагона Жени её ошеломил. Всю жизнь она вспоминала его в этот приезд и рассказывала: «Я даже испугалась – волосы чуть ли не до плеч, штаны с бахромой, ступает как-то странно, мягко. Что такое? Оказывается, башмаки без каблуков и почти без подошв – вернулся сын из Москвы».
Дома было решено, что в университет Шанявского Женя не вернется. Латинским он будет заниматься здесь, а сдаст его в армавирской гимназии весной. И на будущий учебный год поедет в Москву, уже в «настоящий» университет. Как ни старался Лев Борисович, но год сын все-таки потерял. А Женя был счастлив.
– Папа, как мне кажется, не был доволен этим решением. Считал, что оно не мужественно, не просто. Так разумно придумали! Чтоб не терять год, я живу в Москве, учу латынь, слушаю лекции – и вот на тебе: я являюсь домой патлатым, страшным, разутым, лекций не слушал и латынь не учил. Что это значит? Что я за человек? Я и сам не мог на это ответить. Но мама испугалась моего вида, угадала, что первая встреча с самостоятельной жизнью далась мне дорого, и настояла, чтобы я остался в Майкопе ещё на полгода. Не знаю, кто был прав. Мне в октябре 13-го года исполнилось семнадцать лет. Я считал себя взрослым, да в сущности так оно и было, если говорить об одной стороне жизни, и был полным идиотом во всем, что касалось практической, действенной, простейшей её стороны. Поэтому, например, не хватало мне денег на месяц… Поэтому так же разбрасывал я и время. Поэтому мне и в голову не пришло пойти в какую-нибудь редакцию или к какому-нибудь писателю, показать, что я пишу, сделать хоть какой-нибудь шаг по писательской дороге, хотя уж давно не представлял я другой.
И жизнь в Майкопе пошла насыщенной и интересной. Во-первых, латынью Женя стал заниматься у только что окончившего армавирскую гимназию своего сверстника, с которым и отношения складывались совсем иные, чем с московским ментором. И дело пошло. Во-вторых, он стал всерьез заниматься музыкой, т. к. Мария Гавриловна Петрожицкая обнаружила, что он весьма музыкален.
– Учение пошло с неожиданной быстротой… Первая вещь, которую сыграл я по нотам, был «Крестьянский танец» Шпиндлера. Месяца через полтора разбирал я уже «Fur Elise» Бетховена, потом «Сольфеджио» Филиппа-Эммануила Баха. И? ко всеобщему удивлению, с этой последней вещью Марья Гавриловна выпустила меня на ежегодном концерте своих учеников весной 14-го года. Приняли меня весело и добродушно – я играл после малышей – долго хлопали и удивлялись, какие успехи сделал я за два месяца. И я впитывал эти похвалы с особенной жадностью после московского безразличия.
Лев Борисович был доволен, что у сына обнаружились хоть какие-то таланты.
И в-третьих, влюбленность в Милочку продолжалась. То есть, жила в нем беспрерывно. А она была все та же: чуть приветливее вначале, а потом отдалялась… И тем не менее, даже в самые несчастные дни Женя чувствовал себя защищеннее, чем в Москве.
– Четырнадцатый год мы встретили весело, ходили ряжеными по знакомым… И Милочка была со мною ласковее обычного. Потом снова отошла от меня, как бы уснула, потом опять стала чуть ласковее. Все это и являлось для меня настоящей жизнью… Ближе к весне Варвара Михайловна передала через Милочку приказ, чтобы я бывал у них дома. А то сплетничают, как объяснила мне Милочка, что мы встречаемся тайно. И я стал бывать у Крачковских.
Ранней весной приехал Юра Соколов, появился Женя Фрей. И Женя Шварц стал проводить время то у Соколовых, то у Соловьевых, то во флигеле у Фрейев. Собираясь у Соловьевых, музицировали.
– И я, едва научившись разбирать ноты, все импровизировал на рояле, искал путей полегче, как бы избавиться от учения… Варя стала из младшей – равной, и с нею можно было говорить обо всем, она оказалась умнейшей из трех (Соловьят), и я дружил с ней.
Но все это существовало для Жени как фон, как реальность, не совсем находящаяся в фокусе. Главным для него оставалась любовь к Милочке. Однако эта влюбленность начала переходить в новое качество. Теперь он её чувствовал много лучше и вдруг стал обнаруживать в ней некоторые «недостатки». Оказалось, что «в искусстве она не видит часто того, что легко угадывал Юрка, Варя Соловьева и я. И на рояле играла она хуже Вари, Наташи, Маруси Зайченко. Иной раз лицо её, изученное до последней черточки, казалось мне не таким уж ослепительно прекрасным. Да ей почему-то пришлось постричься… Внутренний неподкупный наблюдатель говорил твердо: «Эта прическа хуже. Гляди – она сейчас некрасива. Слышишь – то, что она говорит, – нелепо». Но это ни на капельку не уменьшало мою любовь. Мне только делалось больно за неё. И только».
А в гимназиях приближались выпускные экзамены, и Жене пришлось подналечь на латынь. В начале июня он, Жорж Истоматов и Лева Камрас поехали в Армавир. В те времена латынь в курсе гимназического обучения уже не считалась основополагающим предметом. Скорее – некой условностью. И все они экзамен выдержали и получили соответствующие документы.
Но наметились перемены в жизни Шварцев в Майкопе. «Отец по характеру неспокойный, мятущийся человек, всегда хотел перемен, – рассказывал младший сын Валентин Львович в 1973 году. – Решил, что в Майкопе ему скучно. Тогда часто объявлялись конкурсы на замещение различных вакансий. Появилась вакансия главного врача строительства моста у Нижнего Новгорода. Отец уехал раньше, снял квартиру и даже дачу на мызе. Потом, месяца через два-три, поехали и мы с мамой». У Евгения Львовича версия отъезда из Майкопа несколько иная:
– Папа решил во что бы то ни стало уехать из Майкопа. Ему в четырнадцатом году исполнилось сорок лет, он все говорил о старости, о том, что жизнь уходит. Узнав, что в Нижнем Новгороде на постройке железной дороги нужны врачи, он отправился туда. Старший врач сказал папе: «Без протекции к нам не попадешь». – «Вот вы и будьте моей протекцией!» – ответил папа. Старый врач (а может быть, это был главный инженер?) засмеялся, и через некоторое время папа получил назначение врачом при кессонных работах. Кончалась наша майкопская жизнь… Решено было, что старшие и Валя уедут в Нижний, а я на лето останусь у Соловьевых. Так и было сделано. В один прекрасный весенний день все друзья наши, вся майкопская городская больница пришли провожать папу. Он, веселый и задумчивый, стоял на площадке, кто-то сфотографировал его. Загудел паровоз, и поезд плавно-плавно, без толчка тронулся с места… Итак, наши уехали, а я остался один и ни на миг не почувствовал своего одиночества.
Еще раньше сарай во дворе Соловьевых был перестроен в комнату. Туда и поселили Женю.
Как-то они были с Юрой Соколовым вдвоем. Женя листал газету. На первой странице рассказывалось о событиях в Сараево.
– Австрийский эрцгерцог убит! – сказал Женя.
– А тебе-то – что! – ответил Юра.
– И в самом деле, – подумал Женя, – мне-то что?
Как врача первым мобилизовали Василия Федоровича Соловьева. Послали в Дагестан, в Петровск (Махач-Калу).
Из Екатеринодара (так как Лев Борисович по воинской повинности был приписан здесь) пришло сообщение и о его мобилизации. Его назначили ординатором екатерининской войсковой больницы. Поселился он с семьей у младшего брата Александра Борисовича.
А в Майкопе Наташа и Лёля Соловьевы решили прервать каникулы и уехали в столицу. Пришли в «общину сестер милосердия имени генерала Кауфмана». Но Лёлю не приняли – уж чересчур юный вид был у неё.
Женя уехал к родителям в Екатеринодар. Здесь на расширенном шварцевском совете было решено, что на новый учебный год Женя и Тоня поедут вместе в Москву, поступать в Императорский университет на юридический факультет. Обо всех новостях Женя тут же сообщил в Майкоп:
«Уважаемая Ваврава* Васильевна! Как вам ходилось в горах и дышалось под небесами? Какими оказались ваши спутники и какой спутницей оказались вы сами? Как выглядит Майкоп без нас и какова жизнь среди опустевших стен? Каков адрес девочек? Студент (вероятно) Шварц получит эти сведения, если вы соблаговолите направить их студенту (вероятно) 1-го курса юридического факультета Московского императорского университета. Теперь о том, как выглядели мы (Шварцы) без Майкопа. Папа обменял штатский костюм на мундир ординарного врача Екатеринодарской войсковой больницы; Валя обменял форму реалиста на форму гимназиста 2-го класса 1-й Екатеринодарской гимназии; мама осталась без перемен, той, какой была в Майкопе.
Я веду безумно разгульную жизнь. Бываю почти каждый день в оперетке (Шварцы имеют 3 места в 5 ряду) (жаль, что не наоборот, т. е. 5 в 3). Знаю наизусть каскадную песенку: Сера-фи-и-и-ма, вот она какая…**, курю трубку, которую подарил мне двоюродный брат Тоня, пью вино, ужиная в П-м общественном собрании, и безумно увлекаюсь тремя девицами, из коих одна примадонна Глория, а другие неизвестны (ни с одной из них я не знаком). От такой жизни мой красивый лоб побледнел, а красивый нос покраснел ещё больше. Буквы путаются, а предметы двоятся, двоятся, двоятся. Ничего, в Москве поправлюсь. (В Москву едет масса народу – не знаю, как доберусь.). Познакомился я здесь с одним юношей, который влюблен в Шопена и прекрасно его передает. Он сыграл мне массу его вещей и, между прочим, прелюд епге (который играет Наташа) и поразительно. Прямо сбил меня с ног. Я разработал здесь сам «Грустную песенку» Калинникова и половину уже выучил наизусть. (…) Пришли мне адреса всех уехавших майкопцев, которые знаешь. Пиши Гогенцолерн.








