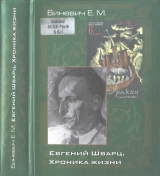
Текст книги "Евгений Шварц. Хроника жизни"
Автор книги: Евгений Биневич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 50 страниц)
Андрей
В начале февраля Евгений Львович едет в Москву. Поселяется у Крыжановских.
13 февраля 1950 года у Наташи родился сын, которого назвали Андрей. Через несколько лет Евгений Львович посвятит ему шуточное стихотворение:
Звать его Андрей,
Дед его еврей,
Бабушка – армянка,
Мама – хулиганка,
Папа – кандидат.
Худо дело, брат.
Вернувшись в Комарово, Шварцы решают отметить рождение внука обедом. Приглашается Зощенко, который тогда жил в Сестрорецке, посылается записка Германам:
«Дорогие Германы!
Я приехал.
Сегодня у нас обедает Михаил Михайлович.
Не придете ли и Вы? К пяти часам? Ответьте.
Е. и Е. Шварцы.
П. С. Обед скоромный».
И Германы тут же отзываются:
«Дорогие Шварцы!
Мы – придем. Мы – любим, когда нас зовут не просто так, а именно – ОБЕДАТЬ! Но мы ещё любим, чтобы обед был ХОРОШИЙ и с ВЫПИВКОЙ, и на сливочном масле, вот как мы любим. Мы очень хорошо питаемся сами лично дома, чтобы ходить по СКОРОМНЫМ обедам. Мы любим НЕСКОРОМНЫЕ обеды.
Женя и Катя!
Рвите цветы, пока цветут златые дни!
Пусть суп будет на чистом МЯСНОМ отваре.
Киньте на это средства!
Ваш Юра.
Таня занята.
Она не может подписать.
В крайнем случае, она поставит крестик.
Она не занята, а разучилась писать».
И снова полетели письма в Москву.
29.4.50: «Дорогая моя доченька, вчера получил твою открытку… Прежде всего не сердись на меня. В это приезд я был ошеломлен тем, что у тебя сын, тем, что у меня внук, тем, что Андрюшка и похож на кого-то очень близкого, и вместе с тем очень незнакомый старичок, ошеломлен до того, что ничего не соображал. Придется ещё приехать, что, кажется, произойдет в мае. Во всяком случае, придя в себя и разобравшись во всем, я должен сказать, что Андрюшка мне вспоминается теперь совсем своим. Я за него так же беспокоюсь, как за тебя. Или – почти так же…
Жизнь наша идет, как шла. Катя все вертится в саду. У нас не такое лето, как в Москве, но всё же все зелено. Тепло. Бывают грозы. Настоящая весна. Работа у меня идет необыкновенно вяло. Боюсь, что спокойная жизнь не только помогает работе, но иногда прямо мешает. Особенно в хорошую погоду…
Маринка кинулась ко мне, когда в один из приездов в город я пришел к Германам, и потребовала ответа от тебя. Я ответил, что тебе некогда, ты кормишь и тому подобное. На это Маринка воскликнула: «Подумаешь, кормит! У меня был зачет по латыни, я и то написала!» Напиши ей…
Начала ли ты готовиться к экзаменам? Поцелуй все свое семейство.
Твой папа».
В начале июля Наташу с Андреем навестила Екатерина Васильевна Заболоцкая, и тут же Николай Алексеевич дает отчет об этом визите Шварцу. «Дорогие Катерина Ивановна и Евгений Львович! – пишет он. – Давно не имеем от Вас вестей. Как Вы живете? На днях Катя была у Наташи и смотрела внука, которого весьма одобрила и нашла, что со временем он сможет заткнуть за пояс дедку. Я лично в этом сильно сомневаюсь, т. к. дедкины габариты тоже не фунт изюму, – поясок продолговатый.
Мое семейство ознаменовало лето рядом крупных достижений: а) Наталья сдала экзамены на пятерки и перешла в 7 кл., в) Никита, сдав экзамены, получил аттестат зрелости с пятью четверками, остальные – 5, с) моя законная жена с отличными показателями закончила всемирноизвестные Курсы Кройки и Шитья и получила соответствующий диплом, вызывающий удивление во всей округе. Что касается меня, то я закончил свой труд (Важа Пшавела, том поэм) и 15-го еду доделать его на месте и сдать в Тбилиси в изд-во…
Е. Л., когда приедешь в Москву? И К.И. возьми с собой, наконец! Мы вас сто лет не видели…
Ваш Н. Заболоцкий».
30 июня 50 года Евгений Львович записал: «Я помню себя лет с двух…» Так он начал осваивать новый для себя жанр мемуаров.
Через год, 24 июня 51 года, он расскажет, как все это начиналось:
– Сегодня ровно год, как я решил взять себя в руки, работать ежедневно, и уж во всяком случае, во что бы то ни стало вести записи в своих тетрадях, не пропуская ни одного дня, невзирая ни на болезнь, ни на усталость, ни на какие затруднения. Впервые за всю мою жизнь мне удалось придерживаться этого правила целый год подряд. И я доволен и благодарен. Худо ли, хорошо ли, но мне удалось кое-что рассказать о моей сегодняшней жизни, значит этот год не пропадет так бесследно, как предыдущие. И я решился за этот год на нечто более трудное. Я стал записывать о своем детстве все, что помню, ничего не скрывая и во всяком случае ничего не прибавляя. Пока что мне удалось рассказать о себе такие вещи, о которых всю жизнь я молчал. И как будто мне чуть-чуть удалось писать натуру, чего я никак не умел делать… Год, прожитый с тех пор, был очень, очень уныл. Я что-то очень отрезвел… Я как бы растянул душу или вывихнул. Впрочем, я ни за что не хочу смотреть фактам в лицо. Пока что я не верю, что мне пятьдесят четыре года: жизнь продолжается…
А год назад на лето в Комарово (вернее, в Ленинград, к Гаянэ Николаевне, и в Комарово) приезжала Наташа с Андреем. Олег уехал в очередную экспедицию в Среднюю Азию.
После возвращения Наташи в Москву, их эпистолярный роман, естественно, продолжился.
6 сентября: «Дорогая Наташенька, получил твое письмо только вчера, пятого. Мы были в городе два дня, и открытка пролежала нечитанной до моего возвращения…
Сегодня ровно год, как мы переехали в Комарово. Подводя итоги, думаю, что в городе мы прожили бы это время значительно хуже. Конечно, я мог бы тут больше работать, но теперь я нагоню упущенное. Кончил и восьмого отправлю в Москву второй акт пьесы. За ним приедет ко мне ихняя, мтюзовская завлитша. Позвонили мне из цирка, что мою пантомиму, которую я сдал ещё весной не только приняли, что со мною бывало довольно часто, а и разрешили к представлению, что случается несколько реже. Обещают в течение сентября заплатить деньги.
Часто вспоминаю Андрюшку. Теперь он для меня стал совсем близким человеком. Он очень трогательный мальчик. Продолжает ли он плакать в твое отсутствие, как научился в последний день, или перестал? Я тоже очень доволен твоим приездом в Ленинград и Комарово. Жалко, что никак не могу научиться разговаривать с тобою в письмах так же легко и на такие же серьезные темы, как это бывает при встречах. Умоляю тебя, помни, что говорили мы о семейной жизни. Никогда, никогда не обижай тех, кого любишь, как бы тебе не чудилось, что ты права. Владей собой! Умоляю! Не ворчи, не скрипи, не ссорься, чтобы не было чувства, что в квартире не в порядке канализация. Пока я доволен тем, как вы обращаетесь друг с другом. Доволен в основном. Я говорю о дальнейшем. Вероятно, совсем без ссор не обходятся даже самые дружные семьи, но пусть ссоры будут не бытом, а редким событием. Прости, что учу тебя. Ничего не поделаешь. Я все время думаю о тебе и твоей семейной жизни. А кроме того, как ни поворачивай, а я все-таки дед. А у дедов это страсть – учить всех, как надо жить.
Все эти дни шли дожди. Сегодня вдруг опять стало теплее, Показалось солнце, и я, отправив письмо, пойду в лес. Каждое утро, не глядя на погоду, я, выйдя в сад, удивляюсь тому, как у нас хорошо.
Юра Герман уехал в Ташкент. Провожая его, видел Маринку, которая кланяется тебе. Она дома восхищалась Андрюшей, нашла, что ты похудела, но похорошела, но что она построила бы свою семейную жизнь иначе. Во всяком случае, не похудела бы. Юра её дразнил по этому поводу.
Все тебе кланяются… Пиши!
Твой папа».
Пьеса, о которой здесь идет речь, «Василиса Работница»; пантомима для цирка называлась «Иван Богатырь», и с ней случится то же, что случается «не редко», – её не поставят, мало того – и денег за неё Евгений Львович не получит.
28/IX: «Дорогая доченька, деньги мне до сих пор, как это бывает каждую осень, не перевели. Должны мне из большего количества мест, чем в прошлом году. Надеюсь, что в худшем случае, в начале октября, я с тобой рассчитаюсь. Мне должны в цирке, где у меня приняли пантомиму, не потрудившись даже известить об этом, должны в издательстве «Молодая гвардия», где тоже не известив, напечатали для самодеятельных театров «Снежную королеву», и назвали меня, пересылая корректуру, тов. Шварцман, должны в управлении по охране авторских прав. Словом, надеюсь, что все будет в порядке.
Пьесу кончаю. В ней будет три действия. Это сказка, отчасти известная тебе – первый акт я привозил в феврале в Москву. Помнишь? Ты читала его. Там действуют три мальчика, их мама Василиса-работница, Баба Яга. Получается, кажется, довольно славненько. Впрочем, посмотрим…
У тебя есть серьезный пробел в образовании – это точные науки. Непривычка мыслить математически, отсутствие особого, необходимого астрономам воображения будет некоторое время мешать тебе. Если ты не отступишь в мистическом страхе, то через некоторое время вдруг поймешь все, и сама удивишься, как это ты могла чего-то там недопонимать. Сейчас самое главное одолеть институт. От этого зависит и самочувствие, и доверие к себе, и отдых будущим летом, и многое другое. Давай, Натуся, одолевай!..
Позавчера, когда был в городе, посетил бабушку… Все вспоминает Андрюшку и восхищается его красотой и твоим умением обращаться с ним. О Гане говорит: «она как будто переродилась, когда увидела внука». Выглядит бабушка хорошо. Раньше она не верила, что ей удастся повидать правнука, а теперь верит, что и в феврале ты с ним приедешь…
Целую тебя, Андрюшу, все семейство…».
Дневниковых записей в «тетрадях» немного. Зато он увлеченно описывает свое детство. Но одну любопытную запись от 24 ноября все же приведу: «Надевши длинные белые валенки, пошел бродить по обычному своему пути: академический поселок, нижний лесок, море. Внизу дорожки ещё не протоптаны, и я рад был валенкам. Несмотря на мороз, между корнями деревьев в снежных берегах бежит ручей. Иду по просеке и думаю – здесь, на севере, ощущаешь силу жизни, может быть, и больше, чем на юге. Чтобы вырасти из песчаной почвы под ледяным ветром, в страшные морозы, вопреки всему развернуться, как эта ёлка, и подняться выше своего соседа – телеграфного столба, нужно иметь богатырские силы. И мне стало понятно, что этот лес не говорит с южной лихостью о своей силе и красоте просто потому, что ему некогда…».
В воспоминаниях о Шварце часто встречаешь строки о том, что, приехав с юга, он сразу впитал в себя петербургскую культуру и стал неразличим с аборигенами. А те, кто не знал его в молодости, воспринимали его урожденным ленинградцем. Все это в отношении культуры, может быть, и верно. Но по природе своей, по привязанностям, он оставался южанином. Не случайно ведь он так скучал по югу, по морю, так рвался туда. Не случайно ведь, что в его произведениях столько из детства-отрочества. Вот и приведенная запись говорит о его генетической памяти о юге.
18/XII: «Дорогая моя Наташенька, спасибо тебе за письма. Я пробую вылезти из своего финансового кризиса, вернувшись в лоно Ленфильма. Надя уговорила меня написать сценарий. Материал необыкновенно интересный – о детях-туристах. Я связался здесь с детской туристской станцией, и в дневниках детей, и в разговорах с участниками путешествий нашлось столько богатств, что на десять сценариев хватит с избытком. По новому министерскому приказу, прежде чем писать сценарий, я должен сдать министерству либретто. То есть подробно изложить сюжет, рассказать о действующих лицах картины и так далее, и тому подобное. Для меня легче написать сценарий, но я попробовал рискнуть. Либретто на студии в основном понравилось, но меня попросили сделать кое-какие переделки. И вот я делаю уже четвертый вариант либретто, – последний уже по указаниям рецензента министерства. И при этом все меня торопят – и студия, и Надя. Я – то еду в город, то возвращаюсь, чтобы править, то опять мчусь на студию. Я думал, что отложу работу над пьесой дня на три, а теперь просто не знаю, когда я к ней вернусь. А она почти что кончена. Не больше недели осталось посидеть над ней – прямо беда. Из-за всего этого откладывается моя поездка в Москву, и я не пишу тебе, частью по занятости, а частью потому, что не знаю, когда же выберусь к тебе. Не сердись на меня за это…
Мы думали было пожить в городе недели две, пока дела идут так, что мне приходится постоянно бывать на Ленфильме. Поехали двенадцатого в Ленинград. А четырнадцатого уже решили, что это невозможно. Мы так привыкли за это время жить за городом, что в своей квартире чувствуем себя, как в гостях. Приехали мы опять в Комарово, встретила нас со слезами и воем Томка, и почувствовали мы, что вернулись домой.
Была здесь Лидочка Каверина. Она получила квартиру на Лаврушенском переулке. Очень звала нас приехать в Москву встречать новый год. Звали нас и Заболоцкие, с которыми мы разговаривали по телефону на другой день после Катюшиных именин… Нам очень хотелось приехать, но деньги не пускают. Ты пишешь, чтобы я не беспокоился по поводу того, что не могу тебе послать причитающиеся тебе деньги. Не беспокоиться по этому поводу я не могу. Утешает меня одно: в свое время ты получишь их полностью, как это было и в прошлом году. Я думал, что в этом году обычное мое осеннее безденежье ликвидируется скорее, чем в прошлом, но, видимо, ошибся…
Все вижу тебя во сне, как это бывает, когда особенно много думаю о тебе… Пиши мне, родная. Я постараюсь теперь писать, как можно чаще. Целую тебя, Андрюшу, Олега. Привет Нине Владимировне…».
13 февраля 1951 года Андрею исполнялся год.
8. II.51: «Дорогая моя Наташенька, поздравляю тебя с днём рождения Андрюши, поздравляю и Олега, и Нину Владимировну, и, конечно же, самого виновника торжества, и всех вас крепко целую… Еще не исключена возможность моего приезда. Все зависит от вызова, который я жду из Москвы. Во всяком случае, если я и опоздаю на торжества, то мы, когда я приеду, отпразднуем все сначала. Давно я скучаю по тебе. Будь возможность, то все оставил бы и приехал. Все время вспоминаю, как год назад жили мы с тобой тихо и мирно в ожидании великого события, ходили в лавки и даже принимали гостей. Помню и наши поездки к докторше. Вспоминаю, до самой смерти не забуду, как я сидел с часами в руках и соображал – вести тебя в больницу или нет? Вспоминаю и поездку в машине, и как тебя увели, и как мы вернулись, и как, не дождавшись положенного срока, пошел Олег к соседям звонить и вдруг прибежал обратно, крича: «поздравляю с внуком!» Вот так появился Андрюша на свет. Как ты писала из больницы: «приходится мириться с тем, что это все очень просто»…
А у меня дела только-только как будто начинают распутываться. Принятый цирком сценарий с плана сняли, сняли с плана мой однотомник в издательстве Искусство, пересматривают закон об авторском праве, отчего задержали авторские за «Снежную королеву», так как её причислили к инсценировкам. (Впрочем, это последнее, как будто, отпало). Но сейчас МТЮЗ поставил в план мою новую пьесу. Два акта уже лежат в театре, третий и последний кончаю со дня на день. Очень довольны на Ленфильме моим сценарием «Неробкий десяток», либретто которого я сдал им, наконец. В этом либретто сорок страниц на машинке. (А в сценарии, то есть уже в готовой вещи, редко бывает больше шестидесяти). Без развернутого либретто теперь не заключают договор на сценарий. В московском Детгизе вставили в серию «Школьная библиотека» – мою книжку «Мой завод». Вот тебе точное перечисление всех плюсов и минусов.
В издательстве Искусство сняты все без исключения однотомники детских пьес, и я предполагал, что так оно и будет, и не слишком на них рассчитывал. Но на цирк я очень обижен и послал в Главное управление цирками резкое письмо, чего обычно не делаю. Они попросту надули меня. Они ни копейки не заплатили за снятую и разрешенную Реперткомом вещь на том основании, что договор не был оформлен. (По их вине!) Впрочем, об этом довольно. Во всяком случае, я теперь, очевидно, выплываю…
Хотел послать тебе фототелеграмму, но из этого получился один позор. У меня стали дрожать руки, что вызвало всеобщее внимание. Внимание ещё более увеличило дрожь, в результате чего фототелеграмму отказались принять. Посылаю её тебе. Была она написана в декабре. В конце…».
22/IV-51 г.: «Дорогая моя доченька, вот уже третий день я живу в Комарово, и мне кажется чудом, что я так недавно завтракал с тобою по утрам в кухне, а потом шел беседовать с Андрюшей о рыбах и пирамидке.
Прежде всего о делах. Мы обсудили все подробно с Катюшей и решили: на июль вы должны приехать к нам на дачу. Мы разместимся так, что вы никого не стесните, и Андрюшка с тобой займет лучшую, подобающую его возрасту комнату. После ремонта, сделанного у нас и во флигеле, где когда-то была баня, все это вполне устраивается. Даже если Катюша будет чувствовать себя хуже, чем теперь, то все равно при этом распределении она будет в стороне от своего внука-пасынка. Впрочем, зная её характер и учитывая то, как она о нем, об Андрюше расспрашивала, в стороне от него она будет только спать. Мальчиков она ужасно жалеет и любит, как я – дочерей. Следовательно, вопрос этот давайте считать окончательно решенным, если, конечно, все будет благополучно…
…Из твоих знакомых вижу иной раз Маринку, разбитную, крикливую, довольную жизнью, тощую, длинную и рассеянную. Она сосредоточена на своей институтской жизни и не замечает окружающих из другого мира. На днях Таня доказывала мне, что её дети какие-то особенные. Вот Маринка, например, совершенно не интересуется мальчишками и вообще равнодушна к вопросам такого рода. Тогда я робко спросил, почему же у неё в гостях все какие-то мальчики и по телефону она говорит тоже все о каких-то мальчиках? На это Таня ответила, что Маринка всех этих мальчиков презирает. Я не стал спорить. Пусть думает так…
Бывает у нас Аничка: выглядит ужасно. Родные и близкие её окончательно заездили, но должен признаться тебе, что мне в голову иногда приходит странная мысль: по сложным психо-невро-аналитическим причинам Анютка не стремится уйти от бед этого рода, а бросается им навстречу. Во всяком случае, тем не менее я ей очень сочувствую. Она хороший человек.
Вот и все новости, доченька. Ты для меня, как и прежде, – самое главное.
Целую тебя и все твое семейство. Папа».
«Me…»
Чувствуется, что и письма к Наташе стали приходить реже, да и «сюжеты новые рожать» Евгений Львович к этому времени стал меньше. Причиной тому, думаю, увлечение воспоминаниями («прозой», как он их обозначает), которыми ежедневно заполняются «Амбарные книги». Наименовать их «мемуарами» он не хотел. Ему вообще не нравилось это слово. Поэтому он придумал для этих записей условное название – «Ме…».
– В тетради этой я пишу, когда уже почти не работает голова, вечером или ночью, чаще всего, если огорчен или не в духе. Условие, которое поставил я себе – не зачеркивать (такое же условие он ставил себе и в двадцать восьмом году, когда затевал «Тетрадь № 1». – Е. Б.), отменил, когда стал рассказывать истории посложнее. И вот, перечитав вчера то, что писал последние месяцы, я убедился в следующем: несмотря на усталость, многое удалось рассказать довольно точно и достаточно чисто. Второе условие, которое я поставил себе – не врать, не перегруппировывать (ну и слово) события, исполнено. Этого и оказалось достаточным для того, чтобы кое-что и вышло. Заметил, что в прозе становлюсь менее связанным. Но все оправдываюсь. Чувствую потребность так или иначе объясниться. Это значит, что третьего условия – писать для себя и только для себя, исполнить не мог, да и вряд ли оно выполнимо. Если бы я писал только для себя, то получилось бы подобие шифра. Мне достаточно было бы написать: «картинная галерея», «грецкий орех», «реальное училище», «книжный магазин Марева», чтобы передо мною явились соответствующие, весьма сильные представления. Я пишу не для печати, не для близких, не для потомства, – и все же рассказываю кому-то и стараюсь, чтобы меня поняли эти неведомые читатели. Проще говоря, стараюсь, чтоб было похоже, хотя никто этого от меня не требует…
В первый раз в жизни удалось вести непрерывные записи вот уже десятый месяц. Что получается? Удалось несомненно рассказать кое-что о детстве, о Маршаке, о сегодняшних днях – это, последнее, получается хуже всего. Удалось вот в каком смысле – я впервые записываю все, как было, без всякого умалчивания, по возможности ничего не прибавляя… Я стал рассказывать о себе по нескольким причинам. Первая, что я боялся, ужасался не глухонемой ли я. Точнее, не немой ли. Ведь я прожил свою жизнь, и видя, и слыша, – неужели не рассказать мне обо всем этом? Впрочем, это не точно… Я думал так: «Надо же, наконец, научиться писать». Мне казалось (да и сейчас кажется), что для этого есть время. Пора, наконец, научиться писать для того, чтобы рассказать то, что видел. Пора научиться писать по памяти – это равносильно тому, чтобы научиться живописцу писать с натуры. (По-моему, это нечто совершенно противоположное. – Е. Б.). И вот я стал учиться. И по мере того, как я погружался в это дело, я стал испытывать удовольствие от того, что рассказываю, худо ли, хорошо ли, о людях, которых уже нет на свете. Они исчезли, а я, вспоминая их, рассказываю только то, что помню, ничего не прибавляя и не убавляя. Многих из них я любил. Все они оставили след в моей душе. Таким образом, говоря, я говорил за некоторых из них. То есть, не «говоря», а «работая», – хотел я сказать. А потом и воспоминания о более далеких людях стали мне нравиться. Они жили, и я могу засвидетельствовать это. Иногда мне трудно удержаться от обобщений, – но я видел это! Как же не делать выводов… Но каждый раз, когда я пытаюсь обобщать, то теряюсь. И мне кажется, что я влез не в свое дело… Но я убедился, что могу рассказывать о более сложных предметах, чем предполагал. Страшные мысли о моей немоте почти исчезли. Если я ещё проживу, не слабея и не глупея, несколько лет, то опыт, приобретенный за эти последние месяцы, может мне пригодиться…
И в последний год записи в «тетрадях» переменились – дневник стал превращаться в воспоминания. Поначалу – в основном о детстве, родственниках с отцовой и матушкиной сторон, о Майкопе и т. д. Это было интересней, чем записи о сегодняшнем дне, и те возникали все реже и реже. Возможно ещё и потому, что в его жизни почти ничего не происходило. Я имею в виду – в творческой жизни. Думаю даже, что к концу дня, когда уже написалось столько, сколько смоглось, или даже в часы писательства, он вспоминал себя мальчиком или юношей и переходил с нетерпением к «тетради», в которую писал об этом с наслаждением. Для Евгения Львовича это было, как путешествие в прошлое. Он пытался осознать что из тогдашнего перешло в него теперешнего.
И Маша, его внучка, готовя в 1999 году четырехтомник лучшего, что написано дедом в разных жанрах, весь первый том (около 40 листов) отдала его майкопскому детству.
Но, судя по всему, первым позывом к воспоминаниям, цель была чисто литературная. Научиться описанию «натуры», как он считал для себя, в жанре автобиографической прозы. А возвращаться в прошлое – в детство, юность и отрочество, в начало писательства и т. д. – всегда интереснее и приятней, чем записывать будничное, что произошло за день. И как тут не «обобщить» то, что дало прошлое тебе, сегодняшнему.
А в октябре он получил письмо от сестры Бориса Житкова. Затевался сборник его памяти, и она просила написать воспоминания о нем. Тогда Шварц записал (10.10.52): «Я в некотором смятении. Я помню о нем очень многое. Точнее, он занимал в моей жизни большое место, – но что об этом расскажешь? Очень многое тут не скажется. А что скажется – пригодится ли?».
И отбросив все сомнения, и не ограничивая себя ни в чем, будто и не для сборника вовсе, пишет, как писал до того, воспоминания о Житкове, его значении для детской литературе, его влиянии на самого Шварца, о его взаимоотношениях с Маршаком, Олейниковым, Хармсом и другими. Пишет ежедневно с 11 по 30 октября – двадцать дней. Потом, правя кое-что, перепечатывает на машинке, отсылает сестре Житкова. Но в сборник его воспоминания не входят. Они, действительно, не «пригодились», – уж больно они нестандартны и откровенны. Пригодились они лишь в 1987 году журналу «Вопросы литературы» (№ 2).
После этого, дописывая «Майкоп», он начинает описывать Петроград 1921 года, вспоминает о Корнее Ивановиче Чуковском, новелла о котором обретет название «Белый волк», о «серапионах», о художниках, оформлявших книги для детей («Печатный двор») и т. д.
Вероятно, Евгений Львович был первым экзистенциалистом в России. Жизнь и люди существовали для него такими, какими он их «ощущал».То есть все его воспоминания и портреты чрезвычайно субъективны, говоря проще.
Бывало, какие-то куски он читал друзьям. Подчас ему говорили, что он несправедлив, что на самом деле, к примеру, Корней Иванович был совсем не такой. И он вроде бы соглашался, обещал переписать. Но не переписал.
Когда вышел первый сборник с его «Амбарными книгами» – «Живу беспокойно…» (Л. 1990), – многие были обижены. Или за себя, или за своих близких, ибо они-то знали их совсем иными, и с ужасом ожидали последующих публикаций. И когда «Вопросы литературы», где у меня уже было несколько «шварцеведческих» публикаций, попросили сделать публикацию «Белого волка», я отказался. Мне не хотелось обижать потомков Чуковского. Но потомки рассудили иначе, и сами сделали эту публикацию.
Похожий пример. В 1996 году, году столетия Шварца, театр Комедии и Акимовский фонд решили выпустить сборник «Евгений Шварц в театре Комедии». И когда я сделал «вытяжку» из всех упоминаний об Акимове, мне показалось, что портрет Николая Павловича тоже получился весьма своеобразный и обидный для него. И я решил сначала показать его Елене Владимировне Юнгер. Но она сказала, что ничего особенно обидного в нем не видит, что если Евгений Львович написал о нем так,то тут уж ничего не поделаешь. И разрешила печатать. Но сборник не состоялся – на нашлось денег на него.
То есть были и те, кто никакой обиды в шварцевских портретах не находил.








