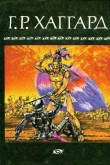Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
– Ура! Ура-а!
Альберт Шнайдер использовал сахарный дождь, чтобы под шумок завоевать второй приз. Лопе опускает в карманы штанов две пригоршни добытых карамелек.
Очередная толчея – теперь у лотка с сосисками. В белом фартуке стоит перед деревянным чаном мясник Францке.
– Подходи – налетай! Кому колбаски?
Господин учитель изволит шутить. Одобрительный, прерываемый неразборчивым бормотаньем смех взрослых. Дети еще не управились со своими карамельками, а каждый уже держит в руке по сосиске. Одни несут свою добычу родителям, что стоят в толпе зрителей, другие все съедают сами, и только объедки достаются младшим братьям и сестрам. Затем дети собираются в хоровод.
«С юга птички прилетели» играет капелла и еще «Гансик вышел погулять». И труба отстает на полтакта, словно медведь-ворчун. Жена учителя хлопает в ладоши. Музыка обрывается. У бедного Гансика больше нет времени, чтобы сбегать к мамочке. Он по дороге падает в пруд.
«Бумс», – отзвенел голос трубы. И всё.
«Бодро-истово, спортсмен, выходи из мрачных стен», – поют дети. Пестрый узор из подвижных детских тел, разнообразные фигуры: мельница, звезда, змеи сплетенных рук, навес из круглых, как сосиски, дряблых, голодных ручонок с липкими пальцами, девочки и мальчики попарно, Лопе стоит в паре с Марией Шнайдер – сестрой Альберта Шнайдера. Сейчас их очередь пробежать под навесом из соединенных детских рук. Мария – маленькая и кругленькая. Ее прямые косички на конце загибаются кверху, ее голубые глаза светятся, как незабудки. Ее пухлая ручонка с ямочками в волнении стискивает длинные и худые, как спаржа, пальцы Лопе. Новое, незнакомое для Лопе ощущение. Его взгляд с благодарностью устремляется к голубым глазкам Марии.
…и ступай вперед, вперед,
Целый мир тебя зовет! —
поют дети и потом снова занимают место в конце. И снова сплетаются в арку поднятые кверху руки.
Для Марии Лопе не какой-то Фердик Огнетушитель, для Марии Лопе – партнер. Он сжимает ее пальцы, она отвечает тем же… После этого пожатия новые, непривычные мысли начинают кружиться в голове у Лопе, словно вспугнутые мухи.
Игра в ручеек закончилась. Снова заиграла капелла. На звезде осталось всего несколько лучей. Лопе простреливает своими стрелами воздух. Потрясающая мысль: попасть бы ему в третий луч и войти в деревню среди увенчанных королей праздника…
– Уж до того ты нескладно держишь лук… Как бы ты у нас в солнце не угодил, – говорит ему Венскат и поправляет его изготовку.
Но и третья стрела летит мимо цели, зато Клаус Тюдель добывает и третий приз, который в одиночестве висел на средней части звезды.
– В ряды стройсь! – командует учитель и после трудов праведных закуривает сигару.
Капелла исполняет марш. Учитель ходит вдоль ребячьей колонны взад-вперед и командует: «Ать-два-левой, ать-два-левой».
– Всякий раз, как ударит барабан, ты должен шагать левой ногой. – Так Орге Пинк наставляет Лопе.
В голове колонны маршируют победители. Альберт Шнайдер с перевязью из дубовых листьев вокруг плеч и на поясе. А Клаус Тюдель с двумя призами – тот вообще весь в листьях, будто в лесу. Даже у Труды есть венок – она победила в беге с яйцом.
– Велика хитрость, – ехидничает одна из девочек, – у нее была здоровенная ложка, яйцо лежало в ней все равно как в миске.
В трактире их ждут кофе и пирожные. Капелла расположилась на эстраде и наяривает «Были мы, были мы, были мы моложе». Дети болтают, причмокивают, а самые ретивые из девочек уже танцуют.
«Это было, это было много лет тому назад». Они беззаботно вальсируют под грустный напев.
Когда кофе допит, в зале образуется какая-то бурлящая каша. Мальчики похрабрей танцуют с девочками постарше. Остальные девочки, обхватив друг друга за шею, танцуют неуверенно, как для пробы. Мальчики обнялись и, пыхтя, топочут то назад, то вперед, словно двигают ящики, матери прижимают к груди младшенького либо младшенькую и, покачиваясь в такт и с улыбочкой грозя пальцем, пробираются через зал. Лопе танцует с Пауле Венскатом, а сам косится на Марию Шнайдер, которая нерешительно стоит позади двух девочек.
– Три белых танца! – возглашает учитель. – Приглашают дамы.
Одобрительный визг. Матери приглашают сыновей, дочери отцов. Лопе сидит и дожевывает последний кусок пирожного. Матери здесь нет, и почему только она вечно отсиживается дома? Не явилась на панихиду, не пришла на детский праздник…
Начинается второй «белый» танец. Лопе готов забиться под стол, выпрыгнуть в окно. Через весь зал к нему направляется Мария Шнайдер. Она учтиво делает книксен и спрашивает:
– Пойдешь со мной, Лопе?
– Ты обязан идти, – говорит Пауле Венскат и опрокидывает стул. Лопе на заплетающихся ногах подходит к Марии. Они топчутся на танцевальной площадке, не решаясь поднять глаза.
– По-моему, это вальс, – робко говорит Мария, и они начинают усердно кружиться. Лопе видит, как мимо пролетает Альберт Шнайдер с Тиной Фюрвелл. Только они почему-то висят на потолке, а бронзовая люстра, наоборот, растет из пола.
– У тебя тоже кружится голова? – спрашивает Мария.
– Да еще как! – отвечает Лопе.
Они останавливаются, они держатся друг за друга, их толкает пролетающая мимо пара, и они снова кружатся, кружатся, и весь зал с пестрыми платьями и раскрасневшимися лицами, с учителями и родителями вертится волчком…
Отцы, вооружившись спичками, колдуют над лампионами.
Малыши держат пестрые фонарики на вытянутых руках. Лунные блики, освещенные шары листьев, мерцающие звезды и пестро расцвеченные котелки раскачиваются и смешиваются перед трактиром. Наконец из хаоса возникает четырехрядная колонна. Учитель рассыпает приказания, девочки визжат, малыши плачут.
«Надо ль мне, надо ль мне ехать на чужбину» – наяривает капелла. Пестрая, светящаяся процессия катится по улицам деревни. Заключительная речь учителя перед зданием школы. Благодарственное слово попечительского совета. Зевота разевает усталые рты, пахнет стеарином от гаснущих свечей, детский праздник окончен.
– Дай нам бог всем здоровья, чтобы мы и через год могли справить такой же прекрасный праздник для детей, – возвышает голос для завершающей фразы член попечительского совета.
Теплый августовский ветер задувает над вересковой пустошью. Ночные мотыльки трепещут крылышками вокруг последних лампионов.
Откормленные и пушистые птенцы второго помета покидают ласточкины гнезда. Кругленькие комочки перьев улетают прочь. Коньки крыш и телеграфные провода унизаны птицами. Дым костров, на которых горит картофельная ботва, разъедает утренние туманы. Из телег картофелины перекатываются в погреба. Дети копают клубни на учительском огороде. В награду за усердие жена учителя печет пирожки из темной муки грубого помола и покупает для них дешевый кофе еще из запасов Крампихи.
На землю падает мороз. Трава седеет. Лопе зарабатывает кой-какие гроши на уборке брюквы. Сведенные от холода пальцы он либо сует в карманы, либо дует на них, чтобы хоть как-то согреть. Дыхание белыми облачками вырывается изо рта уборщиков.
И снова зима с нахохлившимися воронами в саду и заячьими следами вокруг домов. Лопе старается приносить посильную пользу, помогать, где только может: помогает вязать веники, притаскивает из лесу елку для торговца, носит навоз в садик Фердинанда, крошит на чай сушеные травы для овчара Мальтена. Но сколько он ни трудится, ему все равно не хватает сказок и разных историй.
Фердинанд говорит:
– Ты должен теперь приложить силы и – как бы это сказать – постараться читать без посторонней помощи. Когда я был в твоем возрасте, я уже прочел всю Библию от корки до корки, вот я какой был. Кстати, а где у тебя книга, которую дал его милость? Мы ведь могли бы… Не могли бы мы поступить так: ты сам читаешь из нее какую-нибудь историю, а потом пересказываешь ее мне. Право же, мы могли бы так сделать.
Лопе решает попытать счастья у овчара Мальтена, но и там не имеет успеха:
– Господи, парню жениться пора, а ему сказки подавай! Клянусь синей бородой рыцаря-разбойника, жизнь – она и вся-то как сказка. Может, ее и вообще нет, может, она просто привиделась нам во сне. Черт его знает, может, мы так и спим весь свой век.
Лопе от этих разговоров ни холодно, ни жарко. Он достает из тайников книгу его милости. Вечером он сидит на лежанке и читает вслух.
– Да перестань ты бубнить, – сердится мать.
– Ты что, не умеешь читать про себя? – спрашивает отец. – Вот я могу прочитать целую книгу, ни разу не шевельнув губами.
– По тебе и видно, – язвит мать, – ты ж у нас грамотей.
Лопе пробует читать про себя. Сперва, когда он складывает слова не вслух, а потихоньку, он не понимает, что прочел, но через несколько дней дело идет на лад. Лопе приятно удивлен: теперь ему никто больше не нужен, чтобы рассказывать сказки. Он похож на настойчивого путника, что покинул родной дом и открыл незнакомую ему доселе часть света.
Вот, например, история про человека, которому сказали, что он получит во владение столько земли, сколько успеет за день объехать с конем и плугом. Этот человек был бы рад таким манером заполучить целую провинцию. Но он надорвался и умер. И понадобилось ему ровно столько земли, сколько нужно на одну могилу.
– Не пойму я, – допытывался Лопе у Фердинанда, – наверно, его милость ездил на плохой лошади, когда делили землю?
– То есть как? С чего ты взял?
– Я просто хочу сказать, что на хорошей лошади он мог бы объехать гораздо больше, чем есть у него сейчас.
– Ах, вот ты про что. Ну, это не везде одинаково. И вообще это происходило в России, а там у них все по-другому. У нас землю получают в наследство.
– А откуда ты знаешь, что это было в России?
– Человек, который написал эту историю, был русский, понятно?
– А он просто выдумал эту историю или как?
– В известном смысле можно сказать, что выдумал, но не так, чтобы сел и выдумал ни с того ни с сего, он хотел выразить вполне определенную мысль… он хотел… по-моему, он хотел сказать, что нельзя жадничать, потому что в конце каждой жизни все равно стоит смерть. Сколько бы у тебя ни было земли, тысяча ли моргенов или пригоршня, ты все равно умрешь. И тогда ты получишь могилу – и баста.
– В наследство… ты сказал: получают в наследство, да, господин конторщик? Ведь получить в наследство можно без всякого там плуга и лошади. А как это?
– Человек просто получает землю после отца, когда отец умрет, и тогда… тогда у него и есть эта самая земля.
– А если у его отца не было никакой земли?
– Тогда… тогда человек ничего не получает, но для могилы земля все равно найдется. Для могилы, когда он умрет, ему дадут землю… Да-да, именно так: человек постоянно имеет право на могилу после смерти.
– А ты знаешь, где твоя могила?
– Нет, откуда же? Да это и не важно… и надобности в этом никакой нет. Знать, где твоя могила – это не важно.
– Но ведь, если бы ты знал заранее, ты мог бы сажать на этом месте цветы, или там картошку, или капусту, а то земля только пропадает без толку или зарастает сорняками.
– Ну и фрукт же ты! Все не совсем так, как ты думаешь. История учит нас… впрочем, вы, наверно, уже в школе проходили, как это все было. Значит, так: были крестьяне, которые пили больше, чем надо, перебирали, как говорится. Прямо сказать, пьянствовали и влезали в долги. А другие не пьянствовали и работали. Пьянчужкам они давали деньги взаймы, а когда те не могли вернуть деньги в срок, отнимали за долги землю. Через некоторое время у пьяниц вообще не осталось земли, и пришлось им поступать в услужение… Вот как все было, примерно так…
– А которые не пили, они все стали господами?
– Ну, в общем и целом, да. Не все, конечно, сразу стали господами… вот, может, со временем… Были и другие, которые не влезали в долги. Им удавалось сохранить двор и дом, как, например, Шнайдеру.
– А Мальтен говорил, что старый Шнайдер повесился с перепою. У него даже есть кусок от той веревки, и он усмиряет своей веревкой необъезженных лошадей.
– Да ну? Этого я не знал. И вообще нельзя утверждать, что со Шнайдером дело обстояло именно так. Я просто хотел привести пример. У Шнайдера дело вполне могло обстоять по-другому.
– Господин конторщик, а твой отец тоже пьянствовал раньше?
– У него же есть мельница.
– Ну да, у него есть мельница, и у него есть земля, а у тебя ничего нет, одни только книги.
– Знаешь, жизнь вообще не простая штука. Ты еще и сам это поймешь… Конечно, ты когда-нибудь это поймешь, – вздыхает Фердинанд и пытается переменить разговор. Он теряет уверенность. Детские глаза сверлят его насквозь. И зачем он вообще согласился говорить с Лопе на эту тему? Неприятно как-то. Да и дело, может быть, обстояло совсем по-другому. – А может, с землей дело обстояло совсем по-другому, – делает неожиданное признание Фердинанд. – Может, не обязательно все происходило из-за пьянства. Совсем не обязательно, я могу и ошибиться. Трудно сказать, как все было на самом деле.
– Так они ведь тоже пьянствуют.
– Кто они?
– Господа. Ты же сам говорил, что они открывают бутылки штопором.
– Я говорил?
– Да… Слушай, ты больше не пишешь писем управляющему?
– Как, как? Ах да, ты прав. Дела опять наладились. И у нас опять полное согласие.
– А вот жена управляющего… жена управляющего теперь больше не улыбается, когда меня видит.
– Не улыбается? Ну да, ну да…
Сотни новых мыслей. Они сопровождают Лопе, как сопровождает человека его тень. Тень – это тоже не так-то просто. Она преследует Лопе маленьким таким черным человечком. Лопе быстро поворачивается и пытается обойти тень кругом. Неужели нельзя сделать так, чтобы тень была впереди, а не сзади? Но как ни проворен Лопе, у него ничего не выходит: только повернется, а тень уже опять сзади. Иногда она бывает впереди. В таких случаях Лопе пытается ее обогнать. Он на мгновение останавливается и ждет. Тень лениво нежится на травянистой обочине под лучами солнца. Уснула, должно быть. Тогда Лопе неожиданно для нее делает два-три быстрых прыжка. Потом он оглядывается, ища глазами тень, но сзади все золотисто-желтое от солнечных лучей. А тень снова забежала вперед и поджидает Лопе. С тенью все обстоит так же, как с мыслями. Лопе проснется утром, а мысли уже здесь. Они появляются раньше, чем он успевает натянуть штаны. Он может, когда умывается, засунуть голову в воду, они не тонут и в воде. Он уходит в школу, они идут следом. На сеновале, на скамье в парке, когда режешь репейник или играешь в футбол… мысли есть всюду, как воздух, которым он дышит.
Отец у него пьет. Это Лопе знает. Значит, он, Лопе, не получит в наследство ничего, кроме права на могилку… Много вопросов одолевает его. Пить он не будет. Интересно, сколько времени нужно не пить, чтобы обратно получить от милостивого господина свою землю? Книгу он ему уже дал, может, он и землю отдаст?
– Наш милостивый господин очень щедр, – говорит Венскат, когда после прочитанного вступления на панихиде получает от его милости три сигары в пестрых бандерольках.
Зима уходит. Земля вдоволь напилась. В парке уже заводят песню дрозды. Фердинанд осматривает голые стебли своих розовых кустов, ощупывает краснеющие глазки почек, мечтает о благоуханных цветах и пьянящих ароматах…
Мимо идет жена управляющего. Теперь у нее почти никогда нет времени. Она мечется, словно пузатый слепень. Бросив беглый взгляд на долговязого конторщика, она торопливо роняет:
– Наверно, они зацветут в этом году. Да-да, конечно, зацветут. А как по-вашему?
У нее совершенно вылетело из головы, что еще совсем недавно они с Фердинандом были на «ты». Фердинанд пожимает обвислыми плечами и молча глядит на нее.
– Очень тяжелое время, – жалуется она, – очень тяжелое – вторая корова доится только в три соска, а первая скоро должна отелиться. И это именно сейчас, когда нам так нужно молоко.
Она оглаживает руками свой передник, и тогда Фердинанд видит, что она беременна.
– Вот как? Значит…
– Молчи… Молчите! Дело, оказывается, было во мне… Врач… ничего плохого не было… Нельзя упрекать моего мужа в том, что он тогда… вы только подумайте, я сперва ничего не чувствовала, но потом он шевельнулся, да, он уже две недели, как шевелится. Так вот, как раз теперь, когда нам позарез нужны сливки, вторая корова доится только в три соска.
– Чудесно, чудесно, – лепечет Фердинанд, – когда женщина, хоть и поздно, исполняет свое истинное предназначение. Я хочу сказать, это дело, нет, это искусство женщины, чтобы ребенка…
– Да будет вам. До сих пор никакого искусства тут не было, искусство начнется сейчас, когда совершенно непонятно, чем его кормить. В этом году мы, собственно говоря, уже собирались сами снять в аренду имение.
– Но материнство! Я могу себе представить, что оно осчастливливает, что творческое начало в вас…
– Боже мой! Вы видите, что утки опять ковыряются в салате? – И она спешит прочь.
Фердинанд остается один среди своих будущих роз. Жена управляющего хлопает в ладоши, изгоняя уток. Он не в силах понять, как эта женщина могла когда-то его умилять. Погрузясь в размышления, он возвращается в контору.
Фрида Венскат сидит у окна. Ее глаза впиваются в его лицо. Фердинанд этого не чувствует. Он глядит на нее и кивает. Мысли его пасутся среди воспоминаний.
В освободившуюся квартиру Блемски въехал Гримка с нервной, черноволосой, как цыганка, женой и четырьмя ребятишками. Ходят слухи, будто Гримка – бродячий кукольник, которому слишком медлительной показалась смерть от голода в зеленом фургоне. В сельском хозяйстве Гримка смыслит куда как мало.
– Не диво, – резюмирует Венскат, – потому как когда человек бродяжит, он только и умеет собирать урожай, а как что растет, он и ведать не ведает.
Венскат на дух не переносит новенького. Тому есть свои причины. Гримка может наизусть пересказывать целые истории о разбойниках на разные голоса: мужские, женские и даже голоса привидений. Теперь, когда ферейн велосипедистов либо местное отделение социал-демократической партии справляет какой-нибудь юбилей, посылают за Гримкой. В награду Гримка получает дармовое пиво и три марки за вечер. «Во дает, собака!» – отзываются потом о Гримке.
Но главное дарование Гримки – барабан. Гримка привез с собой два малых барабана и один большой, и обращался он при переезде со всеми тремя бережно, как с дорогой могилой. Большой барабан, как важно называет его Гримка, будучи перевернут и накрыт сверху доской, служит для Гримкиных детей скамейкой, на которой они сидят за обедом. Гримка же, словно сторожевой пес, следит, чтобы дети ни пальцем, ни ложкой не коснулись перепонки. «Не посадите мне сальное пятно».
– И чего ты за человек такой, – бормочет жена, – ох, уж и человек, какое они тебе пятно посадят, когда сала в доме отродясь не было?
По воскресеньям Гримка участвует в капелле парикмахера Бульке. По будням же корпус большого барабана стоит на комоде и содержит – в зависимости от времени года – картошку, яблоки либо сливы.
По вечерам в среду и в субботу к Гримке приходят ученики-барабанщики. Местное отделение социал-демократов основало группу музыкантов-ударников, чтобы эффектнее проводить свои манифестации и прочие шествия. Три молодых шахтера – Шиске, Клопп и Шпилле – учатся у Гримки барабанному бою. Для начала Гримка побарабанит самую малость, так что пыль столбом, а потом остановится и спросит:
– Вы знаете, что я сейчас играл?
Шахтеры отвечают отрицательно.
– Во-во, не знаете, да и откуда же вам знать, что это за «тра-та-та-та-та», а это же торгауский марш! Теперь знаете?
После чего Гримка таким же манером отбарабанивает что-то новое, и шахтеры опять не знают, что именно.
– А это, для вашего сведения, марш социал-демократов. Да, вам еще учиться и учиться.
И три ученика, не жалея сил, разучивают торгауский и социал-демократический марши. Они еще обливаются потом от напряженного труда, но тут дверь в кухню открывается, на пороге возникает лакей Леопольд в своей черной полосатой куртке и наилюбезнейшим образом от имени его милости просит прекратить этот адский шум. За спиной Леопольда виднеется физиономия Венската.
– А разве это не моя квартира и разве я не могу в ней шуметь сколько вздумается? – спрашивает Гримка.
– Так-то так, но его милость не могут работать из-за твоего шума.
– Работать? А разве рабочий день не кончился, господа хар-рошие?
– Да перестань ты ломаться, – не выдерживает Венскат, – уши вянут тебя слушать. Когда рабочий день кончается, должно быть тихо, не то я притяну тебя за нарушение общественной тишины и спокойствия. Вы что, не можете тарабанить на выгоне?
Трое шахтеров укладывают свои инструменты. Гримка еще некоторое время препирается с Леопольдом и Венскатом, после чего школа барабанного боя в полном составе отправляется на луг.
– Хорошенький подарочек для его милости этот Гримка, – говорит Венскат Леопольду. – А бедному Блемске пришлось выехать.
Но сам Блемска вовсе не считает себя бедным. Он теперь работает на шахте. И с каждой смены приносит домой охапку досок. И с каждой неделей в общинном домике становится все меньше щелей. И коза больше не мекает на кухне, и уголь есть для топки, и дым выходит в трубу, как ему и положено.
– Что я, с ним обвенчался, со старым Рендсбургом, что ли?
На иссохшее лицо его жены просится улыбка, но из-за рассеченной губы вместо улыбки получается плаксивая гримаса.
– Да, только…
– Чего только? На тот год у нас и картошка будет, и зерно, и в хлеву – вторая коза. Чего тебе еще надо? Лучше гнуть спину перед черным углем, чем перед черным помещиком, этим кобелем, этим…
Да-да, Блемска нигде не пропадет. И в шахте тоже. Поначалу ему платили посменно и держали наверху. Он перегонял вагонетки. Потом он спустился в забой. Уголек сперва показался ему потверже, чем луговина, поросшая пыреем, но его руки, две добытчицы, привыкли и к углю. Они обросли еще более толстой и блестящей мозолистой кожей, они больше не горели, как в огне, проработав полсмены. И тогда Блемска перешел на сдельную оплату. Вот только к разреженному воздуху и к вечной темноте он долго не мог привыкнуть. А уж когда он видел своих «куколок» в блудливых руках Гримки, он отворачивался и смотрел в сторону. Но в конце концов это были не его собственные лошади, а заезженные и замученные хозяйские доходяги.
Блемска вступил в профсоюз. На шахте он больше не чувствовал себя таким одиноким. Здесь были и другие, которые точно так же не желали ущемления своих небольших прав и знали, чего им надо, черт подери. В работе Блемска со временем всех опередил. В остальном держался вполне спокойно. Шахтеры, жившие в деревне, помнили, разумеется, его историю и поддразнивали порой: «Эй, Блемска, а здесь ты будешь кого-нибудь колошматить?»
Ничего подобного. К нему начал подкатываться штейгер.
– Блемска – вот кто у меня станет старшим, – сказал он и одобрительно похлопал бывшего батрака по плечу. – Ты, по крайней мере, умеешь работать и не лезешь с требованиями, как остальные.
Но Блемска таких штучек не любил.
– Ничего из этого не получится, – сказал он, и белые зубы сверкнули на черном от угля лице, – я этой породой по горло сыт. Меня не заставишь кланяться в ноги. Ищите себе надзирателя в другом месте.
У шахты тоже есть свои уши, как есть они у лесов и полей, принадлежащих его милости.
– Будем надеяться, тебе не выйдет боком твоя дерзость в разговоре с начальством, – шепнул один из дружков, который слушал эту беседу из квершлага.
– Чего там боком, не боком. Селедки, которыми я питаюсь, ловятся в любой воде.
– Блемска – свой парень, его надо в наш ферейн, – говорили другие.
– Ваш ферейн? – переспросил Блемска. – А что вы в нем делаете, в вашем ферейне? Пьете, жрете, пляшете? Юбилеи и кегельбан? Вы же не политический союз.
– Политический? Наш ферейн – он и есть наш, а стало быть, он политический.
– Между прочим, ваше руководство ходит к причастию, а многие из вас состоят в военном ферейне.
– К причастию? А почему бы им и не ходить к причастию? У нас каждый ведет себя, как хочет, а религия, да будет тебе известно, это личное дело каждого, и если, например, кто-нибудь участвовал в войне, почему б ему и не состоять в военном ферейне?
– Все равно как волк с голубиным хвостом – и не красный, и не черный.
– А это, доложу я тебе, из-за того, что ты вечно читаешь дома всякую левую писанину. Ты еще станешь совсем односторонним, как птица с одним крылом.
Если Лопе удается в воскресенье сбежать из дому, он идет к Блемске в общинный дом. Уже давно забыта взбучка, полученная от Блемски. Блемска всегда в силе, всегда в хорошем настроении. Он и дома ни минуты не посидит без дела, – здесь что-то починит, там что-то исправит. Вокруг общинного сада он ставит новый забор. Лопе и Фриц – тому скоро конфирмоваться – подают ему гвозди либо заостряют планки забора. А Блемска за работой рассказывает им всякие случаи из шахтерской жизни.
– Только не вздумайте трепаться, – предупреждает Блемска. – Вы скоро станете взрослыми, пора вам приучаться держать язык за зубами.
Лопе и Фриц молча переглядываются. Им странно, что они уже такие большие.
Для кучера Мюллера настали плохие дни. В то воскресенье после пожара его тоже вызывали к милостивому господину. А Мюллер не совсем еще протрезвел и был здорово не в себе. Милостивый господин отчитал Мюллера, почему это он, не шевельнув пальцем, наблюдал, как у него на глазах Блемска чуть не убил молодых господ. Мюллер от этого разговора сник, все равно как посыпанная солью улитка. А господин все больше горячился и гневался и посулил примерно наказать Мюллера. Лакей Леопольд доложил об этом разговоре Венскату, на что тот откликнулся следующим образом:
– И расчудесное было дело, уж больно им хорошо живется, господским наследничкам.
Уже на другой день для Мюллера было изыскано примерное наказание. Его заставили сдать лошадей и стать погонщиком волов.
– Пусть радуется, – заявил Блемска, узнав о наказании, – за волами не надо так быстро бегать.
Но Мюллер почему-то не радовался. И не столько из-за того, что его разжаловали, сколько по другой причине. Лошади, когда тянут плуг, ежели на них прикрикнуть либо огреть кнутом, хоть один круг да пробегут бойко, а волы так никогда не делают. Их без толку подхлестывать. С ними надо все время что-то делать, а если махнуть на все рукой, тогда на тебя сзади будут напирать другие упряжки либо заявится Бремме, смотритель, и поднимет бучу. А если не заявится смотритель, потому как не желает, чтобы у него от крика полопались жилы, тогда заявится управляющий собственной персоной.
Господин велел оказывать на Мюллера «нажим». Лошади сразу резвей берут с места, когда заслышат голос управляющего, лошади-то берут, а вот тупые волы – и, соответственно, их погонщики – оказываются в невыгодном положении.
Управляющий заявляется к трактирщику Тюделю и говорит:
– Чтоб ты мне больше не отпускал водки Мюллеру ни синь пороха, пусть сперва замолит старые грехи.
Тюдель прикидывает в уме, покроет ли прибыль за двадцатипфенниговые сигары, которые управляющий берет на неделе, убытки от того, что Мюллер не купит водки в воскресенье. И приходит к выводу, что сигары доходнее. По этой причине Мюллер в следующее воскресенье не получает ни грамма водки.
– Ничего не могу поделать, – пожимает плечами Тюдель, – ты небось натворил что-нибудь?
– Срамотища какая, – бормочет Мюллер и задумывается. Потом уходит, бочком-бочком, мимо хозяйственного двора и берет курс на соседнюю деревню.
А в соседней деревне у стойки стоит управляющий Конрад собственной персоной и таращится на него осовелыми глазами. Тогда Мюллер, малодушно купив кусок жевательного табака, возвращается восвояси. Дома он ложится и спит все воскресенье и даже не просыпается, чтобы поесть.
В маленьком садике у Фердинанда расцвели первые розы. Он демонстрирует их Лопе. Он даже жену управляющего уговаривает бросить взгляд через ограду.
– Ну и что? – спрашивает та и сует свой круглый нос в чашечку цветка. – Они, конечно, пахнут… пахнут этим самым… вы понимаете, что я хочу сказать. Вот только у меня нет больше времени для таких пустяков. Я полдня сижу за машинкой и подрубаю пеленки. Муж так рад, так рад, ну, вы и сами понимаете. Ах, господи, совсем из головы вон: он сегодня собирается к соседскому управляющему играть в карты, а я еще не погладила его сорочку. Вот видите, Фердинанд, с розами – это такое дело, да-да, ну желаю успеха в разведении.
И она исчезает, а Фердинанд остается в одиночестве между цветов и листьев. Он встречает садовника Гункеля и не без задней мысли сообщает ему, что у него расцвели розы. Была тут и крапива, и сныть. Словом, потрудиться пришлось не на шутку, зато теперь можно насладиться радостью содеянного.
Правда, среди цветов нет покамест достаточно темных экземпляров, чтобы милостивая фрейлейн могла их взять за основу для выведения совсем черных роз, но все равно поглядеть стоит и на эти.
– Да ну, – отмахивается Гункель, – ерунда все это, черных роз еще никто не выращивал, кроме старого Зарассани в разбойничьем притоне. Он пишет, что для этого розы надо поливать человеческой кровью. Чепуха все это. Я таких вещей не признаю. По мне, так лучше хороший персик, либо крупная слива, либо еще чего.
И снова Фердинанд торчит в полном одиночестве за своим забором. Человеческой кровью? Если бы он мог каждый день выдавливать из пальца наперсток крови, чтобы удобрять самую темную из своих роз! Разве не таких поступков, не таких жертв ждет от него Кримхильда? И тогда в один прекрасный день он пошлет ей с неизвестным в этих краях гонцом букет черных роз. И она молча возьмет в руки предмет своих мечтаний.
«Кто вывел эти розы?» – «Мне не дозволено говорить об этом, милостивая фрейлейн, но кто же мог их вывести, как не любовь, та единственная сила, которая дарует человеку способность кровью сердца питать цветы для своей возлюбленной?»
Мечты, мечты!
На лужайке перед господским садом Матильда возится с бельем. В сердце у Фердинанда нынче праздник. И он хочет привнести в безрадостную жизнь Матильды хоть немного сладости от этого дня. Он срывает с куста одну из своих роз. Ничего не замечая вокруг, будто тетерев на току, приближается он к Матильде. А она его все равно не видит. Тут он со щенячьей неуклюжестью предпринимает попытку прикрепить эту розу к вырезу ее платья на округлом возвышении пышной груди. Она взвивается, словно он ее кольнул.
– Ты что, спятил?
Торопливым движением Матильда оттягивает платье, и роза соскальзывает в ложбинку между грудями. Фердинанд, словно отрезвев, отшатывается назад. Матильда украдкой косится на свои окна.
– Опять он начал пить каждое воскресенье, да ты и сам знаешь, какой он противный, – шепчет Матильда вслед Фердинанду, который уходит прочь с оскорбленным видом.
Итак, Фердинанд остается один-одинешенек со своим счастьем и своими розами.