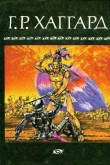Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Но флёр скрытого нетерпения словно окутывает маленькое общество. Женщины то и дело с участием поглядывают на Кримхильду, сама же она, едва в разговоре возникнет пауза, напряженно прислушивается к скудным шумам деревенской улицы. Один раз на шоссе взревел грузовик, но это оказалась машина из Ладенберга, которая доставляет пиво в трактир Тюделя. Лицо фрейлейн нервически подергивается. Садовник Гункель развел перед беседкой костерок. У огня стоят учитель Маттисен и его прежние питомцы. Взгляды общества переходят к этой группке. С хозяйственного двора доносится глухой удар и вслед за ним – предсмертный свиной визг. Визг переходит в булькающий хрип.
Учитель Маттисен в приличествующих случаю выражениях обращается к собравшимся с небольшой речью. Он испытывает острую потребность увязать серьезно-бесшабашные годы своих бывших питомцев с настоящим моментом. Он желает обоим юношам стать надежной опорой государства, надежной опорой с мудрым пониманием того, что́ нужно отечеству. Речь оказывается вовсе не такой маленькой, как в самом ее начале обещал Маттисен. Не исключено, что этот понаторевший в античных образцах человек при определении длины речи руководствуется совсем иными масштабами, нежели большая часть гостей. Как бы то ни было, две престарелых тетушки надушенными платочками промокают в глазных впадинах слезы умиления. Милостивая госпожа умиротворяюще держит руку милостивой фрейлейн. Из костра дождем сыплются искры – это молодые господа побросали в огонь свои гимназические фуражки. Тут учитель Маттисен кричит голосом, уже лишенным всякой торжественности: «Ур-ра!» Седая бородка клинышком прыгает на застывшем зимнем пейзаже лица. Из глубины беседки доносится кряхтение граммофона. Лакей Леопольд пустил его, заслышав уговоренный пароль «ура». «Время золотое, не вернешься ты», – ломким голосом заводит учитель Маттисен. Ариберт и Дитер тоже подтягивают, предварительно толкнув друг друга в бок, чтобы посмеяться над Маттисеном. «…И напрасно всюду я тебя ищу», – присоединяется к маленькому хору бас его милости. «А меч его, булатный меч, коростой ржавчина покрыла…» – скулят обе тетки, и в глазах у них светится блаженство воспоминаний. Лопе все это видит из своего укрытия на парковой скамье. Ему трудно понять, чего ради кидают в огонь такие хорошие шапки. Может, Ариберт и Дитер понабрались вшей в гимназии? Граммофон все так же разливается, но господа не спеша покидают парк. Маленькими группками приближаются они к замку. Еще немного погодя Ариберт и Дитер первый раз в жизни напьются с отцовского позволения.
Когда наступает темнота, Ариберт и Дитер начинают буянить у себя по комнатам, еще позже они будут стрелять из окна в воздух. Выстрелы просверливают маленькие огненные дырки во тьме парка. Ариберт свешивается из окна и вопит: «Проснись, Германия!» В комнате со звоном бьется стекло. «Слон в посудной лавке», – бормочет Дитер коснеющим языком. Свет в комнатах молодых господ горит всю ночь напролет. И лишь под утро замок стихает.
А в пятом часу утра во двор вступает тощий долговязый господин. Господин держит в руке небольшой чемоданчик и нерешительно приближается к замку. Под сводами портала он ставит свой чемоданчик на землю и, принюхиваясь, словно охотничья собака, обходит многоугольные стены замка. Он тихо пробирается сквозь буйную поросль кустарника и наконец останавливается под ярко освещенными окнами в комнатах молодых господ. Он уже видел эти глаза замка, когда на краю деревни вышел из лесу. Какое-то мгновение он стоит неподвижно, словно нежась в квадрате света, падающего из окна.
В серый дорожный костюм, который надет на незнакомце, можно бы без особого труда засунуть двух мужчин его комплекции. Из широких, подбитых ватой плеч пиджака торчит худая шея. Шея увенчана маленькой круглой головкой. Впереди на головке прилепился островок разделенных пробором волос. Затылок выбрит наголо, словно у клоуна.
Незнакомец издает тихий посвист в сторону освещенных окон. Свист получается робким, как жабье свиристенье. Торопливое движение руки разрезает этот свист пополам. Незнакомец трогается с места и возвращается к порталу. Немного помешкав, он дергает за язык чугунного литого льва. Далеко-далеко в покоях замка хрипло кашляет колокольчик. Потом снова воцаряется тишина, потом где-то хлопает дверь, раздается шарканье мягких туфель, оно все ближе, и наконец дубовая дверь с резными кувшинками издает протяжный скрип.
Лакей Леопольд высовывает на свет божий бледное лицо, обрамленное растрепанными бакенбардами.
– Что вам угодно? – спрашивает Леопольд раскатистым голосом.
– Доложите… нет, н-не надо… – поспешно говорит незнакомец. – Граф Герц ауф Врисберг, – представляется он критически разглядывающему его Леопольду. – Вы… вы в ку… в курсе. К со… к сожалению, у меня нет, – незнакомец роется в карманах… – нет при себе ви… визитной карточки.
Господи Иисусе! Вышколенные глаза Леопольда искоса пожирают незнакомца долгим боковым взглядом. Он в нерешительности.
– Вы… вы так и оставите меня здесь сто… стоять?
Человек с чемоданчиком, именующий себя графом Герц ауф Врисберг, начинает проявлять признаки нетерпения. Леопольд внимательно выслушивает его. Ему уже приходилось иметь дело с обедневшей знатью – опустившейся родней его хозяев. Он знает, что ему надлежит уважительно обращаться с этими горемыками, все равно как с самыми важными особами.
– Господа совсем недавно легли почивать, – заискивающим тоном говорит Леопольд.
– Я не прошу… к господам… Я по… подожду, пока… – Чужак нетерпеливо топает ногой, и по бокам его ботинок вздуваются пузыри.
– Прощенья просим… – бормочет Леопольд и с поклоном открывает дверь. Очутившись в комнатах, незнакомец поглощает изрядное число бутербродов. У господ ввечеру не было аппетита. Они больше занимались батареей бутылок, от которых замковая кухня сильно смахивала на трактир.
Леопольд, покачивая головой, снует по комнате. И наконец приносит пришлому графу початую бутылку красного вина.
– Не желает ли господин отдохнуть? – спрашивает Леопольд с напускным смирением.
– П-п… п-пажалуйста…
– Сегодня, правда, свободна только одна комната для гостей, и ванна в это время еще не натоплена.
Господин только отмахивается. Леопольд подхватил его чемоданчик и испытующе взвешивает на руке. Затем он идет вперед, указывая дорогу в комнату для гостей на третьем этаже. Граф тотчас бросается на кровать во всей одежде. Леопольд заботливо запирает дверь, ведущую в другие части дома.
Известие о появлении ночного гостя достигает ушей милостивой фрейлейн, когда та сидит в ванне. Новая горничная Паула приносит это известие, вся раскрасневшись. Кримхильда фон Рендсбург начинает дрожать всем телом. Вода в ванне идет мелкой рябью от прикосновения ее дрожащей груди.
– Замерзли, ваша милость? – спрашивает Паула и глядит на термометр.
– Нет, уже прошло. Подайте мне мой купальный халат.
За утренним кофе семья приветствует прибывшего издалека гостя. Закидываются удочки традиционно приличествующих случаю вопросов. Маленький пухлогубый рот будущего зятя немилосердно распирают свежие – с пылу с жару – впечатления. Слова копятся за оградой острых, искрошившихся зубов, потом с бульканьем вырываются из ротового отверстия, как жидкость из опрокинутой бутылки.
– Эти ба… балканские бандиты… ото… отобрали у меня решительно все, – заверяет вновь прибывший граф, и, как бы прося извинения, указывает на свой единственный костюм. – Ба… бандиты, это бедствие, которое на Ба… Балканах невозможно искоренить. В ка… качестве корреспондента мне до… доводилось беседовать с людьми д… даже с ко… коронованными особами. И что же они делают? Они смеются и пожимают плечами. На… национальный характер народа, – отвечают они, когда заговоришь с ними о раз… разбойниках. И в… и все.
Милостивая фрейлейн безмолвно сидит рядом. Ей нужно время, чтобы сопоставить пришельца с героической фигурой, созданной ее воображением. Не исключено, что за кожей уже чуть тронутого морщинами лба складываются определенные выводы. Время от времени по ней скользит вопросительный взгляд матери либо одной из теток. Она отбивает эти взгляды строгостью собственного. Милостивая фрейлейн в общем-то уже достигла того возраста, когда мужчина для женщины прежде всего мужчина. После кофе молодую пару оставляют одну. Фрейлейн и пришлый граф бредут по парку.
От кухни и до третьего этажа из каждого окна их провожают взгляды укрывшихся за гардинами глаз. Балканские впечатления, балканские приключения. Лишь на исходе второго часа фрейлейн мягко напоминает об их общей страсти к розам. Граф и на этот счет может высказаться наилучшим образом.
– Розы, о да, розы, розы… Вся Болг… Болгария – это спло… сплошной розарий. Все сады, все комнаты, все бал… балконы полны роз. Они растут там, как у нас лоп… лопухи.
– А темные ли они, эти розы? – любопытствует фрейлейн.
– Настолько, что кажутся черными.
Фрейлейн лишь с трудом может скрыть, как развеселил ее такой ответ.
– Вот вы смеетесь, ваша милость, но про… проникнуть в тайну темных роз очень тру… очень трудно. Я уж и подпаивал их, этих хра… хранителей тайны черного цвета. Я даже под… подкатывался к их жалости достойным женщинам… и ни… ни звука про черные ро… ро… розы, мне… не выдают тайну.
– Странно, странно, – бормочет милостивая фрейлейн и нервически поднимает брови, когда ее спутник говорит: «…ро… ро… розы».
Но спутник и не думает умолкать из-за такой ерунды.
– По… п-потом мы будем разводить плутоновы ро… розы.
– Кстати, как вы оцениваете усилия садоводов по выведению зеленой розы? – любопытствует фрейлейн.
– Зе… зе… зеленой… ха-ха-ха… зеленой ро… розы? Кому это нужно? Ведь в этом нет ничего нео… необычного. Ведь листья и без того зеленые.
– Листья твердые и жесткие, а теперь вообразите себе тот же зеленый цвет, но воплощенный в нежности лепестка. На мой взгляд, это не просто забава.
– Зеленые ро… розы… оч-чень, оч-чень… – Граф на мгновение задумывается. – Если дозволите, ваша милость, я попросил бы… передоверить это дело мне… я хочу сказать, зеленые ро… розы. С моими связями на Бал… Балканах мне ничего не стоит… нет ничего проще, чем зеленые ро… розы.
Вечером в узком семейном кругу граф Герц ауф Врисберг делится своими планами на будущее. Отечество открывает перед ним новые горизонты. «По… п-политического характера», – поясняет граф. Господа поймут, что покамест он о многом должен умалчивать.
Конечно, конечно, о чем речь.
Два дня спустя в замке справляют помолвку. Господское семейство и гости с волнением ожидают, дадут ли молодые люди слово друг другу. В отличие от торжества по случаю выпуска Ариберта и Дитера, помолвка носит характер тихого, раздумчивого события. Так пожелала милостивая фрейлейн.
– Меня просто пугает быстрота, с которой меняются времена, – заявляет за столом одна из теток, обращаясь к учителю Маттисену. – В дни моей молодости было, мягко выражаясь, невозможно являться на собственную помолвку в дорожном костюме.
– Это лишь доказывает, – прокашливается Маттисен, – лишь доказывает, милостивая фрейлейн, если мне будет дозволено это произнести, что уверенность в манере держаться у нынешних мужчин проистекает не от внешних обстоятельств, каким, например, является костюм. Они более реальны, нынешние мужчины, если ваша милость позволит.
– Более реальны… – Тетушка задумывается. – А вы не находите, что поистине страшно наблюдать, как земля с бешеной скоростью продолжает вращаться без нас? – Узловатыми, ревматическими пальцами она тянется к вазе с розами и умиротворенно смотрит на молодую пару. – Доведется ли нам вообще когда-нибудь расцвести, как цветут эти розы? Не давим ли мы собственные лепестки, как грузовик давит цветы на карнавале?
Учитель Маттисен опускает голову и смотрит на блестящую часовую цепочку поверх своего измятого жилета.
«Земля не есть тот сад, в котором человеку доведется расцвести, – говорит пастор. – Истинно и вечно мы расцветаем лишь на небе. Здесь же мы не более, как наливающиеся соком бутоны. И чем чище сок, который мы копим на земле, тем ослепительней будет цветение, которым мы украсим себя на небе».
«Человек должен работать над собой, чтобы некоторым образом достичь расцвета, – это говорит Фердинанд. – И он должен стремиться достичь такого благоухания, чтобы – как это лучше сказать – чтобы раскрыть и бутоны, коими являются ближние его. Да-да, именно раскрыть».
«Все лишь скорлупа, – брюзжит овчар Мальтен, – и под скорлупой все буйно цветет, как в садах тремантинузийских. Что такое наши глаза? Ничего не стоящая дрянь. Мы разве что можем разглядеть ими грязь да червяков! Но это все лишь символы, а вот за символами что-то скрывается и тикает и непрерывно изменяется. Пока мы успеем толком разглядеть это, у нас за спиной все опять изменилось».
«Мир, мир сперва надо очистить, – причитает столяр Танниг, – не имеет ни малейшего смысла взращивать цветы в сточной яме скверны. Вот когда Иегова обрушит землю в пылающую бездну проклятия, чтобы тем подвергнуть ее очищению, тогда и выяснится, каким из бутонов суждено зацвести».
«Да весь народ мог бы цвести, – грохочет Блемска, – но на его стебле сидят черные травяные тли и сосут его, и нажираются досыта, и порождают травяных клопов, у которых хоботки еще длинней. А в мире не хватает ветра, который мог бы стряхнуть их с листьев и швырнуть в пропасть».
Тем самым Лопе может выбирать любое мнение, которое ему больше по душе. Выдаются такие вечера, когда он, вполне довольный собой, ложится в постель. Значит, он сыт и внутри у него будто шелест леса. «Теперь ты по меньшей мере знаешь, какие пути бывают в жизни», – думает он про себя. Удовлетворение несколько дней его не покидает и все вроде бы хорошо, но потом опять случается что-нибудь, что сбивает его с толку и будит сомнения. Например, его занимает вопрос, как может новый граф жить в замке и ничего не делать. Если мать, отец и сам Лопе не поработают одну неделю, им не на что будет жить. Они не получат зерна в натуральную выплату, у них не будет денег, чтобы купить селедки и повидла. С ума можно сойти от этих мыслей.
Еще когда Лопе учился в школе, ему однажды было велено собрать под опрокинутую картофельную корзину цыплят Бремме. Трех или четырех пискунов ему загнать удалось. Но потом дело осложнилось. Стоило ему поднять корзину, чтобы сунуть туда очередного цыпленка, наружу выскальзывал один из уже сидящих там. От досады он даже расплакался. А когда он наконец с превеликим трудом загнал под корзину всех, дождик уже прошел. Вот и с мыслями дело обстоит точно так же.
Как-то раз, когда они в воскресенье валялись на лужку, Лопе надумал разведать мысли Пауле Венската. Жуя травинку, Пауле сказал:
– Вся беда в том, что ты не выучился толком никакому ремеслу. Будь у тебя настоящий мастер, ты бы не верил всему, что говорят в книгах. – И, ткнув обглоданной травинкой в сторону деревенской улицы, добавил: – Ты только посмотри, какие у Анни тонкие ноги. Они у нее, наверно, гнутся, как виноградная лоза.
– А тебе не сегодня-завтра пора бриться, – так в один прекрасный день говорит Блемска.
Лопе краснеет и дома тайком пробирается с осколком зеркала в спальню. Он проводит ладонью по щекам. Щеки словно обметало серым инеем. Видно, он все-таки изменился после конфирмации. В воскресенье Лопе сидит на скамейке перед домом парикмахера Бульке и ждет, пока не разойдутся по домам взрослые мужчины, в том числе и отец.
– Ну что ж, перышки можно и обчикать, – говорит Бульке, намыливая щеки клиента. «В месяц на грош больше», – думает он про себя.
Что тут сверху, а что снизу? Новые мысли червями извиваются в мозгу у Лопе. Может, он все-таки больной какой-нибудь? Выпадают дни, когда мысли его набрасываются на все, что ни происходит в усадьбе, словно мухи на падаль. Смотрителю вовсе незачем снова и снова напоминать ему, что он плохой работник. Лопе и без него это знает.
– По части лени ты даже волов переплюнул, – говорит гномик Бремме.
Но Лопе задумывается и о том, что за человек этот Бремме. Вот почему, к примеру, Бремме его подгоняет? Какая ему в том польза? Разве Бремме принадлежит хоть один-единственный колосок на всех полях? Если Бремме отрежет колосок, чтобы заткнуть его за ленту шляпы, это будет кража. И тем не менее смотритель Бремме из года в год – и вот уже сколько лет! – подгоняет людей, работающих в усадьбе.
У нас на дворе одна тысяча девятьсот тридцать второй – говорят люди. Это они имеют в виду год, и все в этом уверены. Про Лопе, например, люди говорят, что ему восемнадцать, но сам он своего возраста не ощущает. Эти восемнадцать лет нигде в нем не проявляются. На теле у него нет ни пометок, ни зарубок. Нет годовых колец, как на рогах у коровы. Если считать прожитые годы за ступеньки, в нем должна образоваться вроде как лестница. Годы не лежат рядами в его мозгу, как камни в кладке стены. Одно переходит в другое, одно сливается с другим. Не будь он конфирмован, ему не пришлось бы ходить за волами и взмахивать кнутом. Не учись он в школе, пастор отказался бы его конфирмовать. А что до календарного года, то и тут люди не пришли к единому мнению.
– В России раньше был совсем не такой календарь, как у нас, – сказал однажды господин конторщик.
А в газете Лопе однажды прочел, что в Италии вообще начали новое летоисчисление. Этого пожелал ихний президент или кто он там есть, которого они называют Муссолини. Пожелал – и все тут. Не иначе, этот лысый головастик считает себя первым человеком в государстве.
Вообще у людей нет единого мнения по большинству вопросов.
– Скоро в Германии начнут все-все делать по-новому, – рокочет управляющий Конрад, обращаясь к смотрителю Бремме, и хлопает себя стеком по кожаным крагам.
– Очень может быть, – бормочет Бремме без особой убежденности, но с преданностью в голосе.
«Невелика новость, если он заграбастал ключ от зернового люка», – думает Бремме и моргает слезящимися глазками.
– Именно мы, немцы, всегда что-нибудь делали по-новому, – продолжает Конрад. – Но участвовать должен весь народ.
– Само собой, – раздается в ответ похожий на скрип часовой пружины голос, а рот сплевывает изрядный кусок жвачки на ствол ближнего дерева.
– Создать новый рейх? С помощью курток и обмоток? – покашливает его милость. – Боюсь, как бы вам не обломали рога, дорогой мой Конрад. Ибо в конце неизбежно оказывается, что старое и было самое правильное. Так учит нас история, мой дорогой. Загляните в нее повнимательней! Все уже когда-то было.
Милостивый господин говорит это отнюдь не благосклонно. Но управляющему теперь не больно-то и нужна его благосклонность. Он уже почти собрал сумму, необходимую для аренды собственного имения.
– Р-р-реакция, – рокочет его бас. – Старое всегда реакционно, – При этом управляющий Конрад смотрит куда-то мимо своего собеседника.
Тот искоса поглядывает на Конрада.
– Вот уж не думал, что вас втянут в это дело.
Управляющий поспешно отворачивается, его жирный загривок колышется, словно у свиной туши, когда ее опускают в чан с кипятком. Конрад просто-напросто уходит.
Так дальше продолжаться не может, пора и впрямь все обновить, – вздыхают в своем углу шахтеры. – Дожили, уже и с работой туго. Разве прежде такое бывало?
– Не-а, прежде работы было полным-полно, всю и не переделаешь, вот как. Часть работы приходилось оставлять необработанной, ха-ха…
– Трепло!
– А что, неправду я говорю? Что-то у нас не так.
– Не так у нас на самом верху. Работы и сейчас хватает, просто нет никого, кто пожелал бы за нее платить, когда она сделана.
– Вот о чем я и толкую: хозяйство обеднело, нужно что-то новое, чтобы опять поставить его па ноги.
– А кто ставить-то будет, вы, что ли?
– При чем тут мы? Кто наверху, тот и будет. Выходит, наверху нужны новые люди!
Шульце Попрыгунчик вмешивается в разговор:
– Вся беда в том, что мы не можем уследить за порядком в собственном доме. Кто только не ошивается в нашем истинно германском дому! Богатые иностранцы, евреи и прочий сброд. Они съедают все угощенье с нашего стола, а мы потом облизываем столешницу.
– Это тебе небось втолковали ладенбергские парни в обмотках?
– Плевать, кто втолковал, главное – я прав. Интернационалы понапускали всякий сброд в наш германский дом. Думаете, за границей так же мало работы, как здесь, у нас? Ничего подобного.
– Ты, никак, там бывал?
– А ты бывал на Луне?
– Гм-гм…
– Вот видишь, бывать не бывал, а знаешь, что на Луне не водятся коровы. Все дело в том, что у них за границей есть колонии, а значит, есть сырье, понимаешь, сырье! А уж с сырьем можно делать дело. Где сырье, там и работа.
– Ты что, хочешь готовить тушенку из готтентотов?
– Сами вы готтентоты! – Шульце Попрыгунчик сплевывает. – Потому что они могут с вами поступать, как захотят. Не вы ли платите налоги и еще раз налоги из-за репараций? Подавайте репарации, говорят они, а колоний-то небось не дают. Они сами хотят обделывать делишки, евреи-то!
– Ты мог бы наняться в управляющие к этой сухой жердине, к Рендсбургу, тот тоже знай талдычит про колонии.
Шульце Попрыгунчик уходит, яростно размахивая руками.
– Мы еще вам покажем, где раки зимуют!
– Уж он-то покажет… – рокочет чей-то бас из поперечного штрека.
– Сырье? Товары? Да их полным-полно, – говорит торговец Кнорпель. – Просто у людей нет денег, чтобы все это покупать. Денег стало маловато. И с каждым днем делается все меньше.
– Может, вы и правы, – поддакивает мясник Францке, соскребая сгусток запекшейся крови со своей полосатой куртки.
– А чему тут удивляться? Вы знаете, какое жалованье получают министры и всякие там чиновники? У них всегда в кармане полно монеты. У министров – имения, у чиновников – дома и виллы, а сами только и знают, что сидеть с карандашиком сложа руки. Впрочем, чего я вам все это рассказываю? Вы и сами это знаете. А нашему брату сколько приходится гнуть спину, пока он честно заработает себе на жизнь! Не правда, что ли?
– И не хочешь, а поверишь.
– Поверишь, поверишь, уж я-то знаю, что говорю, дорогой мой. Метлой их всех надо вымести, всех, кто просиживает кресла наверху, а вместо них поставить людей, которые умеют работать.
– Господи Иисусе, что же это будет, если времена не изменятся? – сокрушается вдова Шнайдер. – Не хочу хаять своего покойника, он, конечное дело, выпивал… Иногда даже через меру… А чем все кончилось? Петлю на шею – и точка. И долги он делал, не хочу его хаять, но делал же, ничего не скажешь. Ну я и думала, что расплачусь с долгами, коль скоро его больше на свете нет и пить он, стало быть, больше не пьет. Ну и вот, время прошло, бездельничать я не бездельничала, а думаете, расплатилась? Как бы не так, на прошлой неделе пришлось в Ладенберге перезаложить дом. А все потому, что дохода почти и нет никакого. За яйца и масло получаешь в городе вроде как милостыню. Ну, какая радость от такой жизни? А мальчику, Альберту, опять нужен новый коричневый костюм, он же не отвяжется, ему вынь да положь. И слушать ничего не желает, он вступил в ферейн, где они носят коричневую форму.
– Истинная правда, – подтверждает Карлина Вемпель и вытирает блестящую каплю, что висит у нее под крючковатым носом. – Молодежь вся словно с цепи сорвалась. Пастор как раз в прошлое воскресенье об этом говорил.
А что же Блемска? Блемска возвращается с работы злой и усталый. Осень уже притаилась в верхушках деревьев. Она выслала своих гонцов – первые желтые листья. Отгорают свечи коровяка вдоль обочин, небо, тихое и шелковисто-голубое, исполнено ожидания. Может, где-нибудь в дальних странах уже заваривается суп из осенних облаков и просыпаются большие ветры. Но Блемска не думает обо всем этом. У него что-то шуршит в кармане пиджака. Это приказ об его увольнении. Вот какие новости у Блемски. Последний раз чистит он свою карбидную лампу о пень, чистит основательно, потому что теперь ему некуда торопиться. Даже обер-штейгер не смог его больше держать.
– Вы бы лучше положили за каждую щеку по табачной жвачке да помалкивали. Так нет, вам непременно надо, чтоб за вами осталось последнее слово, – сказал он на прощанье.
– А я и не знал, что жевательный табак делают затем, чтобы вытравить правду изо рта, – спокойно ответил Блемска.
– Вот видите, – сказал обер-штейгер и поспешно подмахнул бумагу об увольнении.
– А что нового мы проходили прошлый раз? – спрашивает учитель на уроке истории. – Главное в истории – это личность. Историю делают отдельные личности. Кто еще помнит, какую великую личность мы проходили на прошлом уроке? Ну?
– Фридриха Великого.
– Верно. А что мы о нем говорили?
– Это была личность, намного превосходительная всех других.
– Превосходящая, верно. А кто мне может назвать имена других личностей, изменивших лицо Германии?
– Би… Би…
– Ну?
– Бисмарк.
– Верно. Как мы поэтому называем Бисмарка?
– Великим канцлером.
– Хорошо. А что еще можно сказать о великом канцлере Бисмарке?
– В магазине продают бисмаркову селедку.
– Вот это уже ни к чему, потому что селедку назвали так именно в честь Бисмарка… Про Бисмарка, про самого Бисмарка мы что еще говорили?
– Что неплохо бы нам снова заполучить такого канцлера, тогда бы мы…
– Совершенно верно. Нам недостает именно нового железного канцлера, каким в свое время был для нас Бисмарк.
– Нового? – переспрашивает овчар Мальтен и смеется своим жутким, раскатистым смехом, в котором словно перекатываются льдинки. – Всего-то и есть нового, что рабочие опять, как зайцы, попрыгают в мешок к предпринимателям, чтобы потом из них можно было по всем правилам выжимать соки. Только на сей раз они попрыгают со знаменами и под музыку.
Лицо года становится все более расплывчатым и печальным. Утро подолгу нежится в постели из клочковатых туманов, запах скользких маслят пропитывает лес. Опустившийся туман запутывается в кудрявой овечьей шерсти. Благоухает картофельная ботва, коричневые каштаны выпрыгивают из своей колючей оболочки. Стаи скворцов с рокотом проносятся над убранными полями. Солнце мерцает тусклым, водянистым светом. После обеда небо иногда становится шелковисто-голубым, как те банты, которые ну никак не может распродать торговец Кнорпель. Лопе вскапывает жнивье на полях у его милости. Он выворачивает наизнанку шкуру земли. Землю и надо выворачивать, потому что она колючая и щетинистая. Иначе на ней ничего не вырастет.
Управляющему Конраду удалось наконец завести ферейн для курток также и в деревне. Те проводят у Тюделя первое собрание.
– Если ты и на этот раз напустишь сюда красных, пеняй на себя, – предупреждает Конрад Тюделя.
Но Тюдель только услужливо разводит руками. Он рад, что у него в трактире опять полно. Какая ему корысть в ферейне велосипедистов и в клубе курильщиков? Они больше не справляют никаких юбилеев и на собраниях ничего не заказывают, они все почти сидят без работы, бедолаги.
Парни в обмотках приезжают из Ладенберга на грузовике. Деревня удивляется. Двое мужчин дикого вида, оба в куртках, высоких сапогах и при солдатских ремнях стоят по левую и по правую сторону трибуны. Они даже не снимают с головы свои нелепые фуражки. Трибуна у них та же самая, с которой его милость в свое время говорил о смерти императрицы. Ладенбержцы черной краской вывели на ней какую-то похожую на паука закорючку.
– Это свастика, – объясняет Альберт Шнайдер. Он стоит в дверях зала, а свои брюки он до самых колен обмотал двухцветными обмотками. Управляющий гордо шествует по залу в коричневых высоких сапогах и очень похож на портрет кайзера из учебника.
– Работа и хлеб! – ревет с трибуны оратор из Ладенберга, и безработные согласно кивают. Они жмутся по углам, словно отверженные, потому что, если сидеть за столом, надо что-нибудь заказывать.
– Уничтожение версальского рабства! – вещает голос с трибуны.
– Вот теперь ты сама слышишь, – говорит Альберт Шнайдер, наклонясь к матери. Та кивает и поспешно вытирает уголки глаз.
– Хозяйству нужно придать новый размах, еврейский капитал надо из него исключить. Нам не нужны торговые дома и концерны. Нам нужно… нужно здоровое среднее сословие.
Шишковатая голова торговца Кнорпеля утвердительно покачивается, глаза понимающе мигают.
– Сельское хозяйство лишено фундамента. Пора положить конец земельной спекуляции. Назначить справедливые цены за сельскохозяйственные продукты. Крестьянин должен быть привязан к земле.
Издольщики, бобыли, беднота и середняки задумчиво попыхивают своими носогрейками.
– Выдающиеся личности – на руководящие посты! Долой чиновных бонз, долой парламентаризм!! Историю делают личности.
Учитель от удовольствия откидывается на своем стуле.
– Долой позорный Версальский договор! Конец выдумкам о немецкой вине! Нашему народу нужно жизненное пространство, нужны колонии.
Липе Кляйнерман заливает за частокол черных от жвачки зубов две рюмки очищенной подряд и протягивает Тюделю пустую рюмку, чтобы тот наполнил ее в третий раз.
– А платить ты когда собираешься? – рявкает Тюдель и для надежности прижимает бутылку к груди.
Липе поворачивается спиной к стойке и мутными глазками оглядывает зал. Один из ладенбергских сбоку протискивается к стойке:
– Налей ему рюмку, раз просит, понял?
– Ему платить нечем.
– А вот это уже не твоя забота, а моя.
– Верно он все это говорил про колонии, который на трибуне. – И Липе чокается с ладенбержцем. – Негры – они все равно как обезьяны. Когда при них нет немцев, они только глупости вытворяют.
– Ты правильный мужик, – говорит ладенбержец и хлопает Липе по плечу.
Липе чуть не сползает на пол и, лишь уцепясь костлявым локтем за край стойки, удерживается на ногах.
– А ты знаешь, что такое «бутчер»? – спрашивает Липе своего собеседника в куртке.
– Нет, а что это такое?
– Вот видишь, ты слишком молод, где тебе знать. А я так всегда хотел стать мясником в колонии, а мясников они там называют «бутчер». Вот теперь и ты знаешь, а колонии нам нужны позарез.
– Это мне нравится, а где ты работаешь, камрад?
И Липе, указывая неверной рукой на управляющего, говорит:
– Спроси лучше у него, он здесь управляющий.
– Времена не так уж и плохи, вот только люди становятся все хуже, – говорит на обратном пути столяр Танниг Карлине Вемпель.
– Пусть делают, что хотят, все равно конец света уже близок.
И они бредут дальше сквозь туман, как два призрака.
Плохие времена? Это кто говорит? Во всяком случае, в доме Рендсбургов справляют свадьбу.
Ни один злопыхатель не скажет, что у Рендсбургов не умеют справлять. Кареты и автомобили заполняют усадьбу. Незнакомые кучера и шоферы праздно слоняются по деревне. Для Тюделя настали золотые деньки. То и дело приходят новые, незнакомые посетители. Из соседних имений, из города и еще бог весть откуда. Каждая батрацкая семья получает накануне свадьбы по целому торту.