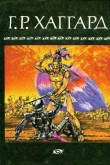Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
В замке хлопают пробки от шампанского. Торжественный выезд молодых – до церкви. Безработные шахтеры, девушки, парни, деревенские ребята, по старому обычаю, держат в руках длинные шесты, украшенные бантами и поздними астрами, чтобы перегораживать улицы и дороги, по которым должен проехать большой черный лимузин с новобрачными.
Из открытых окон свидетели осыпают дождем пфеннигов ликующую толпу. Двадцать автомашин везут свадебных гостей. Господ в высоких цилиндрах и дам в свистящих, благоухающих шелках.
Небо со своим воинством словно опустилось на землю. Лакей Леопольд и его помощники из соседних имений выряжены в бархатные ливреи. А поглядели бы вы на их лаковые башмаки с посеребренными пряжками…
Почти сто голов забитого в усадьбе скота, несомые руками лакеев, осторожно, как младенец до крестильной купели, проплывают вокруг стола и исчезают кусок за куском в жующих ротиках дам, за белыми крахмальными манишками мужчин.
В покоях и на кухне – целый рой служанок, у которых от множества бессонных ночей под глазами легли черные круги. А днем – праздничный стол для работников, накрытый на току. Работникам подают свинину и картофельный самогон. Жена смотрителя Бремме, завернувшись в свою черную каракулевую накидку, наблюдает за раздачей мяса. Жена управляющего вся – один беспокойный взгляд. Ведь в этой суматохе с малышкой легко может что-нибудь приключиться. На вечер они вместе с мужем званы в замок, а пока по мере своих сил стараются праздновать с народом.
Настает вечер, по столбам развешивают фонари, и люди заводят песни. Пахнет прогорелым керосином. Когда из замка до работников доносится обрывок какой-нибудь мелодии, они хватают женщин за бока и начинают скакать по цементированному току. Наконец музыка выходит под открытое небо, в парк. В небо взлетают огни фейерверка. Перевити огненных снопов в небе.
Ах, как все роскошно! Как все летит, как все шипит! Как вращается, крутится, рассыпается звездами! Как гремит, щелкает, завивается вихрем, трепещет! И работники молча рассаживаются на току, как некогда пастухи – когда звезда Спасителя взошла на небо. Перед ними открывается небесный мир, в котором они чувствуют себя чужими. Они выманивают зерно из земли – они сеют, пашут, собирают урожай и обмолачивают его. Потом они перетаскивают полные мешки в закрома его милости. Капли их пота остаются на ступеньках лестниц. Двери амбаров захлопываются – и вот уже они отделены от плодов своего труда. Позднее, когда милостивый господин надумает обратить урожай в деньги, им еще раз будет дозволено возложить на свои спины плоды трудов целого года. И они снесут мешки с чердаков к машинам, а потом в городе снова их сгрузят. Больше они ничего не видят, и только по таким вот дням, как этот, им доводится также увидеть, как деньги уже в другом обличье вспышками и всполохами бороздят небо. И они говорят: «О-о-о!» – либо: «А-а-а!» – и на мгновение становятся счастливы, когда на их лица ложится отражение господской радости.
Некоторые из приехавших загостились в замке на целую неделю. Только таким путем обедневшая знать может хоть неделю пожить в условиях, ей подобающих. В день свадьбы к вечеру новобрачные отбывают. В девичьих мечтах милостивой фрейлейн свадебное путешествие вело на юг. Но граф больше и слышать не желает ни про какие Ба… Балканы, ему теперь подавай Па… Па… Париж. В Париже умеют жить.
Управляющий Конрад, чертыхаясь, обходит амбары и сараи. На засыпных чердаках навстречу ему скалится голый пол, в хлевах зияют пустые стойла, на птичьем дворе вообще опустели целые насесты.
– И все ради этой дуры, – говорит он, да так громко, что даже смотритель Бремме может его услышать.
У господских сыновей тоже до сих пор длятся каникулы. А вот уж после каникул перед ними встанут большие жизненные задачи – так многозначительно говорит учитель Маттисен. Ариберт хочет стать офицером, а Дитер – заняться сельским хозяйством. Но сейчас им некогда об этом думать, сейчас они, как мексиканские ковбои, палят из пистолетов и охотничьих ружей. Они распугивают дичь, и лесничий с тупой покорностью отсиживается в сторожке.
Молодые голуби, которые впервые выглядывают из голубятен, чтобы осмотреть двор усадьбы, минутой позже уже валяются растерзанные на навозной куче и истекают кровью. Индюк, гордо бормоча, шествует через двор и раздувает полукружье из перьев – и вдруг он распластывается на земле в дыму и грохоте, и солнце поблескивает в его застывших глазах. Черная такса Гримки после прямого попадания учебной гранаты сперва с визгом корчится, потом снова вскакивает, подпрыгивает раз-другой и вытягивается на земле – чтобы умереть.
– Она умерла за отечество, – склабится Ариберт и сует в дрожащую руку кукольника пять марок.
– Ничего не скажешь, – лепечет Гримка, – очень они благородные, наши молодые господа, сунули мне так, за здорово живешь, пять марок за эту никчемушную собаку. Вечно, дрянь эдакая, устраивалась спать у меня на большом барабане.
А вот с матерью все обстоит далеко не так, как раньше. Она по-прежнему работает в женской бригаде, но молчит, будто немая, и только недовольным голосом отвечает, когда ее о чем-нибудь спросят. Она больше не принимает участия в немудреных шутках, которые приняты на полевых работах и меняются в зависимости от времени года. Рот ее – как узкая синяя черта под раздувающимися крыльями мясистого носа. Порой, когда смотритель Бремме или управляющий подходят к женщинам, мать останавливается, подняв мотыгу либо вилы, закатывает глаза и вопит:
– Они еще собьют полуду с ваших воротничков, надсмотрщики проклятые!
Ни одна из женщин не рискует при этом рассмеяться. Женщины начинают побаиваться Матильды. Дома, в собственной кухне, мать суетится, работает, бегает взад и вперед, потом вдруг плюхается на скамью, словно брошенный в воду камень. Посидит какое-то время, отдохнет, снова вскакивает, нелепо размахивая руками, и бормочет:
– Пора шабашить… нищенское отродье… что за ширинка у его милости… Пастор велел испечь себе бога, а теперь все мы должны его лопать…
После этого она садится и окончательно цепенеет. И даже как будто не замечает Элизабет, которая хочет забраться к ней на колени. Она грубо отпихивает девочку и пронзительно вопит:
– Бр-р-р! Все сплошь пауки… и клопы.
Еще через несколько минут она принимается за работу и работает, как обычно. Когда Труда развязно спрашивает:
– Мам, а чего ты говорила-то? – Матильда утирает лицо, глядит на мокрое пятно посреди фартука и отвечает с возмущением:
– Чего вы вечно ко мне лезете?
Судя по всему, мать чем-то больна. Лопе этим не особенно тревожится. Он может теперь читать, где хочет и когда хочет. Мать его попросту не замечает. И больше не требует, чтобы он все свободное время вязал веники. Как-то раз, когда на мать снова нашло, он неосторожно приблизился к ней с книгой. Она схватила его тогда за руку и дернула на себя. Глаза у нее при этом были совсем неподвижные: много белизны, и почти не видно зрачков.
– Два отца тебя делали, – сказала она и еще раз встряхнула его, – просто чудо, что ты не родился на свет с четырьмя ногами.
С этой минуты Лопе тоже начинает бояться матери. Ночью прежние желания снова долбят его, как ворон клювом. На другой день он заговаривает об этом с Блемской. Блемска задумчиво пожимает плечами. Неужели он перестал понимать Лопе? Блемска живет теперь как-то на отшибе. В деревне он почти не показывается. Он перекапывает убогий общинный огородик. Он мог бы, правда, пробавляться случайной работой еще где-нибудь в деревне, но на «большое спасибо» плюс кусок хлеба с маслом не больно-то разъешься. Фрау Блемска опять слегла. Она поливает многотерпеливого мужа холодной водой упреков, она хнычет и причитает. Поэтому Блемска охотнее проводит свое время на улице. Он чинит, поправляет, забивает гвозди и даже чистит коз. Порой он, словно выбившись из сил, ложится с какой-нибудь книжкой на сеновале. Иногда он навещает своих детей, которые сейчас оба живут в городе. Теперь у него есть время. Навещает он в городе также и других людей. И эти люди подбадривают его.
– Мои товарищи в городе тоже не падают духом, – рассказывает он потом Лопе.
Иногда он ходит по вечерам к Густаву Пинку и ведет с ним нескончаемые споры. Но Густава Пинка с места не сдвинешь.
– Может, и он стал бы понятливее, доведись ему разгуливать руки в брюки, как разгуливаю я, но его-то, как видишь, не увольняют, он им нужен, да, он им нужен, – многозначительно повторяет Блемска. Конечно, Блемска и по сей день мог бы работать в усадьбе у долговязого Рендсбурга, не излупцуй он в свое время господских сорванцов. Но ведь это все равно ничего бы не доказывало.
Лопе приходит к Блемске, когда тот колдует над старым велосипедным колесом.
– Хочешь сделать велосипед и уехать на нем в Америку?
– Не хочу.
– А чего ж ты тогда?
– Думаешь, им, в Америке, живется по-другому?
– Но ведь только и слышишь, что про Америку да про доллары.
– Одинаковое дерьмо, что здесь, что там. Впрочем, не исключено, что я туда уеду.
– На этом колесе?
– А хоть бы и так. Если умело обращаться, доедешь и на одном колесе.
– Как ты думаешь, меня еще примут работать на шахту?
– Нельзя сказать, что тебя там ждут не дождутся, а впрочем, кто знает. Они разборчивы, как козы в еде. Да, что я тебя хотел спросить: дома к тебе больше совсем не пристают?
– Мать стала какая-то не такая. Временами прямо ненормальная.
– Ненормальная, говоришь? – Блемска достал старый кожаный ремень из ящика и прилаживает его в углубление обода. – Ненормальная? Ты знаешь, женщины, они такой народ, у них чутье лучше, чем у мужиков. По-моему, рано или поздно все мы чокнемся.
– Завтра я туда пойду. Только сперва к кому, к обер-штейгеру или…
– Лучше всего подгадать к началу смены. Можешь пойти к счетоводу. Но только не говори, что тебе… Короче, никакого Блемски ты знать не знаешь. Я для них все равно, что красный флаг… Впрочем, ты и сам увидишь…
На другой день Лопе уже в пять утра выходит из дому. В рощице перед самой шахтой он еще разок присаживается, задумчиво жуя холодную от тумана бруснику. Невысокие копры похожи на крольчатники. Над их крышами торчат концы железных лестниц. Одна за другой на этих концах возникают головы шахтеров в черных от угольной пыли зюйдвестках. Устало спускаются они вниз. Их взгляды обводят небо. Белые язычки пламени в карбидных лампах трепещут и гнутся на утреннем ветру. Уходя, шахтеры сплевывают черные сгустки на придорожный кустарник либо выколачивают свои лампы о придорожные пни. Время от времени пробренчит подъемная клеть, словно одиноко вжикнет коса.
На брикетной фабрике сигнал возвещает начало смены. Он похож на рев могучего быка. Перед копрами собираются рабочие новой смены. Лопе уже все это знакомо по рассказам Блемски и Орге Пинка. Холодный туман ранней осени оседает на его мокрых ногах. Лопе встряхивается.
– Вы только поглядите на этого лежебоку! – кричит один из шахтеров. – Он небось еще после вчерашнего не проспался! – И спешит по лесной тропинке, чтобы догнать товарищей.
Группа уже скрылась в лесочке. Бренчат лампы и жестянки с карбидом. Шахтеры похожи на трубочистов с рюкзаками за спиной. Они улыбаются друг другу. За почерневшими от угольной пыли губами сверкают белые зубы.
Пятнадцать минут спустя Лопе стоит перед начальником смены. В конторе воняет резиной и карбидом. Лопе мнет в руках свою выгоревшую кепку с отломанным козырьком. Он запинается на каждом слове, счетовод не поднимает глаз от работы.
– …и, может, меня возьмут…
Удушливая тишина. Слышно только, как царапает перо по бумаге. За окном громыханье сигнала. Бурчит встревоженная электромашина. Смена началась. Лопе прокашливается. Может, надо просить так, как учил его Фердинанд?
– …и, может, меня, пожалуйста, возьмут, пожалуйста, к вам.
– Тебе сколько лет? – бурчит счетовод.
– Скоро девятнадцать.
– Скоро – это когда?
– В августе.
– Значит, на тот год. А пока тебе восемнадцать. Тебе еще нужна справка. Или твой старик и без того согласен?
– Да, он… Я могу и справку принести…
– Лучше бы справку. Не я решаю, допустить тебя к работе или нет. Управляющий… Я переговорю с нашим управляющим. Он сейчас в забое…
– Мне подождать?
– Нет. Почти наверняка тебя примут. Если тебя устраивает пятьдесят в час, можешь заступать.
– Да-да… – Лопе опять начинает заикаться.
– Можешь прямо сейчас… ах, да ты разутый… но завтра ты должен начать. Нам нужен откатчик, прежний заболел. Только учти: пятьдесят в час и ни грошика больше. Раньше мы платили пятьдесят пять, но времена становятся все хуже.
– Да, пятьдесят пять… – Лопе теребит свою шапчонку.
– Нет, не пятьдесят пять, именно что пятьдесят. Зато шахта выдает тебе уголь и еще можешь задаром мыться у нас хоть каждый день. Но если завтра не придешь, управляющий тебя не возьмет, так и знай.
И знать незачем. Лопе рад бы начать хоть сейчас, будь на то его власть. Пусть дядя Блемска напишет для него эту справку. Отец писать не умеет. Он только ставит три креста вместо подписи.
– С отцом-то не беда, а вот мать нас, часом, не убьет? – делится Блемска своими сомнениями.
– Вот поверь слову, я для нее теперь все равно как какой-нибудь шкаф.
– И что с ней такое делается? Надо бы мне заглянуть к вам. – Блемска осторожно очищает перо о край чернильницы.
– Ты приходи, если она все-таки устроит скандал.
– Ладно, только мы с тобой запрячем тогда противни под рубаху.
Никаких затруднений, все проще простого. На другой день Лопе отправляется на смену, прихватив три куска черствого хлеба. Ведь не может он взять с собой суп-затирушку. Ноги Лопе засунуты в разбитые деревянные башмаки. Лодыжки торчат из слишком коротких штанин.
– Ты к нам пришел все равно как приблудный пес. В пятницу будем спрыскивать твое поступление, учти.
– Дай ему сначала хоть что-нибудь заработать, – ворчит старый смазчик, – не видишь, что ли, в каком он виде?
Старый смазчик рад, что пришла свежая сила. До сих пор ему приходилось заменять больного откатчика.
Возле лебедки ударяет в нос запахом разогретого масла. Сразу после переклички начинается работа. Закатчик уже три раза сигналил от нетерпения. Он стоит внизу, в вертикальном стволе, и загоняет полные вагонетки на платформу подъемника. Там словно приклеены две рельсы, а на рельсах как раз и стоит вагонетка, когда выплывает из глубины на свет.
Подъемник имеет две площадки – все равно как весы в лавке. На второй спускается в глубину шахты пустая вагонетка. Наверху полную вагонетку надо скатить с площадки, а вместо нее закатить пустую. В этом и состоят обязанности Лопе.
Старый смазчик показывает ему, как это все надо делать. Вагонетки неповоротливы, будто груженные железом ящики, на пятачке перед подъемником их надо разворачивать, чтобы они правильно встали на площадку либо на рельсы электрической дороги. Вся тяжесть работы приходится на руки.
– Когда будем шабашить, ты почувствуешь, сколько наработал.
На первых порах старый' смазчик помогает Лопе разворачивать и направлять черные вагончики с углем. У Лопе не получается так скоро, как того хочет закатчик внизу. Закатчик снова и снова с нетерпением дергает за сигнальную веревку. За широким окном воротной будки видна ухмыляющаяся физиономия воротовщика.
– Хорошо ему скалиться, – говорит смазчик, – ему не надо надрываться. Повернул рукоятку – и дело с концом. А получает больше нашего.
Гудит подъемный ворот, дрожит стальной трос, большие железные колеса на копре приходят в движение, пустая вагонетка гулко уплывает в разинутую пасть шахты. Деревянная защитная решетка с треском и скрипом перекрывает эту черную дыру. Пока очередная полная вагонетка дойдет доверху, Лопе и смазчик могут позволить себе небольшую передышку.
Наверху полная вагонетка с тем же треском и скрипом приподнимает решетку, и снова Лопе должен подталкивать и разворачивать. А руки не отошли еще после той вагонетки.
– Ничего, привыкнешь, – говорит смазчик и глядит на Лопе серо-зелеными глазками, которые сидят за короткими, обглоданными ресничками.
Закатчик постучал по разговорной трубке. Холодный звук, пришедший из подземного царства. Оба, спотыкаясь, бросаются к трубке.
– Чего это вы там сегодня ковыряетесь, – раскатисто и сердито звучит из железного отверстия.
Маленькие глазки за редкими ресничками бросают взгляд на Лопе.
– Не дери глотку! У нас сегодня новенький… Сразу-то не приладишься.
– А он уже спрыскивал? – грохочет бас из железной трубы.
Старый смазчик придвигает рот с седыми усиками вплотную к отверстию и дует туда слова, словно играет на большой трубе.
– Пес проклятый! – раздается снизу задушенный выкрик.
Лопе сбрасывает деревянные башмаки. Без них легче упираться ногами. Железные плиты холодные-прехолодные, в них уже засела осень.
– Так ты в два счета повредишь пальцы. У тебя башмаков, что ли, нет?
– Н-нет… я себе куплю башмаки, когда… когда у меня… мне ведь уже в пятницу заплатят…
– Дожидайся, заплатят, как же! Первая неделя получается даром. Но я не про то: у тебя родителей нет, что ли?
– Они в имении работают.
– Ах, тогда ясно. Господин ест масло, а тебе оставляет сухой хлеб. Я этих собак знаю… Не думай только, что нам много лучше… – Искривленная правая рука смазчика указывает на шахтные постройки. – Они братья, не то родные, не то двоюродные, черт их разберет. Они и вообще все между собой братья, эти денежные мешки, к твоему сведению. Только мы никогда не братья. Это… это… ну что ты тут поделаешь. Я погляжу, может, у меня дома сыщутся какие-нибудь старенькие опорки.
Воротовщик стучит в свое окно:
– Вы сгружать будете или нет? Собрались вдвоем, а дело все равно не двигается.
Железный голос сигнала перекрывает его воркотню. Работа идет дальше. Руки у Лопе все больше наливаются свинцовой тяжестью. На какое-то мгновение он вспоминает своих волов. Кто с ними ходит? Наверное, опять Гримка…
В усадьбе теперь стало не как раньше. После свадьбы фрейлейн все будто сошло с рельсов. Женская бригада дергает брюкву. Смотритель Бремме подкрадывается к Матильде.
– Где это твой пащенок? Он больше не придет, что ли?
Матильда немедля взвивается. Она хватает мотыгу, замахивается и одновременно срывает платок с головы. Бремме на всякий случай отпрыгивает в сторону. Матильда ударяет мотыгой по куче брюквы. Две ядреных брюквины нанизываются на лезвие. Остальные женщины прекращают работу. Стоят и смотрят на происходящее. Одна из поднятых на мотыге брюквин тяжело шлепается у ног смотрителя. Тот делает еще один прыжок – теперь назад.
– С этой ведьмой нынче и работать страшно.
– Ты его делал, мальчишку-то? – Синева заливает щеки Матильды.
– Да нет, вроде бы наш писарек постарался. Впрочем, тебе видней. – Бремме успел отскочить от Матильды на безопасное расстояние.
– Мои дети не будут гнуться под твоим кнутом, жеребец ты тонконогий!
– А разве вы не уговорились с его милостью, что парень останется, потому что ты… ты украла… Да ты и сама знаешь…
– Что-о-о? – И, занеся над головой лопату, Матильда наступает на Бремме. Смотритель втягивает голову в плечи и, спотыкаясь, мчится прочь через рядки брюквы. Он не прекращает свой бег даже тогда, когда Матильда давно от него отстала. Женщины визжат и падают от смеха на сырое поле.
– Ну, с какой стати он меня пугает? Ни на минуту нельзя задуматься. Тьфу, черт, мразь какая!
И, как ни в чем не бывало, Матильда снова принимается за работу. Но другие женщины не могут успокоиться.
– Говорите что хотите, а насмешить она и сейчас еще может, Матильда-то, – толкуют между собой женщины.
Смотритель приносит жалобу управляющему, но ничего этим не достигает.
– А тебе какое до всего этого дело, старый ты осел? – Управляющий ковыряет стеком в мышиной норе.
– Так разве он не обязан здесь работать, потому что Матильда…
– Обязан, обязан… Ты тут так и усохнешь, словно мешок из-под творогу. Никто из нас не перевенчан с его милостью. Еще чего не хватало…
Бремме не знает, что управляющий отказался от места. С начала будущего года управляющий станет арендовать небольшое имение в Силезии.
Неделю спустя смотритель Бремме читает в сельскохозяйственной газете следующее объявление:
«Срочно – не позднее первого января – требуется опытный управляющий имением, умеющий энергично обращаться с рабочими. Контора имения фон Рендсбурга».
Тут только смотритель понимает, что к чему. Понимает он также, по какой причине его милость, можно сказать, пропустил мимо ушей известие о том, что Матильдин парень просто-напросто бросил своих волов и сбежал. У его милости есть теперь заботы посерьезней.
После знакомства с объявлением в газете у смотрителя тоже появляются заботы посерьезней. Ему надо приложить старание, чтобы снова завладеть ключом от засыпного чердака. Изготовить второй ключ не удалось. Замок оказался хитроумный и старый. Но к тому времени, когда здесь воцарится новый управляющий, у Бремме должен быть ключ.
Даже у Кляйнерманов почти нет разговору о бегстве Лопе. Отец чуть не каждый вечер после ужина гоняет в деревню. Парни из Ладенберга обтачивают его, как болванку. Порой он пропадает где-то полночи, а домой все равно приходит трезвый.
– Ежели они отучат его пить, пусть себе бегает. – Так однажды вечером говорит Лопе мать. Говорит, как взрослому собеседнику. Лопе удивлен. Но потом мать все-таки взрывается: – Собаки поганые все они до единого. Выскребают из нас все, как подгоревшее варево из горшка. Если они тебе вдруг скажут, управляющий, либо еще кто, чтоб ты вернулся работать сюда, ты им тогда скажи: поцелуйте, мол, меня… Эт-то мы еще посмотрим! Это ж надо, паучье отродье!
Мать садится на лежанку и смотрит прямо перед собой неподвижным взглядом. Лишь под утро она переходит в спальню.
Как-то вечером, когда Лопе собирается в ночную смену, отец говорит:
– Вот ты идешь со своим рикзаком, так точно, Лопе Кляйнерман, осмелюсь доложить, к началу смены явился по вашему приказанию, так точно, с рикзаком и лампой, так точно, па-рядок и чистота… по вашему приказанию… Готлоб Кляйнерман, кто разорвет веревки… мы скоро разорвем все веревки. СА марширует, честь имею, хайль…
Лопе молчит и испытующе глядит на отца. Ему кажется, будто внутри у отца сидит другой человек, который нашептывает тому на ухо, что говорить. Да и совсем трезвым его не назовешь. Лопе задувает керосиновую лампу и оставляет отца впотемках на лежанке.
А волы после Лопе снова перешли к Гримке. Возвращаясь с ночной смены, Лопе видит, как Гримка запрягает.
– Вот ты мне… опять ты мне подсунул коровьи лепешки, вот так…
Лопе замечает потертую шкуру Вамбы. В некоторых местах кожа лопнула от ударов нетерпеливого Гримки. Вамба криво стоит в упряжке, пережевывая жвачку, и смотрит на Лопе кроткими глазами. Лопе невольно отводит взгляд.
Труда совсем отбилась от рук. Теперь она постоянно работает в женской бригаде, но отказывается работать рядом с матерью. Впрочем, мать почти не замечает ее. Лишь порой она погрозит кулаком через все поле:
– Да заткнись ты наконец, ни одной минуты не дадут человеку спокойно подумать!
Труда и женщины на другом конце поля некоторое время шушукаются. Им то и дело приходят на ум разные истории, над которыми можно посмеяться. По большей части – истории про мужчин.
– А потом они ка-ак стянут с него штаны… – рассказывает фрау Мюллер. Она уже выкинула из головы своего повесившегося мужа. Поговаривают, будто к ней иногда заходит по ночам мясник Францке.
– Штаны? – Труда хихикает. Мать запускает в нее камнем.
– Ах ты, дрянь эдакая, паучья нечисть…
– Ты никогда не бываешь черный, как другие шахтеры? – спрашивает Труда у Лопе.
– Нет, я ведь наверху работаю.
– Значит, ты не настоящий шахтер.
– А кто же я тогда?
– Да так, чучело черномазое.
Вот до чего порой доходит Трудина наглость.
И настает вечер, когда Труда не является к ужину.
Мать беспокойно ерзает на табуретке.
– Где только эта дрянь шляется? Боюсь, она уже гуляет с парнями. Ну я ж ее вздую!
– А почему ты разрешила ей справить новое платье? – И отец заталкивает себе в рот картофелину.
– Ты давай жуй, а с Трудой – это мое дело. Не может она всю жизнь ходить в отрепьях.
Лопе отправляется разыскивать Труду. И находит ее в орешнике, что растет вдоль усадебной стены. В темном закутке, где сходятся под углом два ряда живой изгороди. Находит он ее не одну. Сперва Лопе издали, на слух, пытается определить, чем заняты две темных человеческих фигуры. Труда приглушенно взвизгивает. «Так мяукают в сене котята», – думается Лопе. Вторая темная фигура гудит и смеется. Гулко, словно в пустом мешке. Лопе узнает голос Альберта Шнайдера.
Он подходит на несколько шагов поближе и видит, что Альберт обхватил Труду обеими руками. Труда молотит кулаками его под ребра, но Альберт не разжимает рук. Тогда она кусает его, и Альберт с приглушенным вскриком отпускает Труду.
– Ой-ей-ей, да ты все равно как наша кошка! – Альберт потирает укушенное место.
«Вы только поглядите, – думает Лопе, – а раньше-то он ее называл Вшивая Труда».
– Да, да, Труда Вшивая, – громко говорит он.
– Ой, кто это? – И Труда испуганно жмется к Альберту.
– Святой дух, – отвечает Лопе, – и его молния поразит вас обоих.
– Ах, это ты, чучело! – Труда облегченно вздыхает и отшатывается от Альберта. – Ты чего за мной бегаешь? Какое тебе до меня дело?
Альберт толкает Труду в бок и с несколько смущенным видом подходит к Лопе:
– Не называй ее вшивой, тогда и она не будет тебя дразнить.
– Вшивой? Это ведь ты ее так обозвал.
– Я-а-а?
– Да, ты… в школе ты ее так обозвал, а теперь липнешь к ней, как… как дворовый кобель…
– Вспомнил тоже… в школе… мы ж тогда детьми были…
– Чего это понадобилось нашему черномазому? – Издевательский смех Труды жжет Лопе, будто крапива.
Альберт Шнайдер торопится переменить тему. Он достает пачку сигарет, он угощает Лопе.
– Ты лучше покури, это успокаивает.
– Не лезь. Не нужны мне твои сигареты. Если я захочу… у меня и свои деньги есть, я зарабатываю, а ты их таскаешь.
– Как, как? Я таскаю?!
– Ясное дело. Таскаешь деньги у матери.
Терпение Альберта иссякает. Он отталкивает Труду и проходит мимо Лопе, чуть не задев его.
– А ты ступай домой. Не успела сходить к причастию, и уже шьешься с парнями.
Труда закрыла фартуком лицо и всхлипывает фальшивым голосом.
– Здорово ты его боишься, – поддразнивает Альберт уже с улицы.
Труда мгновенно выпускает фартук, набрасывается на Лопе, словно разъяренная клуша, и хватает брата за волосы. Потом она плюет ему в лицо и хочет удрать, но тут Лопе хватает ее и тоже хорошенько дергает за волосы. Труда орет. Ее крик – будто острый язычок пламени во тьме. В соседнем курятнике петух поднял сигнал тревоги, из замка доносится собачий лай.
– Ты, грязнуля поганый, не суй свой нос в мои дела, – верещит Труда и, утерев тыльной стороной ладони злые слезы, снова набрасывается на брата. И вот они схватываются в рукопашной, падают на землю, словно дерущиеся собаки, и катятся к навозной куче. Лишь когда могучие кулаки матери обрушиваются на обоих, а над разгоряченными лицами всплывает ее белый платок, они, все еще бранясь, выпускают друг друга. И, как истрепанные в драке боевые петухи, оба расходятся в разные стороны.
А туман становится все гуще. Порой он повисает между деревьями, словно тонкий слой ваты. Из крестьянских домов несется запах отварной брюквы. Полет скворцов в тумане кажется усталым. Порой воздух уже попахивает морозцем. По дворам вжикают пилы, и расколотые полешки со стуком падают с колоды. Потом ненадолго возвращается шелковистая синева воздуха, благоухание опавших листьев, пышное цветение поздних астр в палисадниках. Деревня готовится к дню святого Михаила.
Ни одна собака не знает, кто он был, этот Михаил. Много лет подряд никто даже и не вспоминал о его празднике, но теперь коммерческая часть деревенского населения вдруг взяла да и вспомнила. Торговля сейчас плетется, как усталая пара лошадей. Денег ни у кого нет. Человечество прокисает. В городе каждые пять минут придумывают что-нибудь новенькое. И до сих пор что-то продают, поскольку там умеют искусно навязать покупателю свой товар. Давно уже не наблюдалось такого душевного единства между торговцем Кнорпелем, Вильмом Тюделем, мясником Францке и булочником Бером. Хотя бы по одной этой причине им следует испытывать благодарность к старому Михаилу. Они вступают в переговоры с Густавом Пинком, председателем местного отделения социал-демократического ферейна.
Кроме того, они налаживают контакты с ферейном велосипедистов. Он очень возвысился за последнее время, этот ферейн. Теперь он даже и называется не ферейн, а местное отделение союза. Весь же союз вместе взятый именуется «Рабочий союз мотоциклистов и велосипедистов „Солидарность“». Организацию стрелковых соревнований берет на себя, разумеется, социал-демократическая группа. О чем речь! Густав Пинк даже принимает оскорбленный вид.
Группа не позволит отнимать у себя такую честь. Особого накала достигают страсти, когда речь заходит о карусели.
– Карусель нужна, – говорит Густав Пинк.
– Чтобы выманивать гроши у малышни?! – выражает свои сомнения торговец Кнорпель.
– Они будут кататься до одури, а я так и останусь стоять со своими сосисками, – добавляет мясник Францке.
– Как вы не понимаете, что значит карусель? – гнет свою линию Густав Пинк. – Да они же сбегутся со всех сторон, даже из соседних деревень, едва заслышат шарманку.
– Если у нас просто будет играть музыка, они ведь ее тоже услышат.
– Ну что там музыка! Шарманка она и есть шарманка. На всяком приличном празднике должна играть шарманка!
Вильм Тюдель тоже все больше склоняется к шарманке и карусели. И председатель местной организации велосипедистов тоже ничего не имеет против. Вопрос ставится на голосование.
Сторонники карусели оказываются в большинстве. Единство представителей торговли дает первую трещину. Не так-то все просто со стариком Михаилом.
Погода держится. Собственно говоря, Михайлов день уже давно миновал, когда на деревенском лугу под липами перед трактиром Вильма Тюделя начинается посвященный ему праздник. Лысый хозяин карусели и его толстая жена снимают защитный брезент с боковой стены. Карусель похожа на огромный серый гриб. С нижней стороны его шляпки свисают полоски разноцветной канители. Под шляпкой расположился целый табун пестрых и прыгучих деревянных лошадок. Одни из них разевают рот, у других, застывших в вечном галопе, ветром отнесло в сторону хвост.
Есть тут и застывший лебедь. В спине у него дыра. В дыре сидят дети. Справа и слева от фасада шарманки стоят две вырезанные из дерева девицы. Одежды на девицах самая малость. Деревянная фата, загнувшись у них между ногами, худо-бедно кое-что прикрывает. А еще выше та же фата как бы зависает на груди у этих покрытых розовым лаком дамочек с немодной прической.