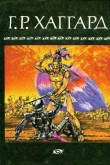Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
В качестве нового члена Кнорпель на очередной встрече был удостоен танца в свою честь и за это поставил остальным членам бочонок пива.
– Уж не мог заказать солодового, – ворчала его желтокожая жена, – ты ведь знаешь, у меня душа не принимает эту горечь.
И тут Кнорпель заказал еще кружку солодового пива специально для своей жены.
«Пусть вам в долг отпускает серый волк» – такой плакатик выставлен у Кнорпеля в лавке. Кнорпель и в самом деле никому ничего в долг не отпускает. Лавочница Крампе, правда, отпускала, но это уж ее дело.
– Мои поставщики тоже не ждут денег, – говорит Кнорпель. Он расплачивается сразу, как только получит счет, и за это поставщики предоставляют ему два процента скидки. Так стоит ли лишаться такого очевидного преимущества из-за этой голи перекатной?
К пиву, которое Кнорпель поставил велосипедистам, приложился также и Густав Пинк. Это было неизбежно. Потому что Густав Пинк не только председатель социал-демократического ферейна, но и казначей в рабочем велосипедном ферейне «Солидарность».
– Если он может пить мое пиво, значит, может и покупать у меня в лавке, – оскорбленно заявил Кнорпель. – В кооперативе, между прочим, тоже в долг не отпускают. Каждому его гроши дороги.
Шульце Попрыгунчик заявил о своем выходе из местного социал-демократического ферейна, поскольку там не захотели сделать его тамбурмажором.
– Он ведь просто рожден быть тамбурмажором, – угодливо распинался Гримка, потому что за всякий урок на трубе либо барабане Шульце давал ему пятьдесят пфеннигов сверх положенного.
– Ты почему выходишь? – спросили его на собрании, когда он положил на стол свой членский билет.
– Потому… потому что не может социализм переделать весь мир к лучшему. Чепуха это все. Надо для начала… для начала навести порядок в собственном доме. А наш дом – Германия. Когда у нас будет порядок, другие смогут брать с нас пример, потому как мы всегда были цивилизованной нацией… а дерьмо… так сказать, грязь всего мира… собственно говоря…
Ропот, покачивание головой.
– Он небось стакнулся с парнями в куртках, – бросает кто-то.
– Господи, да назначьте его барабанщиком, и никуда он от вас не денется! – выкрикивает другой голос.
Но Шульце Попрыгунчик берет свой членский билет со стола и еще раз с размаху шмякает его об стол.
– Нет, все равно уйду.
А что же Бер, булочник? Бер состоит в социал-демократическом ферейне, в велосипедном ферейне «Солидарность», в ферейне ветеранов, в кегельклубе и в ферейне курильщиков. И ни один из ферейнов его ни в чем не может упрекнуть.
– Ах, все эти членские взносы – это же просто наказанье божье, – порой вздыхает фрау Бер, стоя за прилавком, – но ничего не поделаешь, приходится, если хочешь сохранить клиентуру.
Булочник враждебно настроен по отношению к хозяину имения, потому что тот велит покупать булочки для своего стола в городе. Бранит он также крупных купцов и торговые дома, потому что своими низкими ценами те загоняют в гроб мелкого ремесленника. Порою, когда Бер бывает на взводе, он обнимается с Густавом Пинком и ставит ему рюмочку.
– Чтоб ты знал, – говорит он Густаву Пинку, – чтоб ты знал: я всегда стоял за маленьких людей, стоял и стою. Я всегда отпускаю в долг, если человек не может сразу вытащить гроши из кармана. Слава тебе господи… я не веду себя как… как иные прочие… Но вот ваш корперитив… Скажи ты мне, ради бога, с какой стати вы включили корперитив в свою программу?
Что прикажете отвечать на это Густаву Пинку? Пинк бормочет что-то невнятное насчет мировоззрения.
– На весь мир ты никогда и не взирал, – замечает булочник, – не взирал и взирать не можешь, просто ты где-то это вычитал, а корперитив заводить ни к чему.
Заявляется один из членов военного ферейна ветеранов и хочет чокнуться с Бером:
– Твое здоровье!
– Твое! Да, то были времена, когда… когда мы служили… в пятьдесят втором… служили… да здравствуют старые однополчане! Ур-ра-а-а!
Старик Мюллер, отец конторщика Фердинанда, ходит, согнувшись в три погибели, так что руки у него чуть не волочатся по земле, и похож он на беловолосую обезьяну. Так вот старик Мюллер плевать хотел на все ферейны, вместе взятые.
– Одна трепотня и ничего больше, – говорит он, – лучше бы работали как следует, тогда бы и ферейны им не понадобились. – Мюллер ни у кого не занимает денег, не пьет, а табак на курево он сам выращивает у себя в садике за мельницей. Старая, крытая соломой мельница вот-вот рухнет.
– Мюллер закапывает свои деньги в ковше под мельницей, – толкует народ.
– Нет, Мюллер бедный, потому что его сын, Фердинанд, стоил ему много денег, когда учился в гимназии. Старый Мюллер до сих пор не может оправиться после тех расходов, – говорят другие.
Мюллер неизменно питает вражду к церкви и к пастору.
– Уж лучше я кликну повитуху, когда надумаю помирать, чем этого чернорясника, – говорит он. – Он и пьянствует, и сам полон всякой скверны…
В деревне Мюллер считается предсказателем погоды.
– Он знает облака и звезды лучше, чем господь бог, – говорят о нем люди. Если кто в деревне затеял какое-нибудь важное дело, для которого нужна хорошая погода, тот для начала справится у старого Мюллера.
– Сегодня у меня в ухе стреляло, – отвечает Мюллер на расспросы, – значит, дня через три быть дождю.
По большей части его прогнозы сбываются, и поэтому он – великое подспорье для деревни, старик Мюллер.
Да, а как господин пастор?
«Не убий», – взывает пастор с кафедры, обращаясь к верующим, что, впрочем, не метает ему быть членом военного ферейна. Порой, пропустив две-три рюмочки «спиритуса», как он его называет, пастор с воодушевлением повествует о своих подвигах на поле брани в качестве полкового священника.
– Бывает, что человеку везет, – говорит он и рассказывает о возчике из обоза, которого граната разорвала вместе с лошадьми у него на глазах. – А меня даже и не задело, – заканчивает он свой рассказ и присовокупляет: – Пути господни неисповедимы.
Умирающих он потчует напоследок земным вином, которое хранится в ризнице и которое разбавили конфирманты; он даже заталкивает им постную облатку между скрежещущими зубами. Тот же, кто в свой смертный час пренебрегает пастором, тот сам виноват, если над его гробом прозвучат всего лишь несколько злобных слов напутствия в вечность. Господин пастор тонко умеет отличать реальных покойников от нереальных.
А вот учитель – тот член социал-демократического ферейна и при каждом удобном случае призывает уничтожить военщину. В церкви он играет на органе. С детьми он молится поутру, когда они приходят, и в полдень, когда они уходят домой. Делает он это потому, что религия не дает оскудеть почтению перед властями. Религия – превосходное средство воспитания, надежная опора для учителя. На уроках физкультуры учитель командует: «Р-рав-няйсь», «Смирна-а» и «Правое плечо вперед – шаго-ом арш!»
Иногда учитель выводит мальчиков в лес, раздает им сосновые дубинки и обучает ружейным приемам. Лишь затем, чтобы на всякий случай они знали, как это вообще делается. Кроме того, школьный попечитель этому радуется и многозначительно приговаривает: «Да-да, так-так!» Учитель и вообще мастер на все руки. В большинстве ферейнов он отправляет должность секретаря-письмоводителя. Даже сам Шуцка Трубач, глава военного ферейна, приходит к нему и справляется, по форме ли составлена та или иная бумага. И учитель делает все, как нужно. Мало того что он сопровождает богослужение игрой на органе, он еще и дирижирует школьным хором на похоронах заслуженных людей. Он выводит свой хор на панихиду по императрице, он время от времени радует своим искусством членов отечественного женского ферейна. Обращаясь к домашнему учителю Маттисену, он обязан называть его «господин коллега», хотя на деле Маттисена коллегой не признает, как и вообще не признает частного обучения. Он же читает в церкви главы из Евангелия, когда пастор уходит в отпуск, и, наконец, он же руководит мужским певческим союзом либо смешанным хором, когда у его милости день рождения и надо пропеть перед замком какую-нибудь кантату. Да и как он мог бы уклониться от участия, когда даже Густав Пинк, председатель местного отделения у социал-демократов, по таким дням присоединяет свой голос к общему хору?
Но вот столяр Танниг считает все это дурацкими безделицами. Люди, на его взгляд, не умнеют. Суета мирская, вот оно что! Столяр Танниг – он святой последнего дня. Он ясно ощущает приближение конца света и соответственно к нему готовится. Во всей деревне у него есть только один враг, и этот враг пастор, потому что пастор неправильно толкует Евангелие и вводит в заблуждение бедных людей. Это Евангелие, а уж про Апокалипсис и говорить нечего.
– Видно, что мир все больше и больше идет навстречу своей погибели, все сплошь гробы и гробы, – говорит он и подкладывает под холодные негнущиеся спины покойников стружки либо сено, в зависимости от того, сколько заплатят родственники. Все едино: в пламени Страшного суда одинаково сгорят и стружки, и сено.
Фрау Пимпель, окружная повитуха, придерживается другого мнения.
– Куда деваться людям, если и дальше все так пойдет? Во всех углах – детский писк, куда ни приди – всюду дети. Под конец люди сожрут друг друга.
– Тогда нужна война, вот людей и поубавится.
Это мнение Генриха Флейтиста. У него четверо детей от четырех служанок, потому что играть-то ему приходится в разных местах.
И по-над всеми этими заблудшими душами парит господь бог в величии своем.
Уж как-нибудь они изловчатся, думает бог и вещает устами своего пророка: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Хотя, с другой стороны, тот же бог поручает тому же пророку изречь следующее: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Не только господину доброму, но и недоброму, или как оно там говорится. Ибо всякое начальство послано богом. Короче, бог придерживается весьма несходных точек зрения. В «Слове божьем», переплетенном некоторыми людьми в свиную кожу, чтобы сразу было видно, что они не собираются шить из этой кожи башмаки, все так черным по белому и написано. Чего вам еще надо? В первой части евреи буйствуют, убивают и закалывают друг друга, а с врагами и вообще черт знает что делают. Во второй же части не менее буйно воцаряется любовь, а щеки сами подставляются под оплеухи. Ну ясно, бог ни с кем не хочет ссориться. И это очень благоразумно с его стороны. Без человеческой веры ему не обойтись, как Лопе не обойтись утром без мучной болтушки.
Вот и Густаву Пинку, председателю местного отделения социал-демократического ферейна, тоже ох как нелегко приходится с богом. Бог дарует каждому человеку духовный харч. Как иначе он мог бы стать богом? По большим праздникам Густав Пинк ходит в церковь, потому что так принято. И никогда не позабудет в страстной четверг сходить к причастию, потому что и все местные, кроме овчара Мальтена, Матильды Кляйнерман и красного Блемски, так делают. Правда, конторщик Фердинанд иногда, замечтавшись, тоже пропускает службу. Густав Пинк такой человек, что лучше и желать нельзя, и вся деревня его уважает как председателя. Еще он хороший стрелок; когда в военном ферейне были стрелковые соревнования, он даже стал королем стрелков и получил в награду дубовый венок с черно-красной перевитью.
– Да-да, сразу видно, кто еще не разучился стрелять, – говорили члены ферейна, провозглашая здравицу в честь своего председателя.
Лакей Леопольд состоял в ферейне велосипедистов, пока о том не проведал его милость. С тех пор Леопольду только и разрешено, что играть с Густавом Пинком в карты, потому что против Пинка как такового у его милости возражений нет.
– И такая вот личность ежеутренне подает мне одеваться, – сказал милостивый господин управляющему Конраду, когда узнал, что его лакей Леопольд состоит в красном ферейне велосипедистов. – Вы только подумайте, Конрад: первый человек, который каждодневно желает мне доброго утра, – это красный велосипедист.
Тут Леопольд устыдился и вышел из ферейна.
Меньше других размышляет на подобные темы парикмахер Бульке. Он делает всё и для всех. Он стрижет, бреет, он музицирует, он отыскивает при помощи бинокля, который величает микроскопом, трихины в опаленных свиных тушах. Он разносит по домам почту, он обмывает покойников, а по воскресным и праздничным дням накачивает мехи в органе. Ему незачем вступать в какой бы то ни было ферейн, потому что он и без того играет у них на всех юбилеях и торжествах. Еще у него есть четыре моргена земли, две козы и одна свинья. При посредстве одной из коз, которая, собственно, не коза, а козел, он печется об увеличении поголовья «шахтерских коров» во всей округе. За каждое покрытие он берет семьдесят пять пфеннигов, «потому как овес для козла – его ведь тоже даром не дают». Кроме того, парикмахер Бульке утюжит и подгоняет мужские костюмы. А для конфирмантов, когда покрой не так уж и важен, он даже шьет новые. Он пользует садовой землей и нашатырем кроликов, когда тех раздует. А если это не помогает и кролики все равно дохнут, значит, просто болезнь слишком далеко зашла.
А жандарм Гумприх тем временем задерживает озорников и преступников и либо сажает их под замок в пожарный сарай, либо препровождает в городскую тюрьму. У него все определяется сводом законов – это во-первых, и долгом – это во-вторых. Такой уж он человек, этот жандарм Гумприх. Когда он не хочет, он может и не увидеть нищего. Хотя из этого не следует, что он его вообще не видел.
Про домашнего учителя Маттисена господин конторщик Фердинанд говорит, будто тот крайне консервативен. Но, может быть, он говорит так просто потому, что Маттисен гуляет в парке с фрейлейн Кримхильдой, чтобы объяснять ей свойства тех или иных цветов. Теперь учитель Маттисен не живет в городе при господских сыновьях. Мало-помалу те привыкли обходиться без него. Вместо этого Маттисену по поручению его милости приходится сочинять трактат о роли помещиков в культурной жизни сельских округов. Душа у домашнего учителя Маттисена – словно белая промокашка. Но когда милостивый господин при виде темной розы утверждает, будто роза зеленовата на вид, Маттисен считает вполне допустимым, что роза и впрямь может показаться зеленой.
Остаются еще прочие, как, например, трактирщик Тюдель, мясник Францке, кукольник Гримка, – словом, их немало. Все они не борцы и не мученики, а вот живут же. Они словно вши земные, они отыскивают местечко, куда можно присосаться и где их не тронут. И еще остается великое множество женщин. Мать, например. Блемска сказал Лопе, что мать у него почти анархистка. Что было отвечать на такие слова? И кто тогда Стина, горничная из замка? После того как зажила рана, нанесенная саблей, некоторое время у Стины все было вполне благополучно. Потом она вдруг опять разболелась и опять пошла к Мальтену, чтоб тот ее вылечил. На сей раз у Стины оказалась опухоль в животе. Так, во всяком случае, сказала фрау Венскат, когда они прореживали брюкву. А овчар Мальтен как раз занимался чтением и не испытывал ни малейшего желания кого бы то ни было исцелять. Овчар Мальтен может распознать любую болезнь, для этого ему достаточно даже беглого взгляда.
– Ступай к врачу! – крикнул Мальтен из своего спального закутка. – И пусть старый ротмистр раскошеливается.
Стина рыдала и зажимала живот обеими руками. Но Мальтен остался неумолим, как давеча, когда Вильгельма Вемпеля укусила гадюка.
Неужели Стина умрет? Похоже на то, потому что тело у нее вскоре начало раздуваться все больше и больше. Копая картошку, женщины толковали о том, что это у нее ребенок, а вовсе никакая не болезнь. Так и оказалось. Стина родила его однажды вечером у своей подружки Греты Пинк, потому что не могла заявиться к себе домой, в соседнюю деревню, с животом. А Густав Пинк ничего не имел против того, чтобы Стина произвела на свет ребенка именно в его доме.
– Это общественная потребность, – сказал он на очередном собрании ферейна, – и мы должны соединенными усилиями выступить против косности известных кругов.
Но соединенными усилиями они так и не выступили, а Стина не могла же убирать барские покои с ребенком на руках. Вдобавок милостивая госпожа недолюбливала маленьких детей. Она и своих-то детей не кормила грудью, а передала их на попечение кормилицы-сорбки. Так Стина и осталась жить у Густава Пинка, тот не возражал и даже выделил ей у себя комнатку. Стина больше не работала, а с голоду все-таки не померла. Об этом позаботился Густав Пинк, тут уж ничего не скажешь.
– Кто получал удовольствие, тот и расплачиваться должен, – сказал он и начал присматривать за Стиной строго, как за собственной дочерью. И, стало быть, у Густава Пинка проживала теперь маленькая дочь его милости. Впрочем, его милость это обстоятельство не смущало. Более того, когда Стина, уложив девочку в новую коляску, подъехала к замковой кухне, чтобы повидать своих подружек, кухонных девушек, милостивый господин велел управляющему согнать ее со двора. Тут Стина расплакалась и погрозила кулачком в сторону замка. А больше ровным счетом ничего не произошло.
– Ты и сам когда-нибудь поймешь, – наставлял Лопе Блемска, – все вертится вокруг классовых различий.
Но Лопе, со своей стороны, установил, что в деревне вообще все идет кувырком. Никаких там классов. Просто сплошная неразбериха, а он, Лопе, страдает оттого, что уродился такой глупый. Наверно, ему надо еще читать и читать. И он читает, ходит за волами, вяжет веники и читает все, что ни попадется под руки. Но и в книжках такая же неразбериха. Лопе думает, что заболел. Надо бы сходить к овчару Мальтену и посоветоваться.
Несколько дней он раздумывает, потому что не знает, как к нему теперь относится овчар, но потом воскресным днем он все-таки выполняет свое намерение. Овчар раскатисто смеется, и в его смехе словно ударяются друг о друга твердые сосульки.
– О-хо-хо-хохонюшки, клянусь дерьмочешуйчатым драконом! Это рабочие – сила? Ха-ха-ха! Видать, тебе задурил голову какой-нибудь тип, который и штаны-то надевает в белых перчатках. Рабочие… ха-ха-ха!.. Самая глупая тварь в этом лживом мире… дерьмовый народец… клянусь колючим кактусом… ты вот скажи мне… это похоже… ну… представь себе: человек сидит в луже и шлепает ладонями по грязи, другой хочет пройти мимо, но его тоже затягивают в лужу. Пролетарии бегут друг за дружкой все равно как куры, когда одной из них удается схватить дождевого червя. И не лезь ко мне с этими пачкунами! Богач стоит за углом и скалится во весь рот… хе-хе-хе… вот дайте срок, пока все эти социал-демократы, анархисты, синдикалисты, и христианские социалисты, и все эти благочестивые секты… ха-ха-ха… организованная в секты глупость… пока все они сдуру не схватятся на кулачки. Богач – тот стоит за углом, держит наготове открытый мешок, пока все они, дружка за дружкой, дружка за дружкой, сослепу не вскочат в этот мешок, золотозадый всех их посадит в мешок и пройдется сверху своей дубиной. Вот и все, и кончен бал.
– А Блемска говорит, что социалисты победят, – возражает Лопе робко, злясь на себя самого за то, что пошел к Мальтену. – Пройдет тысяча лет… тогда… и никто не сумеет понять… будут просто смеяться над нами… почему мы так жили… почему одни все время работали, а другие все время бездельничали… как мы теперь смеемся над рабами, которые позволяли заковывать себя в цепи, словно собак приковывают к будке, ведь смеемся же? Как же так? Все так закручено, от этого можно с ума сойти. Я, верно, ненормальный. Ну, что можно против этого сделать?
Мальтен садится в свое березовое кресло:
– Клянусь жестяным нимбом Непомуков! Я ведь тебе рассказывал однажды… Ты, верно, уже все позабыл? Про Агятобара и про Чагоба говорил я тебе… И как он поступил, этот Агятобар… просто ты был тогда слишком мал… но ведь ты можешь прочитать это задом наперед… Имена-то они все… ха-ха-ха! Ловко я тебя поддел тогда. Я ведь… я ведь, признаться, сам это все придумал. Видишь, каналья ты красная, как оно все получается…
Лопе раскладывает слова по буквам:
– Агятобар – р-а-б-о-т-я-г-а… Могурк – к-р-у-г-о-м, ой, как смешно, ты все перевернул задом наперед.
– Вывернул, вывернул, клянусь нубийской полосатой зеброй. Теперь ты видишь, как он должен поступать, этот пролетарий. А он так не поступает… Пролетарии – словно мешок с мухами, их всех вытряхнули в солнечный день на лужок, они разлетаются, они лижутся, нюхаются… и уж тут… черт их пусть теперь ловит.
– Долго ему придется ловить, – говорит умиротворенный Лопе и хлещет прутиком по запыленным мешочкам с травяным чаем, что подвешены к потолочным балкам. От мешочков поднимается пыль.
– А почему они все такие глупые, эти пролетарии? Ха-ха-ха! Они словно куры – хотят отлить водичку, а не могут. А богачи разевают… да, разевают золотозубый рот и всегда ведут себя так, будто все права – у них. «Желаете равноправия?» – спрашивают они у рабочих. «Желаем!» – ревут рабочие в ответ. «А кто вам не дает стать такими же богатыми, как мы? – спрашивают богатые. – Почему вы заводите столько детей, что они даже мебель у вас сгрызают? И еще нельзя вечно думать о жратве, как думаете вы», – говорят богачи, а в Америке у них есть Рокфеллер, так этот самый Рокфеллер, говорят они, чуть не помер с голоду, такой он был бережливый… «Вот, пожалуйста, как бывает, если человек хочет чего-нибудь добиться». А работяги переглядываются и думают: «Ведь они дело говорят, богачи-то». А богачи ведут свою речь дальше: «Пожалуйста, можете по любой лестнице вскарабкаться к нам наверх, все лестницы свободны. Вы же сами друг друга срываете с перекладин! Развитие-то идет не книзу, а кверху. Как же мы можем спуститься к вам? Того вы от нас и требовать не вправе. Это было бы – хе-хе-хе – просто грешно. Разве вы еще в школе не учили, что все развивается кверху, к богу и к престолу его?» – спрашивают богачи.
Нет, и у Мальтена не было средства от той болезни, которой заболел Лопе, – ни целебного отвара, ни мази. Кстати, откуда ему и знать, Мальтену-то, что творится в мире? Он ведь почти не общается с людьми в деревне. Он смотрит своими большими серыми глазами со своего верескового холма сверху вниз. Смотрит и смеется. Раз в году, на Михайлов день, когда стригут овец, Мальтен ходит в город и возвращается оттуда с мешком. Мешок этот набит книгами. Мальтен по дешевке покупает их у старьевщика с длинным тонким носом, у того, что торгует на Тэпфергассе. Мальтен сидит на своих книгах, будто наседка на яйцах. Некоторые из них уже покрылись плесенью.
Год в своем течении обходится и без Лопе.
Году плевать, как кто себя чувствует. В марте он заставляет распускаться пушистые сережки вербы, а кур – кудахтать на солнцепеке за амбарами. Запах молодых побегов мешается с протяжными криками петухов. Первые жирные мухи, примостившись на освещенной солнцем стене дома, чистят задними ножками свои блестящие крылья. Первые зайчата резвятся на пашне, а птицы, того и гляди, захлебнутся собственным голосом.
Подходит день Трудиной конфирмации. С утра пораньше отец направляется к парикмахеру и возвращается оттуда, качаясь и распевая. В таком виде ему нельзя явиться к трапезе господней. Правда, милосердный господь может ничего и не заметить, но вот милостивый господин наверняка прикажет вывести Липе из церкви. Труда начинает реветь:
– Буду одна торчать в церкви, как сморчок в мае… Вечно ему надо пить. У меня даже и платье теперь есть… Почему вы не привели его от парикмахера?
– Чиста-ата и па-арядок. – Отец подходит к Труде и хочет поправить черный бант у нее в волосах.
Труда отталкивает его.
– Не притрагивайся к моему платью.
Толчок придает отцу ускорение. Качнувшись раз и другой, он, наконец, приземляется на полу среди кухни. Какое-то мгновение он лежит, вытянувшись во весь рост и беспомощно размахивая руками. Потом он садится. Элизабет смеется и прячется за материнскую спину.
– Ка-ак? – бормочет отец. – Ка-ак? Вы хотите меня… – При этом он вращает глазами, будто лягушка, подстерегающая муху.
Мать хватает его за плечи и рывком поднимает на ноги.
– У тебя что, совсем стыда не осталось, старый ты пьянчужка?
– Ка-ак? Вы хотите своего достоп-па… достоп-пачтен-ного отца…
– Заткнись! Ступай в спальню! – И мать толкает и волочит его к дверям, словно набитый зерном мешок.
– Ка-ак? Когда ты прик… прикарманила бумажник сына его милости…
– Заткнись, не то, видит бог, ты у меня схлопочешь хорошую затрещину! Стыд и срам! Набрался в такой день, когда у родной дочери конфирмация.
Отец только булькает в ответ. Потом в спальне все стихает. Мать возвращается на кухню. Она плачет. Немного помолчав, она ласково говорит Лопе:
– Иди ты в церковь, чтобы хоть кто-нибудь был с Трудой.
Итак, Лопе уходит в церковь вместо отца. Он не поднимается вместе с Клаусом Тюделем и другими ребятами на хоры. У него нет охоты резаться в карты. Он разглядывает людей, собравшихся в церкви. Труда сидит, неестественно выпрямившись. Бант у нее – словно бабочка на спелой ржи. Один раз отец остриг Труду наголо. Вот был бы вид сейчас, в день конфирмации. Шелковое платье, а сверху – словно вилок капусты.
Трудино платье перешито из шелкового платья милостивой госпожи. Ее милость была в этом платье на торжественном бракосочетании в замке Ладенберг. И на этом злополучном празднике она узнала, что ее муж и одна певица…
У нее были рыжие волосы, у этой особы, и совершенно неописуемый бюст. Нет, ее милость не желает больше носить это платье, нет и нет. Ей не нужно напоминаний. Паула, новая горничная, с первой оттепелью передала черное шелковое платье Кляйнерманам.
– Вот, от ее милости для Труды на конфирмацию, – сказала Паула при вручении.
Мать была до некоторой степени оскорблена. И в ее ответе скрывалась не одна шпилька:
– Она, упаси бог, не самое лучшее отдала?
– Ну что вы, фрау Кляйнерман, как можно? – отвечала простодушная Паула.
Фрида Венскат перешила платье по своему разумению. Она отрезала кусок снизу, потом вытащила костяные планки из воротничка, следом отрезала и самый воротничок, подрубила край среза и стянула его на манер кисета.
Сверху платье было слишком широко для Труды. Фрида и тут не растерялась. Она срезала еще одну полосу от подола, получился пояс. Но для конфирмантки платье по-прежнему было слишком длинно. Труду словно засунули в черный мешок. Пояс разделил этот мешок пополам. У Труды в этом платье грудь получилась пышная и необъятная, как у покойной лавочницы Крампе. На Труду нельзя долго смотреть без смеха, так думает Лопе. Вот когда смотришь на Марию Шнайдер, в той ничего смешного нет. Не хватает только белого фартучка, и тогда она будет выглядеть, как выглядела горничная Стина, когда в замке бывали гости. Звучит орган, резкие посвисты дудок переложены плотной ватой басов. Пастор мерным шагом выплывает из ризницы. Вот когда пастор проводит урок для конфирмантов, он носится между скамьями как ураган, Карлина Вемпель принимается утирать рукавом лицо. На дворе, должно быть, сияет солнце. Во всяком случае, ноги Спасителя в окне за алтарем светятся бледно-желтым цветом. А вокруг четырехдюймового гвоздя пробивается розовый свет, розовый, как заря на троицу. Милостивый господин нервически барабанит длинными, как паучьи ножки, пальцами по барьеру. Милостивая госпожа с неудовольствием разглядывает Труду.
– «Блаженны званные к столу господню», – раскатисто возглашает пастор.
Может, Лопе все-таки следовало подняться к остальным на хоры? Конфирмация – дело долгое. В церкви время застаивается, как дождевая вода в бочке. Все точно так же, как в тот раз, когда конфирмовался сам Лопе. Во время святого причастия Лопе заменяет сестре отсутствующих родителей. И снова Лопе хочет проследить, изменится в нем что-нибудь после того, как он проглотит остию и отхлебнет вина. Труда возбужденно тянется к облатке и от волнения промахивается. Она стоит на коленях, и облатка падает ей в подол. Труда поспешно хватает ее обеими руками и самолично сует в рот. Правда, на уроках для конфирмантов им внушили, что тело Спасителя, коснувшись земли, теряет благодать, но ведь тело Труды – это не земля. А впрочем, кто его знает, может быть, платье ее милости полно скверны.
Краска стыда приливает изнутри к щекам Труды. У Лопе облатка так прилипла к нёбу, что ее даже вином не удается отлепить.
Таким образом, в желудке у Лопе сперва оказывается кровь Христова и только потом туда же попадает тело. В животе у Лопе бурчит. «Авось это не принесет мне вреда», – думает он. Сегодня Лопе может всласть наблюдать за собой и за другими людьми, но ни в ком ничего не меняется. Мария Шнайдер вместе с матерью возвращается от алтаря к своей скамье. Лопе вопросительно взглядывает на нее. Мария опускает глаза. А раньше она могла смотреть на него до тех пор, пока он сам не отведет взгляда.
Не сказать, чтобы Кляйнерманы устроили пышное празднество. К обеду подают мясо с овощными клецками. После обеда заявляются Трудины крестные – жена лейб-кучера Венската, жена смотрителя Бремме и фрау Блемска. Фрау Блемска очень бледная, и черный платок висит на ней, как на шесте. Она ходит с палочкой. Все едят пряники из ржаной муки и говорят, не умолкая. Лицо у матери желтое, только за ушами, когда она снимет платок, видна белая кожа, белая, как у покойника. Ей теперь часто приходится отдыхать во время работы. Она садится, скорчившись, и прижимает руку к животу. Потом она снова берется за работу, но кажется усталой и зевает.
Неделю спустя в замке тоже справляют праздник. Господские сыновья окончили гимназию.
– То есть как это, оба сразу?
– Да, оба сразу.
– А разве господин Ариберт не старше на один год господина Дитера?
– Господин Ариберт, он всегда был очень болезненный мальчик, это всему свету известно, – отвечает лакей Леопольд. – Просто чудо, что он не помер в младенчестве. Да еще гимназия.
Уже с утра общество собралось перед беседкой в парке. Господское семейство и прибывшие издалека гости. Домашнему учителю Маттисену оказана высокая честь – ему дозволено зачитать отрывки из своего труда «Культурная роль помещичьего сословии в жизни сельских округов». Раздаются робкие аплодисменты. Некоторые гости хлопать не хлопают, а говорят: «Браво». Маттисен раскланивается. Руки милостивой фрейлейн беззвучно ударяются друг о друга, словно белые кружевные платочки. По сути дела, сегодня бы должен быть ее праздник. И ради нее съехались гости из города и из соседних имений. И в доме все было приготовлено для ее помолвки. Перед портретом ее будущего жениха стоит на тумбочке букет самых темных роз, срезанных собственной рукой фрейлейн.
«Незнакомец, овеянный ароматом чужбины, – так называет его фрейлейн в своих письмах, – стряхнул с себя чары Балкан…» «Я ворочусь в свое потрясенное отечество, чтобы посвятить себя выполнению задач, налагаемых на меня моим происхождением…» – писал он в последнем письме. Он-де перебесился и вошел в разум. Вот уже два дня в замке нетерпеливо ждут, когда же наконец появится «балканский гуляка». Так игриво прозвал его милостивый господин. Но гуляка не объявился даже утром того дня, на который была назначена помолвка. Просто счастье, что под рукой оказались Дитер и Ариберт.