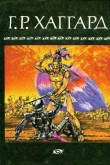Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Ей хорошо лежать, думает он через некоторое время, ей больше не на что жаловаться, незачем причитать. После таких мыслей к Блемске возвращается хорошее настроение, и он снова заводит свою песню.
– «Земля цветет для всех людей, да-да, для всех, для всех…» – гудит он.
На плите шипит в горшке обед. Он снимает крышку с горшка и смотрит, сварилась ли картошка.
Проходит несколько зимних недель, к Блемске начинают стекаться люди из окрестных деревень. Они приносят с собой тупые ножи и ножницы. Под конец заявляется и жандарм Гумприх. Черт его знает, откуда он все проведал. Жандарм Гумприх спрашивает, есть ли у Блемски ремесленный патент.
– Патент? – переспрашивает Блемска. – Да я ведь потому только и точу ножи, что меня выперли с шахты.
– Все равно почему, главное, что точите и получаете за это деньги, а раз получаете, нужен патент. Вы должны зарегистрироваться как ремесленник.
– Так я ж не настоящий ремесленник, я просто так, от нечего делать.
– А деньги все равно берете.
Гумприх начинает сердиться. Он без приглашения садится и достает из ножен свой штык.
– Вот наточите-ка мне эту штучку, тогда посмотрим, что у вас получится, и сообразим, как быть с патентом.
Блемска берет штык, некоторое время молча рассматривает его, поворачивает то так, то эдак, чтобы солнце упало на грани, а потом хмуро говорит:
– Нет и нет, не стану же я резать собственное тело.
Жандарм вскакивает с места:
– Вы что этим хотите сказать?
– То, что сказал.
Гумприх застывает будто свеча.
– Ну, раз так, извольте приобрести патент, как я уже сказал, а до тех пор, чтоб ничего не точить. Я только тогда позволю вам взять в руки нож, когда у вас будет патент, ясно?
– Голова-то у меня не деревянная, ясно? – передразнивает Блемска.
Гумприх яростно топает к дверям.
Обновление добирается и до деревни. Сперва оно сочится, как талая вода сквозь швы башмаков. Ладенбергские парни в куртках прочно здесь обосновались.
«Опорный пункт НСДАП» – написано корявыми буквами на доме, в котором живет Шульце Попрыгун. А сам Шульце стал главным на этом пункте. Трое запутавшихся в долгах крестьян, Генрих Флейтист, Липе Кляйнерман, два безработных шахтера и Альберт Шнайдер, поддавшись на уговоры управляющего Конрада, вступили в эту партию. Управляющий Конрад прямо днюет и ночует в квартире, которую снимает Шульце Попрыгун. Он дает Шульце указания. Управляющий хочет подготовить себе достойного преемника к тому времени, когда сам он покинет имение господина фон Рендсбурга и начнет хозяйничать в арендованном имении. Несколько раз в неделю перед домом Шульце Попрыгунчика останавливается машина Хоенберга, крупного коммерсанта из города. Почти каждую неделю опорный пункт проводит собрания в трактире у Вильма Тюделя. Обоих безработных шахтеров снова приняли на шахту. Зато, соответственно, выгнали двух сдельщиков.
– Если ты еще раз позволишь им собираться у тебя, мы к тебе больше ни ногой, – говорит Густав Пинк Тюделю.
– У меня для всех хватит места, – примирительно говорит Вильм Тюдель и наливает Пинку рюмочку. – Выпей, я угощаю. А вам не к чему проводить свои собрания именно в тот день, когда здесь собираются ладенбержцы.
Густав Пинк опрокидывает рюмочку.
– Ничего не попишешь: либо пусть убираются, либо ноги нашей здесь больше не будет.
Вильм Тюдель снова наполняет рюмку.
– Ничего ты не понимаешь, Густав, а вот посидел бы в моей шкуре… Я только и знаю, что платить налоги. Вот и вертись как хочешь. Они меня с потрохами съедят!
Густав Пинк опрокидывает вторую рюмку.
– Можешь говорить что угодно, но на прошлом собрании мы так единогласно решили.
– Не могу я, никак не могу, – причитает Тюдель, да я же разорюсь, времена-то какие пришли!
Он хочет налить Густаву еще рюмку, но тот отказывается.
– На нет и суда нет. До сих пор у нас были хорошие отношения, но коль скоро это твое последнее слово…
Густав Пинк величественно разворачивается и уходит.
«Блямс!» – дверь захлопнулась. Вильм Тюдель вцепился рукой в пивной кран. Он стоит, думает, моргает, но дает Пинку уйти, так и не окликнув его.
Отныне местное отделение социал-демократического ферейна и местная группа ферейна рабочих велосипедистов и мотоциклистов проводят свои собрания в классном помещении, тогда как певческий ферейн, кегельклуб и клуб курильщиков сохраняют верность трактиру Тюделя. А новые окончательно воцаряются у Вильма Тюделя. Несколько недель подряд социал-демократы заказывают свой ящик пива у Кнорпеля, с доставкой в школу. Но безработица ширится, словно заразная болезнь. Кучка, собирающаяся в школе, усыхает день ото дня. Густав Пинк оплачивает пиво из кассы отделения, но надолго и кассы не хватает.
При всем желании нельзя воспрепятствовать тому, чтобы члены местного отделения или «Союза велосипедистов» время от времени встречались у Тюделя с теми, с обновителями. Ведь многие из них одновременно и члены певческого ферейна, либо кегельклуба, либо клуба курильщиков. Пропаганда типов в куртках мало-помалу просачивается в любопытствующие уши безработных. Безработные ждут не дождутся обновления. Их руки, с которых уже давно сошли мозоли, ждут не дождутся работы. Густав Пинк говорит:
– Мы должны бороться, не то плохо нам будет, вот увидите.
Но безработные отвечают:
– Хуже, что ли, станет? Хуже уж некуда.
Ни слова в объяснение. Но Густав Пинк привозит из города новые значки. На каждом значке – три сверкающие стрелы. Все вместе похоже на трезубец старого бога Нептуна, какой можно увидеть на картинках, изображающих крещение моряков, которые впервые пересекают экватор. Но типы в куртках на это говорят:
– Ишь ты, приходят студенты с навозными вилами и собираются спасать Германию. Германия, проснись!
И все деревенские, которые не разбираются в политике, вслед за ними обзывают членов социал-демократического ферейна «студентами с навозными вилами». Густав привозит из города новую форму приветствия для социал-демократов, но и это не помогает. А форма такова: они должны выбрасывать вперед сжатую в кулак руку и при этом кричать: «Свобода!»
– Это мы просто обезьянничаем с парней в куртках, те тоже показывают ладонью, как высоко стоит вода, и при этом орут: «Хайль!» Нам оно ни к чему, – говорят социал-демократы.
А потом настает день, когда самому Густаву Пинку на шахте выдают бумаги. До сих пор они его держали, потому что он был отличный сдельщик. Получив бумаги, Пинк падает духом и говорит:
– Любопытно бы узнать, как это Гинденбург станет вытаскивать нас из дерьма.
Блемска наносит визит Густаву Пинку.
– Ну, теперь мы с тобой коллеги, по одной специальности.
Густав Пинк выдавливает из себя кислую улыбку.
– Я слышал, ты заделался точильщиком. Могу тебе дать старухины ножницы.
– Нет, я не за тем пришел, – отвечает Блемска, и на его морщинистом лице мелькает улыбочка. – А кроме того, я еще не получил патент. Не могу я теперь ничего принимать, зеленый мундир с меня глаз не сводит.
– Значит, ты хочешь стать предпринимателем? А я-то думал, ты из левых. Мы и то всегда были для тебя недостаточно левые.
– Не цепляйся, Густав, не цепляйся. Лучше бы вам не отменять ваши собрания у Тюделя. Ладенбержцы небось чувствуют себя там теперь полновластными хозяевами.
– Вот пусть Тюдель и полюбуется, что он натворил.
– Думаете, он будет огорчен? Вам надо было вышвырнуть их оттуда. Еще не поздно. Может, попробуем сообща? Вы должны наконец понять, что сейчас не время грызться, как барсукам. Или ты до сих пор остаешься все тот же десятник Густав Пинк, хоть они и выдали тебе бумаги?
Густав Пинк, неприятно задетый, мотает головой. Он поигрывает ножницами и рисует человечков на кухонном столе:
– Ты, никак, хочешь к нам вступить?
И снова по лицу Блемски солнечным лучиком пробегает улыбка.
– Я ведь и без того состою в партии…
– Состою, состою… вопрос, в какой ты партии состоишь…
– Вам и впрямь надо, чтобы вода уже заливала рот… Гляди, скоро будет поздно.
– Но ведь ты не можешь прийти к нам на собрание и держать свои речи, если ты у нас не числишься.
– Пинк, господи, да не будь же ты таким упрямым ослом. Сейчас речь идет обо всем классе.
– Нам все равно надо выметаться из школы. Учитель больше не хочет быть заодно с нами. И от советника по делам школ пришел циркуляр… Еще ничего не известно, может, мы опять перейдем к Тюделю. Но тебе все равно нельзя быть с нами ни с того ни с сего. Это противоречит букве устава.
– Тогда можешь сесть на свой устав и дожидаться перемен, которых наобещали тебе парни в куртках. Когда гусь откормлен, ему пора в ощип.
– Вот видишь, ты опять заводишь смуту. С вами не сговоришь!..
Блемска молчит. Только мускулы у него на щеках подергиваются. Он берет шапку и уходит.
Зима все глубже въедается в землю. Ветер гонит перед собой зернистый снег. Завывает по ночам в печных трубах. Люди тесней прижимаются друг к другу, независимо от того, любят они друг друга или нет. Милостивый господин ухитряется собрать оброк даже с зимы. Он продает лед для городских пивоварен. На пруду за лесничеством работницы режут ледяные глыбы. Они рады, если во время работы можно укрыться за стеной из камыша, куда не задувает пронзительный ветер. Желторотик весь день не гасит огонь в камине охотничьего домика. Он ничего не имеет против, если женщины время от времени забегают к нему в переднюю погреть руки перед огнем. Иногда уже после конца рабочего дня какая-нибудь из женщин заглядывает к лесничему, чтобы еще раз согреться. В усадьбу с прудов женщины приходят уже затемно.
А мать работает в амбаре, перелопачивает посевные семена.
– За ней нужен глаз да глаз, – говорит о матери смотритель Бремме. – Если на нее найдет, с нее станется в один прекрасный день подпалить нас со всех четырех концов.
Липе и Бремме сейчас не в лучших отношениях. Смотритель однажды застукал Липе, когда тот с мешком овса крался в сумерках через двор.
– А ну, поставь его, – сказал смотритель и выступил из амбара на свет.
Липе так испугался, что у него даже мешок соскользнул с плеч.
– Вы что, наперегонки со своей старухой подворовываете? – проскрипел Бремме голосом часовой пружины.
– Приглядывал бы ты лучше за своими загребущими лапами, – ответил Липе и потащил мешок обратно.
Смотритель шел следом.
– А теперь высыпь все, откуда взял. Меня тебе уличать не в чем, старый пьянчуга! Ключи от амбаров, к твоему сведению, хранятся у управляющего.
Тем дело и кончилось. Но с тех пор где бы эти двое ни встретились, они тотчас затевали свару.
– Ты, видать, долго работал живодером? – ворчал тогда Липе.
– А ты, видать, и сам метишь в живодеры? – парировал Бремме.
Дня примерно за три до рождества Труда заявилась домой с прудов и принесла несколько веточек туи. Она стряхнула снег с башмаков, а ветки отнесла в спальню. Мать искоса глянула в дверную щель. Труда снова вышла на кухню, и у нее был какой-то потерянный взгляд.
– Ты зачем принесла тую? – спрашивает мать, подкладывая в огонь еловые шишки.
– Тую? – переспрашивает Труда оскорбленным тоном.
– Ну да, ты вроде бы отнесла ее в спальню.
– Ну и что? От нее знаешь какой запах? Это хорошо для белья.
– Сейчас я тебе покажу и белье, и запах!
Мать замахивается. Труда хочет закрыть лицо руками. Слишком поздно. Грубые ладони матери смачно шлепают по Трудиным щекам. Труда вскрикивает. Мать хватает ее за плечи, трясет, замахивается и снова ударяет.
– Вот уже до чего ты дошла! Вот до чего! Вы только полюбуйтесь на нее! Какую шлюху я вырастила! От горшка два вершка, а уже нагуляла… Говори, сука, от кого это у тебя? Я тебя прикончу, да и его заодно!
Труда бросается на пол. Мать снимает с ноги деревянный башмак и начинает молотить лежащую. Лопе дрожит всем телом. Он больше не может смотреть на это спокойно. Он вклинивается между матерью и Трудой. Деревянный башмак матери гулко бьет его по голове. От боли Лопе свирепеет и кидается на мать, словно бельчонок. Мать пытается отбросить его.
– Я просто ходила за хворостом для Фриды Венскат, – причитает Труда.
– Тогда, значит, это у тебя от сухопарого жеребца из замка?
Мать хватает Лопе за голову и отталкивает его. Лопе тяжело падает на каменный пол. Мать, занеся руку, склоняется над Трудой.
– Поклянись, что у тебя ничего нет!
– Кля… клянусь… я просто… я просто хотела…
– Поклянись, что у тебя ничего нет… – повторяет мать.
– Я только… я только… кля… кля… клянусь!
Взвизгивает дверь: в дверных петлях крепко засел мороз. На пороге появляется отец, и лицо у него растерянное. Сопровождающий отца лейб-кучер Венскат отталкивает его в сторону.
– Вы спятили все, что ли? – рявкает Венскат.
Элизабет с громким ревом бросается к отцу и прячет голову под его синим кучерским фартуком. Венскат хватает мать за руки и рывком притягивает ее к себе. Труда снова начинает причитать:
– Есть у меня… есть… я брошусь в пруд…
Мать вырывается из рук у Венската и запускает в Труду деревянным башмаком. Башмак ударяется о стену и разбивает стекло в посудном шкафу:
– Обманула меня, стерва… обманула!
Голос матери хрипнет, лицо синеет, на губах выступает пена. Мужчины переглядываются. Отец отталкивает Элизабет в сторону. Элизабет истошно орет. Мужчины бросаются на мать, и каждый хватает ее за руку. Мать дергается и трясет обоих, как тряпичных кукол. Да еще при этом скрежещет зубами.
– Вдвоем мы не справимся. Она еще наделает нам бед, – кряхтит Венскат. – Сбегай за подмогой, Лопе, сбегай.
Лопе мчится прочь, приводит господина конторщика и фрау Мюллер. Теперь они наваливаются на мать вчетвером. Труда по-прежнему лежит на полу.
– Что с тобой? – спрашивает фрау Мюллер.
– Я брошусь в пруд… я хочу в пруд!
– Заткнись, дурында! – прикрикивает на нее отец.
Мать хрипит. Фрау Мюллер расстегивает на ней парусиновую кофту. Через вырез вываливаются наружу толстые груди. Лейб-кучер Венскат стягивает кофту у нее с плеч и завязывает рукава за спиной. Кофта трещит по всем швам. Мать закатывает глаза. Она, того и гляди, упадет. Мужчины удерживают ее на ногах.
– Уложите ее в постель, – предлагает фрау Мюллер.
Господин конторщик смачивает платок и кладет его матери на лоб. Вода стекает на голые груди оцепеневшей женщины. Все четверо поднимают ее на руки, словно труп, и переносят в спальню.
Целый день мать проводит в постели, лежит и спит, лежит и спит. Несколько раз на дню к ним забегает фрау Венскат посмотреть на спящую.
– Дайте ей выспаться. Она просто не выдержала всего сразу. Вот и Труда туда же. Это ж надо… Такая молоденькая. Кто хоть ей это подстроил…
Лопе только молча кивает в ответ. Он готовится заступить в дневную смену. А Труда сегодня опять ушла на пруды.
Назавтра мать спит до полудня. «Уж не померла ли она?» – думает про себя Лопе и напрягает слух, чтобы услышать ее дыхание. За окном сияет полуденное солнце, бросая желтые пятна на клетчатый пододеяльник. Пляшут в плите язычки пламени. Лопе собирает обед для семьи.
– Где Труда? – тихим голосом спрашивает мать из спальни. Кажется, будто у нее стал теперь совсем другой, нежный голос.
Лопе идет в спальню.
– На прудах. Ты выспалась?
– Где Труда?
– Режет лед на прудах. Что с тобой, мама?
– Говори погромче. Что-то я плохо слышу.
Лопе подходит вплотную к материной кровати.
– Она на пруду, на пруду.
– Пусть идет домой… Нам нужно к Мальтену.
– А чего так спешить-то? Вот вернется вечером, тогда и пойдете.
Но мать уже снова спит. Лопе готовит еду. Укладывает рюкзачок – на смену.
Ближе к вечеру поднимается ветер. Бродит по дороге поземка. Круглое, как мяч, багровое солнце висит над горизонтом поверх снежной пелены. И снег медленно, по кусочку, заглатывает эту огненную тыкву. Наступает темнота. По дворам стучат деревянные башмаки, брякают ведра. Нетерпеливо ревет скотина. Под ногами начинает поскрипывать снег.
Часам к девяти вечера Матильда и Труда Кляйнерман возвращаются из овчарни. Слабый свет керосиновой лампочки квадратом падает на снег через верхнюю часть Мальтеновой двери. Матильда и Труда пересекают этот квадрат. В овчарне Мальтен громыхает жестяными кастрюлями. На желтоватом световом квадрате остается несколько капель крови, что обронила Труда. Мать оглядывается.
– Так нельзя, – бормочет она сквозь зубы. И обе возвращаются.
– Мы себя выдадим, – говорит она Мальтену.
Через некоторое время они уходят снова. Труда тихо хнычет.
– Нашла время скулить, – злобно шипит Матильда. – Иди давай, иди. Раньше надо было скулить.
Труда продолжает хныкать.
Они проходят еще несколько шагов и останавливаются. Матильда опять успокоилась.
– Ничего, скоро все пройдет. Болеть, конечно, болит… А теперь можешь мне сказать, кто это был…
Труда смотрит прямо перед собой. Они молча проходят еще часть пути.
– Я замерзла. Господи, до чего ж больно…
Матильда подхватывает девушку на руки. Труда начинает всхлипывать. Она прижимается головой к материнскому плечу и стонет:
– Раз уж тебе так хочется знать, это был Мертенс, лесничий Мертенс. Господи, до чего мне больно!..
Матильда снова опускает Труду на землю. Упирает руки в бока.
– О-он? – И в лице у Матильды что-то вздрагивает.
Труда молит:
– Только не бей больше, только не бей! Мне и без того больно.
– Т-с-с, не кричи так, мы все из-за тебя угодим в тюрьму.
Матильда снова подхватывает дочь на руки и, кряхтя, доносит ее до ворот усадьбы. Там она опускает Труду в снег.
– Теперь иди домой и выпей чай, который я поставила в духовку. Он невкусный, но выпить все равно надо. Выпей и ляг.
– А ты останешься здесь?
– Мне надо еще разок заглянуть в хлев.
– Ты пойдешь к Мертенсу?
– Пока не знаю. Только не говори отцу, где мы были… скажи лучше… постой-ка… скажи, что мы искали твою кирку, вот…
Труда никак не может уснуть. Ей очень больно. После материного чая во рту все стянуло. На лежанке храпит отец. Впрочем, он спал уже, когда она вернулась. Труда вдруг снова стала маленьким ребенком. Она ждет маму. Мама не приходит. Труда погружается в сон.
На кухне раздается стук. Труда испуганно вскакивает и прислушивается. Кто-то осторожно открывает дверь спальни. Это вернулся с работы Лопе. Труда тихо скулит.
– Что с тобой?
– Сходи поищи мать.
– Она тебя что, опять отлупила?
– Она, наверно, у Мертенса.
– Чего ей понадобилось среди ночи у Желторотика?
– А вдруг он ее застрелил?
– Да ты спятила!
– Ой, мне так больно, сходи за матерью…
Лопе на цыпочках выходит из спальни. Он снова откручивает огонек своей карбидной лампы и трогается к лесничеству. Снег взвизгивает под его деревянными башмаками. Серо-черные облачка заслоняют ухмыляющуюся физиономию месяца.
Желторотика Лопе обнаруживает возле скамьи перед камином. Все лицо у него в крови, правый глаз заплыл, на полу валяется вдребезги разбитая керосиновая лампа.
– Развяжи мне руки, – стонет Мертенс.
Тут только Лопе замечает, что руки у Мертенса связаны на спине ремнем. Это ремень от охотничьего ружья Мертенса. Само ружье лежит в другом углу. Приклад покрыт кровью. Рядом Лопе замечает деревянные башмаки матери.
– Она здесь была? – спрашивает Лопе. Он долго не может развязать ремень, стянувший локти Мертенса. Потому что у него дрожат руки.
– Прямо как дикий зверь! Чертова баба! – стонет Мертенс.
– А куда она ушла?
– По мне, так хоть ко всем чертям.
– В одних чулках…
– Попадись она мне только, я ее застрелю! – Мертенс на четвереньках подползает к своему ружью. – Оковку эта дрянь со злости всю оборвала… – стонет он.
Лопе уже за дверью. Следы разутых ног матери он находит без особого труда. А через некоторое время находит и самое мать. Выпрямившись как доска и стиснув кулаки, она лежит в прибрежном камыше. Лопе заговаривает с ней, но мать не шевелится. Он пытается ее поднять, но для него одного она слишком тяжела. Поскрипывающие от мороза стебли тростника задевают ее вздутое лицо. Она скрежещет зубами.
Лопе складывает руки для молитвы.
– Господи, благодарю тебя…
И пугается звуков собственного голоса. Шуршит на ветру камыш.
Лопе снова мчится к лесничеству.
– Господин лесничий, помогите мне. Мать…
Домик пуст. Тогда Лопе мчится в усадьбу. Будит отца. Стучит в окно к Венскатам. Барабанит в дверь к Фердинанду. Обнаруживает мясника Францке у фрау Мюллер…
Той же ночью мать в закрытом фургоне отвозят в городскую больницу.
– Я знал, что этим кончится, – говорит смотритель Бремме. – Ей давно пора в лечебницу.
– Ни черта ты не знал! – рявкает управляющий Конрад. – Будь моя воля… бумаги на руки – и на все четыре стороны… Этот Мертенс – такой же чертов реакционер, как старый хрыч в замке…
«Слава в вышнех богу» и «Покатилось зернышко» – распевают через сутки в крестьянских домах и в церкви.
Лопе проваливается в сои, как проваливаются в глубокий, глубокий снег. Труда и Элизабет прохныкали весь вечер. Отец вернулся домой в дымину пьяный. Как жить дальше?
Лопе тоже было бы любопытно узнать, как. Он улегся в материну постель. Не может он больше спать с Трудой. Сонный снег, словно шерстяной платок, спускается на его глаза.
А жизнь идет себе дальше. Чего стоят по сравнению с ней муки одного-единственного существа? Ведь жизнь обновляется бесконечно. То обновление, которым похвалялись парни в куртках, теперь окончательно заползло в деревню. Оно выползло из четырехугольного ящика, установленного куртками в трактире у Вильма Тюделя. Дребезжащий голос вещает из него о грандиозных манифестациях и факельных шествиях в Берлине.
Новое огненной змеей ползет-извивается через Бранденбургские ворота. Оно вгрызается в улицы и переулки столицы. Оно захлестывает дороги и пути большого города и по ним докатывается до маленьких городков между лесами и фабриками. Новое вгрызается в уши деревенских жителей, словно клещ-кровопийца, досасывается до мозгов, и трактир Вильма Тюделя теперь не пустеет ни днем, ни вечером.
Вильм Тюдель довольно ухмыляется за своей стойкой. Он оседлал ту корову, что надо. У Шульце Попрыгунчика теперь и времени нет ходить в шахту. Натянув коричневый мундир и длинные сапоги, он шастает по деревне. На витрине Кнорпелевой лавчонки – сделанная белилами надпись: «Иврей штоб ты здох».
Место председателя общины Пауль Фюрвелл вынужден уступить господину учителю. Почему именно учителю? Да потому, что учитель уже год, как состоит в партии курток.
Дни бегут. Альберт Шнайдер тоже почти все время щеголяет в коричневом костюме. Газеты то и дело помещают портрет человека, у которого падает на лоб клок волос. Потом деревенские приучатся узнавать этого человека и на других фотографиях, где он либо разговаривает с другими мужчинами в форме, либо улыбается. Курточники говорят по этому поводу: «наш Гитлер» и «наш фюрер», словно он у них какой-нибудь святой. А у мужчины маленькие усики, и он ничем не отличается от любого другого ремесленника из Ладенберга. Но именем этого человека свершаются великие дела и даже чудеса. Его именем свершается обновление. Новый почтальон вместо старого, и еще парикмахеру Бульке не разрешается больше проверять качество мяса. Молодых шахтеров берут на трудовую повинность, чтобы они там научились работать. Обновление выступает в тысяче разных обличий. Однажды парни из Ладенберга приезжают на машине и увозят с собой Блемску. Потом они запрещают социал-демократический ферейн, и рабочий ферейн велосипедистов тоже. Потом они приезжают за Густавом Пинком и тоже увозят его на машине. Орге Пинк плачет так сильно, что даже часовая цепочка подпрыгивает у него на жилете. А вот кукольник Гримка со своим барабаном стал нужным человеком. Обновители день и ночь бьют по городам в барабан. Теперь они начинают дубасить в телячью шкуру также и по деревням.
– Почему вы носите такие коричневые костюмы и сапоги? – спрашивает Лопе у Альберта. – Вы хотите делать войну?
Нет-нет, Альберт Шнайдер не собирается делать войну. Он собирается делать работу и хлеб. Адольф Гитлер сказал, что хочет мира, а Альберт Шнайдер хочет того, чего хочет Адольф Гитлер.
– Ты его хоть раз видел?
– Кого?
– Ну этого, как его, Гитлера?
– Моего фюрера?
– Ну да, его.
– Думаешь, его так просто взял и увидел?
– Но ведь он фюрер для всего народа. Или нет?
– Вот поступлю в СС, тогда и увижу.
– А что такое СС?
– У них черная форма, не коричневая, как у нас, а черная. И они хорошей расы.
– Как в племенной книге?
– Точно. Если ты хочешь поступить в СС, ты должен быть расово чистый. У тебя все как есть замерят, хватает ли длины.
– А если у тебя все длинное, значит, ты хорошей расы?
– Какой ты вздор несешь, уши вянут. Все равно как реакционер. Понимаешь, когда я буду в СС, мне позволят нести караул при лейб-штандарте, и я буду видеть фюрера каждый день.
– Тебя уже обмерили?
– Нет, но скоро обмерят. А ты даже и не надейся. У тебя ноги слишком короткие. К твоему сведению, голову тоже обмеряют.
– Но ведь никому не известно, что там внутри.
– Чего тут неизвестно? Если голова большая, значит, и внутри много.
– А у министра, который всегда говорит, будто пастор, у него-то ведь маленькая голова.
– Ты про рейхсминистра Геббельса?
– Про него.
– Ну это нельзя… нельзя так ясно разглядеть… на газетном снимке.
Погода повернула на весну. Земля делает все, как предписано. И не обращает никакого внимания на новое. Скачков не совершает. Рвется на части снежное одеяло. Просыпаются большие ветры и гуляют по равнине. Деревья гонят сок до кончиков ветвей. И скворцы вернулись. Они принимаются искать жирных прошлогодних червяков.
Закладные на дом и двор вдовы Шнайдер лежат вплотную, как черепицы на крыше. Торговец Кнорпель тоже не замечает уничтожения концернов и торговых домов. Кнорпель укладывает пожитки. Ему стало невмоготу. Каждый день – что-нибудь новое. Они разбивают у него стекла в витринах. Они рисуют шестиконечную звезду у него на дверях. Они отпугивают людей, которые хотят делать у него покупки, они кричат на них. Кнорпелю удается доказать, что его сморщенная, бережливая жена арийской крови. Он переводит магазин на ее имя. И все без толку. Они каждый раз придумывают что-нибудь новое. Наконец Кнорпель увязывает узлы и покидает деревню. А магазин достается оптовому торговцу Хоенбергу из города.
Они много говорят, много поют и много маршируют с музыкой и со знаменами. Переменить мир им не удается, но они всячески пекутся о том, чтобы люди в своих разговорах не уставали говорить о переменах.
– Блемску выпустили. Он еле ходит.
– Непонятно, как они это делают. Густав Пинк говорит, что и толковать не о чем. Они его допрашивали.
– Правды тебе никто не расскажет. Их, наверно, заставляют подписывать какую-нибудь бумагу, что они будут молчать. И от Блемски тоже слова не добьешься. «Каждый день – кормежка досыта и танцы до упаду», – сказал Блемска.
– Странно, а сам еле ходит.
– Теперь они забрали столяра Таннига…
– Таннига? А Танниг им чем не угодил?
– Он-то? Он, когда услышал у Тюделя музыку из ящика, возьми да и скажи: «Ну, сейчас начнется. Это фарфары… или как они называются – фарфары возвещают конец света!»
– И за это его забрали? – Значит, кто-то… кто-то должен обо всем доносить в Ладенберг!..
– А ты пораскинь мозгами. У Липе теперь такой же коричневый костюм. На свои деньги он бы его навряд ли справил.
– Точно. Управляющий, как уходил, отдал ему свои гамаши и башмаки.
– Липе, Липе… Они хотят назначить его смотрителем, ходят такие разговоры.
– Быть того не может. Ведь Липе… ну хотя, конечно, он сейчас пьет меньше… Говорят, он с Мюллершей путается…
– Ясное дело, без жены остался. Они ж ее так-таки упрятали в лечебницу, Матильду-то. Кстати, насчет смотрителя: новый управляющий застукал Бремме, когда тот спускался с засыпного чердака. Из того закрома, где держат сечку. И было при нем два полных мешка.
– А-а, так вот почему они хотят, чтобы Липе… Новый управляющий – он, поди, тоже из обновителей.
– Они так и не вернулись домой после Парижа или где они там были…
– Кто?
– Милостивая фрейлейн с бароном.
– Не вернулись, говоришь?
– Нет, прямиком покатили в Берлин. Он там заделался важной шишкой. Позавчера туда отправили мебель и все такое прочее для милостивой фрейлейн.
– Ты до сих пор называешь ее фрейлейн.
– Да вот… никак я не запомню… больно у барона длинное имя.
– А конторщика совсем не стало видно. Не пойму я его. Он вроде вообще не мужчина, а так…
– Да, на него зарилась Венскатова Фрида, но старый Венскат поднял шум. Он скупой как дьявол, и причуд у него день ото дня все больше. Милостивая госпожа теперь не позволяет ему катать себя по лесу.
– Ах, не позволяет, значит?
– Нет, говорят, она теперь боится с ним ездить. То ли между ними что было, то ли не было, между Венскатом и ее милостью.
– А он больше туда не ходит?
– Кто не ходит?
– Я про конторщика.
– Ах, он-то… она сама к нему таскалась, ты только представь себе. Говорят, теперь к нему ходит Ольга, новая горничная. Она прямо без ума от книг. Остальным приходится делать за нее работу, а она изображает из себя важную барыню. Она изволит читать.
– Да, она и впрямь малость чокнутая. Значит, она теперь и белье стирает для конторщика, раз Матильду увезли?
– Ну, такие сплетни меня не интересуют.
Новое подползает и к Лопе. Лопе взял с собой в шахту Блемскину книгу. С тех пор как всюду работают новые откатчики, надсмотрщики, воротовщики, от вагонетки до вагонетки проходит много времени. Лопе иногда разговаривает со старым смазчиком, но когда ночная смена, тот скоро задремывает, и у Лопе остается время для чтения. Он сидит в будке воротовщика на куче ветоши и читает, наморщив лоб. Воротовщик выстругивает рукоятку для лопаты. Вдруг дверь распахивается от удара, и входит новый обер-штейгер.
– Нехитрая у вас работенка, скажу я вам. Но ничего, скоро здесь все станет по-другому.
Воротовщик отставляет в сторону рукоятку и начинает возиться возле лебедочного барабана.
– Ну, а ты, малыш, интересное читаешь? – обращается обер-штейгер к Лопе. – Читать – это хорошее дело. А ну, покажи.
Лопе протягивает ему книгу, не вставая с места. Старательный воротовщик за спиной у обер-штейгера подает Лопе какой-то знак, но Лопе не понимает, зачем ему вставать. Делать-то все равно нечего.
– Фридрих Энгельс. Происхождение семьи… семьи, – читает обер-штейгер и тихо присвистывает сквозь зубы. Потом он бросает на Лопе пронзительный взгляд. – Откуда у тебя эта книга?
Лопе бледнеет. Он вдруг понимает, что сморозил большую глупость.
– Купил, – лжет Лопе.
– Недавно?
– Нет, давно уже.
– Так, та-ак, – тянет обер-штейгер, – а ты понимаешь, про что здесь написано?
– Не все.
– Ты мог бы… ты не мог бы дать ее мне почитать?
Лопе мнется.
– Мог бы, – выдыхает он наконец неверным голосом. – Только ненадолго. Я сам ее не дочитал.
– Скажем, до завтра?
– Да.
Утром после смены Лопе прямиком идет к Блемске.
– А ты сказал, что взял ее у меня?
– Нет, я сказал, что купил ее.
– Это ты хорошо сделал. – Блемска неподвижно смотрит на картинку, где изображена тайная вечеря. Немного помолчав, он добавляет: – Остальные я все зарыл. Потом я покажу тебе, куда. А знаешь, ты почти наверняка влип. Я хочу сказать: они тебя выпрут.