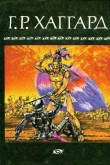Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Мать досадливо мотает головой. Лопе плачет, закрыв лицо руками.
– Если они упрячут тебя в тюрьму, что станет тогда с Элизабет и с Тру…
– А ну, цыц! – вскакивает с места сторож. – Разговаривать будете, когда жандарм вернется. – Потом вдруг, смягчившись, он добавляет: – Матильда, войди в мое положение, не запутывай ты меня, Христа ради.
– Не напусти от страха в штаны, на твой сторожевой рожок все равно никто не польстится.
Гумприх обернулся живым манером.
– Ну, фрау Кляйнерман, собирайтесь. Вам придется пойти со мной.
– Мне? Пойти? От трех-то детишек? У вас, видать, не все дома, господин жандарм.
– Об этом вам следовало подумать, когда вы брали чужой бумажник.
– А почем вы знаете, что взяла его именно я?
– Господин фон Рендсбург сказал, что мальчик никоим образом не мог этого сделать. Его милость хорошо знает мальчика, это слова господина фон Рендсбурга, в мальчике здоровое ядро, это слова господина фон Рендсбурга. Твое счастье, парень, не то пришлось бы нам с тобой кой-куда прокатиться.
Лопе опускает голову. Новые слезы капают на истертый каменный пол кухни.
– Так я и думал, – говорит Гумприх почти отеческим тоном. – Так я и думал, что это не ты.
Лопе ничего не отвечает. Мать по-прежнему настроена воинственно и не выходит из спальни, а ее взгляды, словно когти, впиваются в жандарма.
– Ну, пошевеливайтесь, фрау Кляйнерман, вы должны пойти со мной. Уж вам-то не отвертеться.
В дверь стучат. Ни Лопе, ни мать не осмеливаются выкрикнуть обычное: «Войдите!» – и эту миссию берет на себя жандарм. Блемска рывком распахивает дверь. Все глаза устремляются на него. По лицам девочек легким ветерком проскальзывает слабое подобие улыбки.
– Добрый день всем вам, – рокочет Блемскин бас в тесной кухоньке. – Чего это вы на меня уставились, как куры на ястреба?
Гумприх испытующе оглядывает Блемску с головы до ног.
– Эй, жандарм, вы, никак, думаете, я пришел с повинной?
– Ну, ну, без шуточек, – бормочет носитель зеленого мундира себе под нос. – Дело-то серьезное.
– Само собой, – гнет свою линию Блемска, – у жандарма глаз-алмаз, он и в огородном пугале углядит преступника.
– В бдительности нельзя перестараться. – Гумприх вдруг становится официален. – Сегодняшний случай – лишнее тому доказательство. Ясно?
– Никак, господин вахмистр, вас с утра пораньше попотчевали разбавленной водкой?
Не отвечая Блемске, жандарм снова обращается к матери:
– Словом, на сегодня хватит. Но будьте готовы к дальнейшим допросам и тому подобное.
Гумприх подает знак ночному сторожу: тот сидит неподвижно, как изваяние. Сторож ловит взглядом этот знак и так распахивает дверь перед Гумприхом, словно через нее должна проследовать целая рота вахмистров.
– Я ж так и знала, что он мне только для блезиру грозит тюрьмой, – облегченно вздыхает мать, – вот болван.
Выясняется, что Блемска уже в курсе. Деревня – это одно единое ухо и единый рот.
– Зря ты так, Матильда. Проку в этом никакого нет.
– Ну, чем они пропьют это со своими девками, лучше для детей чего-нибудь купить.
– Все так, старая ты кочерга, да только яблоки не собирают навозными вилами.
Блемска может говорить матери все, что вздумает, мать на него не злится, как на других. Она спокойно достает из духовки горшок с подгорелой картошкой и отвечает:
– Ты же сам говорил, мол, их помелом надо гнать из замка, потому как они заграбастали все, что по праву принадлежит нам.
– Говорить говорил и сегодня еще говорю, но не может один человек на свой страх и риск восстанавливать попранную справедливость. Тоже мне сорока-воровка. Нет, это делается совсем по-другому, но сегодня мы об этом толковать не будем. Заглотайте сперва пару-другую картофелин. Вон дети уже трясутся от голода.
Блемска берет на руки Элизабет и подходит с ней к окну.
– А куда запропастился Липе? – любопытствует он.
– Да не приставай ты ко мне с этим пьянчужкой! Куда ему деться, господи, хоть бы кто его вздул как следует, – смеется мать неприятным дребезжащим смехом. – Сегодня он пьянствует знаешь за чей счет? И не поверишь: за счет полиции.
– Не пойму я вас, – серьезно говорит Блемска и подносит Элизабет к столу. – Вы еще и мальчишку готовы запродать здесь в рабство. Этому старому хрычу за его сладкую улыбочку вы доставляете рабов прямо на дом.
– Неужто мальчику раздетому-разутому идти в шахту? – спрашивает мать. – Из каких достатков нам его собрать?
– Ничего, походит три недели в деревянных башмаках, а там, глядишь, и заработает себе на ботинки. А уж старому барину вы вставите хороший фитиль, можешь мне поверить.
И снова воцаряется тишина – как в церкви. Блемска уходит. Ложки детей скребут по дну тарелки. После того как об этом высказался Блемска, все выглядит вовсе не так страшно, считает Лопе и начинает думать о том, где ему взять свисток, когда он поступит сцепщиком на шахту.
Лишь под вечер они отправляются искать отца и находят его на большой куче соломы между амбарами.
– Так точно, господин вахмистр, – рапортует он, когда семейству удается его растолкать, – осмелюсь доложить, бутылка у меня вся как есть вылилась.
Молва никогда не дремлет. Она ждет своего часа. И теперь она получила пищу.
– Хорошо хоть, полиция сыскала пропажу, не то грех повис бы на мне, на моих домашних, словно муха на паутине. Чего только не приходится терпеть пришлому. Ведь люди как судят: раз кто был кукольником, стало быть, он на руку нечист. – Это говорит вертлявый, черный Гримка.
– По закону надо бы отбить ей все пальцы. – Это говорит Венскат лакею Леопольду. – Не стану себя нахваливать, но про меня уж точно никто не скажет, будто я когда-нибудь прикарманил хоть маковое зернышко.
– А сбывать овес налево – это не считается? – подмигивает Леопольд.
– Тебе лучше знать, потому как ты уже тыщу лет делишь барыши с авторемонтной мастерской.
– Ясное дело, кто может лечить ее милость от тоски, тому мастерская ни к чему, – ехидничает Леопольд.
– Видать, тебе твое место надоело, нового захотел, – отвечает Венскат и с достоинством удаляется.
Леопольд и Венскат становятся заклятыми врагами – ненадолго.
Но чудище по имени сплетня имеет множество ртов.
– Вот и дождались. Я сколько раз говорила, что Матильда нечиста на руку. Стыда у бабы нет, ни стыда, ни совести. И своего большенького она еще до свадьбы… Просто жалость берет на бедного Липе. От этого он и спивается, бедняжка, – вздыхает фрау Венскат.
– Он тебя хлопнет порой по заду, вот ты его и нахваливаешь. А пьянчуга и есть пьянчуга. Я б с таким связываться не захотела, – говорит фрау Мюллер.
– Тебя послушать, так твой старик потому и повесился, что ты была ему слишком верна.
– Оставь хоть мертвых в покое, старая гадюка. При чем тут мой старик?
– На Матильду, во всяком случае, можно положиться, – покашливает фрау Бремме. – Когда у кого сил не хватает… Матильда всегда выручит, не подведет.
Жена управляющего, пожалуй, единственная из женщин, которая совершенно не занимается пересудами. Ее девочке, ее Габриеле, ее пташке минуло четыре годика. У жены управляющего решительно ни на что больше не остается времени. В глубине души она испытывает стыд, когда думает о том, как в свое время с ума сходила но этому хлюпику Фердинанду. Ее дитя, ее малышка – бледная, избалованная девочка. Кормят девочку в основном конфетами и сбитыми сливками. «У моей милашечки светлые кудряшечки, ах-ах». Жена управляющего прямо задыхается, когда какая-нибудь работница из любви к красивым детишкам возьмет ее ангелочка на руки. А вот господин управляющий, так тот рад-радешенек, когда кто-нибудь протягивает руки к малышке.
Но что же Матильда? А Матильда целыми днями ждет, когда ее снова позовут на допрос, как пригрозил Гумприх. По воскресеньям она теперь не ходит помогать в замковую кухню. Ее, наверно, не хотят там больше видеть, не то за ней давно бы послали.
Спустя день после этой безумной истории у Матильды была стычка с Липе. Вечером он ковырялся в кухне и был очень воинственно настроен.
– Скоро люди начнут говорить: это тот самый Кляйнерман, чью старуху засадили за воровство.
– Сел бы ты лучше да связал бы веник-другой. Хочешь, чтобы парень в одиночку стирал себе руки до крови?
– Ишь ты, она ж еще и важничает! Вот погоди, ужо сядешь за решетку, у тебя язык заплесневеет от молчания.
– А ты делаешь вид, будто нам те монеты вовсе и без надобности. Я вроде бы не затем подняла чужой бумажник, чтоб было куда класть денежки, которые ты зарабатываешь.
– Зарабатываешь, зарабатываешь! Тебе, скажешь, голодать приходилось, жирная ты гусеница? Вы только на нее поглядите! Я ж еще и окажусь в виноватых, потому что у моей старухи руки загребущие… Это ж надо…
– А мне так думается, у кого вся куртка в дырах, тому нечего считать дыры в чужих чулках.
– Тебе бы только поговорить…
– А что? Ты даже парнишку с собой водил, когда загонял овес…
Липе, который до этой минуты слонялся по кухне, будто потерял что-то, теперь словно врастает в пол. Он широко распахивает глаза. Глаза у него каждый размером с марку. Матильда не обращает на это никакого внимания. Она продолжает спокойно шуровать у плиты. А у Липе дрожат руки и ноги, он хочет плюхнуться на лежанку, но, промахнувшись, опускается мимо, на каменный пол, сидит там весь скрюченный, прижав голову к коленям, и причитает:
– Ох, какая баба, ох, и баба же, она всю семью опозорит!
Матильда дает ему выплакаться, пока он не засыпает. Потом она задувает лампу и идет в спальню, к детям.
Блемска все так же отсчитывает не то четыреста, не то пятьсот перекладин вниз по лестнице в шахту. Почему бы ему и в самом деле не поглядеть снизу, как растет трава? Сколько ни ковырялись наверху, а хлеба от этого не прибавилось.
Не исключено, что к речам Блемски примешивается толика грусти, ведь чего греха таить, в шахте бывает порой все равно как в могиле. Лениво падают с потолка тяжелые капли. В боковых штреках дыбится черная глыба тишины. Воздух – как выкрученная половая тряпка. В нем не вьются жаворонки, в нем только пляшут частички угольной пыли, которым не дают осесть взмахи обушка да гремящие совковые лопаты. Словно рой мошкары, пляшут пылинки вокруг белого язычка карбидной лампы.
«Вух» – говорит обушок, потом опять «вух», а между этими «вухами» слышно только свистящее дыхание забойщиков. Всхрапывает подборочная лопата, а в угловатом чреве вагонетки слышно легкое перекатывание кусков мягкого бурого угля. К штольне – это шея – горняки приделывают брюхо – карьер. Карьер похож на круглый мешок. Иногда его хочется сравнить с гигантской разинутой пастью черного дьявола. А деревянные опоры стоечной крепи – это все равно что клинья, которые маленький человек загнал в чертову глотку, чтобы она не захлопнулась раньше времени и не заглотнула никого во время работы. Но порой, когда человек ведет себя слишком дерзко, когда он забывает об осторожности, его не спасают ни столбы, ни опоры. Челюсти смыкаются с таким ревом, что от него дрожат штольни и штреки, по кругу ярко вспыхивают либо меркнут огни, чертова пасть закрылась, а в ней – два товарища, и мир их больше не увидит.
Приземистый Блемска невольно снимает с головы войлочную ветошку, которую здесь, внизу, принято называть шапкой. Потом он снова зажигает лампу. Лампа висит на проржавевшем четырехдюймовом стержне, который пропущен через поля и выступ этой шапки. Блемска со своим откатчиком Балко идет в забой и разыскивает там обрушаемую полосу. Когда погасли огни, им послышался обрывок чьего-то крика. Долго искать не приходится. Чертовой пастью стал на этот раз соседний штрек. И ничего в нем не видно, кроме земли, угольных глыб да треснувших подпор. Могила. Правда, на сто метров глубже, чем бывают обычные могилы – могилы кучеров либо милостивых господ наверху, в царстве дневного света, – но тем не менее это могила. И не в гробу они там покоятся, оба товарища, и болеть они не болели, а вот умерли же.
Штольня оживает. Из всех квершлагов спешат огоньки. Смерть ударила в набатный колокол. Подземный народ стекается со всех сторон. Люди стоят, бессильно свесив руки, и глядят на сомкнувшуюся пасть.
– Взять бы сейчас да по-быстрому разгрести завал, тогда их можно бы спасти, если, конечно, они еще живы…
– Какое там живы! – отвечает Балко.
– Как ты думаешь, долго ты сможешь протянуть, если тебе на брюхо либо на спину рухнет такая глыба?
Но есть и другие, которые тоже считают, что попробовать стоит. Наконец в спор вмешивается штейгер, и обращается он непосредственно к Блемске.
– Вот и видно, что ты у нас работаешь без году неделя. За все время, что я здесь, нам удалось откопать только одного, у которого голова и грудь оставались снаружи, а придавило его ниже пояса. Мы откопали его живым, но потом он так и остался безногим калекой. Ну и что толку?
Остальные горняки считают, что штейгер прав.
– Как это: что толку? Разве он не мог руками чего-нибудь делать? Я хочу сказать…
– Нет, даже руками не мог. Он был парализован. Жена – ну, про жену ничего не скажу, не знаю. А кроме того, если ты начнешь копать, куда ты собираешься отбрасывать породу? Уж не думаешь ли ты, что мы ради такого дела перекроем весь штрек?
Тут Блемска становится язвительным.
– Да, конечно, штрек, он и есть штрек. Из-за этого могут остановиться машины и доходы.
– Ты говоришь в меру своего разумения. Как школьник, одним словом.
Штейгер хватает свою блестящую медную лампочку и уходит. Это знак для остальных шахтеров. Они начинают медленно рассредоточиваться.
– Сколько времени нам понадобится, чтобы откопать этих двоих? – спрашивает Блемска своего откатчика.
Балко пожимает плечами.
– Примерно столько же, сколько надо, чтобы вычерпать колодец кофейной чашкой, – говорит чей-то бас.
Блемска начинает заводиться.
– Выходит, они виноваты в том, что застряли там, внутри, и, может, даже еще живы?
– Не надо было жадничать, – говорит тот же низкий голос. – Любому дураку известно, что нельзя выбирать карьер до последнего, даже если пошел хороший слой и уголь почти сам прыгает в тачку.
– Пусть повысят сдельную оплату, – шумит Блемска, – тогда никому не придет в голову вырывать кусок изо рта у самой смерти.
– Это ты, конечно, прав, – гудит удаляющийся бас, – но тебе одному мир не перевернуть.
– Эх ты-и-и!.. – кричит Блемска вслед удаляющемуся фонарику. – Скажу одно: убийцы они, все как есть убийцы, кто сидит наверху и назначает такую плату…
– Ну да, – тоненько доносится в ответ уже издали, – убийцами и будут, пока на свете хватает дураков, которые позволяют убивать себя таким манером.
Эти слова можно толковать и так и эдак. Во всяком случае, Блемска до конца дня уже ни на что не годен. Он не вырабатывает даже сменную норму. Время от времени он прекращает работу и прислушивается к сухому перестуку, который доносится из соседних штолен.
– Ты слышишь? – спрашивает он Балко. – Они щекочут дьявола до тех пор, пока тот снова не сомкнет пасть.
– А ну, давай сюда, – говорит Балко и берет обушок из рук у Блемски. – К этому просто надо привыкнуть.
Два дня спустя Блемску вызывают к обер-штейгеру. Интересно, зачем обер-штейгеру понадобился Блемска? Счетовод в конторе заставляет его ждать стоя и даже не поднимает глаз от своих бумаг. Блемске приходится повторить:
– Я сказал «здравствуйте», это раз, а чего от меня хочет обер?
Счетовод глядит на него, как глядят на циркового фокусника, который глотает огонь. Он встает, проходит в соседнюю комнату и долго не возвращается. Блемска может тем временем любоваться большой географической картой, которая висит на стене. На карте – их деревня и окрестности, на пять-шесть деревень в округе, и все размечено крестиками и цифрами. Это те места, где бурильщики искали уголь. Большинство крестьян уже продало свои участки, под которыми был обнаружен уголь. Богатый крестьянин Шнайдер спился на эти деньги до смерти. А тех немногих, кто не пожелал продать уголь, залегающий под их полями, неволить не стали. Прибегут и сами, когда подпочвенные воды опустятся аж до земной оси и яровые сгорят уже в мае, в первые жаркие дни. Это все заранее известно. Вдобавок и участки со временем дешевеют. Потому что тогда крестьяне соглашаются на любую цену. Спасайся, кто может! Господин фон Рендсбург тоже продал свои угленосные участки. И, уж конечно, он не стал прятать полученные деньги под перину, как это делают крестьяне. Ходят слухи, что к востоку отсюда он купил себе не то второе, не то третье поместье, земли которого лежат не на угле. Вот туда он и сможет перебраться, когда поля здесь пересохнут, а леса перекочуют в нутро земли, как крепежные столбы. Переберется и станет акционером у своего двоюродного братца.
Блемска так углубился в изучение карты, что не заметил, как из соседней комнаты вернулся счетовод.
– Можешь пройти к оберу, – говорит счетовод, оттачивая карандаш, – только не заводи его, не то он потом сорвет злость на мне.
Блемска не слушает. Он уже стоит перед обером. Тот протирает очки и глядит на него как-то сбоку туманным взглядом уменьшившихся глаз.
– Значит, ты и есть Блемска? Садись, коли так. Это все равно.
Блемска кивает и смотрит круглыми глазами на обера.
– Так вот, Блемска, – прокашливается тот, – мне, собственно говоря, уже давно было дано указание тебя уволить.
– А за какие провинности, господин обер-штейгер?
– Ну, это все такие вопросы, о которых можно спорить и спорить. Работаешь ты хорошо, потому я тебя и держу. Надсмотрщиком тебе, конечно, не быть. Это я теперь и сам вижу.
– Да, я не желаю торговать костями своих товарищей.
– Господи, ну откуда у тебя такой паскудный язык? – Обер-штейгер начинает горячиться. – Тебе ведь и в имении не дозволяли так разговаривать.
– Поэтому я и перешел сюда.
– Пора бы отвыкнуть, Блемска, – спускает на тормозах обер-штейгер.
– Господин обер-штейгер, как же мне отвыкать, если я всего только хочу, чтобы в мире стало чуть больше справедливости?
– Справедливости, справедливости… Ты мог бы… Ты что, черт возьми, смеешь утверждать, будто мы несправедливо платим за работу? Разве вы не получаете сполна все, что вам причитается?
– Мы получаем столько, сколько принято нам давать. Но мы можем потребовать и больше…
– Потребовать, потребовать… А я-то думал, ты из тех… Ведь скажи по правде, Блемска, меньше, чем пятьдесят марок в неделю, ты никогда домой не приносишь?
– Но вы не можете утверждать, будто мне платят за красивые глаза!
– Словом, Блемска, я прошу тебя только об одном… Теперь я и сам вижу, что ты на этих, из радикалов.
– А вола, который ревет до тех пор, пока ему не зададут положенный корм, вы тоже называете радикалом, господин обер-штейгер?
– Вообще-то надо бы тебя уволить, и если… – обер-штейгер приоткрывает дверь в соседнюю комнату и выглядывает, – и если у стен есть уши, как бы мне и в самом деле не пришлось так поступить. Неужели ты ни капельки не думаешь о своей семье, скажи-ка, Блемска?
Блемска только плечами пожимает в ответ. Как же ему не думать о семье, когда дети у него еще подростки несмышленые, а жена уже глядит в землю. Но шаркать здесь ножкой перед начальством, все равно как китайский кули, – это дудки…
– Кто вам больше по сердцу, такой ли, который на все кивает головой, словно больная лошадь, а сам еле-еле вытягивает норму, либо такой, который думает о своих детях, выкладывается на сдельщине, пока не согнется в дугу и не заработает чахотку, но только порой заартачится, потому что, кроме своих рук, ему продавать нечего и он это знает?
– Но, Блемска, дорогой мой Блемска! Я как раз все время и твержу о том, что высоко ценю твою работу. А ты своими разговорчиками перепортишь мне весь народ.
– А хороший учитель тоже портит детей, когда он их просвещает?
– Нет, Блемска, с тобой и в самом деле не сговорить. Надсмотрщик прав. Но было бы лучше, если бы ты не смотрел на все одним левым глазом. Для верного взгляда надо смотреть двумя глазами сразу, и левым, и правым.
– По мне, так лучше одним, господин обер-штейгер. Ведь когда при стрельбе закрывают правый глаз, в цель все равно попадают.
– И все же заглянул бы ты хоть разок к нам на собрание.
– Нет, господин обер, у меня с войны зуб против ночных колпаков, которые именуют себя «Стальным шлемом».
Что прикажете делать обер-штейгеру? Он смеется, хотя смех получается дребезжащий. Словно кто-то скребет ложкой по дну жестяной кастрюли.
– Только пообещай мне не вести больше подстрекательские речи, не то!.. – кричит обер-штейгер вслед Блемске, когда тот уже вышел из его кабинета.
– Не будет к чему подстрекать, тогда и не стану! – отвечает Блемска и глядит на испуганно пригнувшегося к столу счетовода.
Господин управляющий снова, как и встарь, живет своей особой жизнью. Но теперь его жена ничуть от этого не страдает. Она, правда, просыпается среди ночи, но в сторону мужниной постели почти не смотрит. Ребенок, ребенок – вот что всего важней. Выпадают недели, когда управляющий ходит пьянствовать в каком-то странном костюме. В серой непромокаемой куртке, в бриджах и обмотках, а на голове у него австрийская лыжная шапочка синего цвета. Расхаживает он в этом наряде и по соседним деревням.
Там его поджидает другой управляющий, тот, у которого лицо в шрамах, и другие мужчины, одетые точно так же в серые куртки и синие лыжные шапочки. При встрече они говорят «хайль», а не «добрый день», вместе пьянствуют, толкуют о политике либо заявляются в город на рабочие собрания и стараются их сорвать. Порой дело кончается дракой, и тогда они с синяками и шишками отступают. Но зато на другой день они подкарауливают где-нибудь рабочих вожаков и избивают их. Если на улицах достаточно темно и малолюдно, избивают до полусмерти. Это называется «фема». А после трудов праведных они собираются в какой-нибудь винокурне за стаканчиком свекольного шнапса и выхваляются друг перед другом, какие они лихие драчуны.
– Будь я проклят, если мы снова не наведем порядок у нас в отечестве.
Лакею Леопольду все это уже известно. Он частенько возит его милость на встречи с другими господами в соседних имениях. А там на кухне и в людской ходит много разговоров про управляющего.
Его милость вызывает Конрада к себе. Тот заставляет жену предварительно заклеить ему пластырем шрамы на лице.
– А я как раз собралась одевать малышку, – говорит жена в ответ.
Но Конрад настаивает. Милостивый господин просто диву дается, глядя на его лицо.
– Да что это с вами, Конрад!
– Ничего, господин фон Рендсбург. Это, с вашего позволения, такой пустяк, что и говорить не о чем. Парочка-другая царапин после стычки с взбунтовавшимися пролетариями.
– Ах, Конрад, Конрад, надеюсь, вы не бегаете за этим нелепым австрияком… этим неудачником, этим маляром… по имени… да, как же его звать-то?
– Гитлером, с вашего позволения.
– Верно, верно, за Гитлером… Я хочу сказать, вы ведь не из его последователей?
– Что значит «последователей»? Разве не пора что-то предпринять, ваша милость? Разве народ не шляется в городе безо всякого дела, да еще смеет поносить порядочных и честных людей?
– Очень мне не нравится, очень не нравится, Конрад… Я хочу сказать: этот ваш Гитлер мне не нравится. Чего он, собственно говоря, хочет?
– Работы и хлеба, ваша милость. И еще, чтобы больше не платить военные долги. Это ведь, с вашего позволения, будет куда как хорошо для налогоплательщиков.
– Ах, полно вам, Конрад, обещать они все горазды, эти благодетели народа. Смешной он человечек, ваш Гитлер. Шпак в солдатских обмотках, который корчит из себя военную косточку. Очень мне все это подозрительно, Конрад, ничего не могу с собой поделать. А впрочем, поживем – увидим…
– Да, ваша милость, поживем – увидим!
– Кстати, Конрад, я вас вот почему пригласил. Эта кража, – или как мы ее там назовем, – совершенная Матильдой, доставляет мне немало забот. Мой сын Ариберт утверждает, будто в бумажнике не хватает ста марок. Я велел Гумприху сегодня еще раз допросить эту женщину. Она, разумеется, утверждает, что ничего не брала. Как здесь поступить?
– Если мне дозволено будет высказать свое вовсе не обязательное мнение…
– Разумеется, не может быть никаких сомнений в честности моего сына… Хотя, с другой стороны, он был пьян… Я хочу сказать, он мог и ошибиться… Вероятно, надо действовать очень осторожно, а уж от судебного разбирательства отказаться начисто. Так вот, Конрад, что вы об этом скажете?
– Я вот что скажу, ваша милость: ежели тех, кто что-нибудь натворил, оставить в покое, из них выходят потом отличнейшие рабочие, самые старательные, потому что они боятся суда.
– И в случае с Матильдой Кляйнерман вы придерживаетесь того же мнения?
– Совершенно того же, того же, того же самого, милостивый господин. А что до работы, так Матильда… вы сами, с вашего разрешения, убедитесь, что я говорю чистую правду.
– Ну ладно, я приглашу ее к себе, эту ершистую бабу.
– Вот и расчудесно, ваша милость. Только, пожалуйста, если мне будет дозволено высказать свое мнение, не тычьте ей слишком в нос этой историей, воровством то есть, не то она встанет на дыбы, эта баба, с вашего позволения.
– Ай да Конрад, с каких это пор вы заделались психологом? В остальном же я хотел вам сказать, чтобы вы все хорошенько обдумали насчет своего Гитлера. Вы ведь из настоящих немцев, из тех, кого можно принимать всерьез.
– Па-альщен, па-альщен… Вы слишком добры ко мне, ваша милость, но если мне дозволено будет высказать свое мнение, в «Стальном шлеме» они какие-то все чересчур вялые. Никакого движения. Позволяют вытворять с отечеством все, на радость этим красным хулиганам.
– Все в свое время, Конрад, все в свое время. А ваш австрийский ефрейтор, на мой взгляд, едва ли способен избавить нас от засилья пролетариев.
Милостивый господин послал за Матильдой лакея Леопольда. Матильда идет тяжелой походкой. Каждый шаг стоит ей труда. Не иначе, придется просить у старого захребетника прощения.
Господин фон Рендсбург сидит в небрежной позе за письменным столом. Он с видимым удовольствием накалывает на разрезной нож мух, разгуливающих по зеленому сафьяну стола, и выслушивает покаянные речи Матильды, не перебивая ни звуком, ни жестом. У Матильды щеки пошли пятнами, она сжимает слова в небольшие комки, а через некоторое время и вовсе умолкает. Тут его милость вскакивает. Ему удалось наколоть муху. Возле книжного шкафа он совершает над мухой смертную казнь. Потом он снова садится и глядит на дрожащую Матильду. Матильда молчит. Он начинает отеческим тоном говорить с ней. Припомнил, должно быть, тогдашнюю прачку Матильду.
– Ты ведь неглупая женщина, Матильда, ты ведь понимаешь, что могла попасть в тюрьму из-за этого бумажника…
Матильда пожимает плечами.
– Ясно же, что тебя следует наказать.
– Даже если мне не досталось ни грошика из этих денег?
– Кто тебе поверит?
Матильда снова погружается в молчание.
– Господин Ариберт утверждает, что в бумажнике не хватает сотенной бумажки, а поскольку ты брала бумажник, тебе ни одна собака не поверит, что эти сто марок не прилипли к твоим рукам.
Матильда отступает на шаг и откидывает голову, готовясь отмести несправедливое обвинение, но господин фон Рендсбург останавливает ее мягким жестом:
– Теперь говорю я, условились? Сперва дали высказаться тебе, а теперь говорю я, понятно? Так вот, как бы ни обстояло дело, взяла ты деньги или нет, я вовсе не собираюсь позорить тебя перед всем светом. До сих пор ты служила мне верой и правдой. Я умею ценить хорошую работу, но, со своей стороны, надеюсь, что и ты умеешь ценить добро… словом, нечего об этом долго рассусоливать.
Утвердительно кивнув, Матильда низко опускает голову. Босые пальцы ног судорожно впиваются в мягкий, пестрый ковер.
– Короче, теперь у тебя есть причины проявить себя так, чтобы людям было легче забыть о твоем поступке… Я только одно хотел бы еще от тебя услышать на прощанье. Скажи, Матильда, что ты, собственно, при этом думала?
– А то, что они все равно прокутят эти деньги с городскими шлюхами.
– Ты не слишком-то высокого мнения о моих сыновьях. – В глазах у его милости мелькает лукавая искорка.
– Само собой, раз они вошли в тот возраст, когда человек понимает, что женщины годны не только на то, чтобы варить кофе…
Господин фон Рендсбург усмешливо прикусывает губу.
– Может, ты и права, Матильда… Но, скажи-ка, неужели ты не могла прийти ко мне? Я хочу сказать, что коль скоро вас одолела нужда… Я бы… Я хочу сказать, что у ее милости сердце тоже не каменное… Мы могли бы… Да и не может у вас быть такая нужда… вы ведь работаете, и парнишка тоже вышел из школьного возраста… Но тем не менее ты могла бы безо всякого…
– Просить подаяние я не стану, – резко перебивает Матильда речи милостивого господина. – Если я каждый день с пяти утра до десяти – одиннадцати вечера на ногах, а денег все равно не хватает, чтобы справить хоть какую тряпку для себя или для детей, значит, моей вины тут нет. Будь мир устроен по справедливости, тогда бы… Ведь не скоты же мы…
– Я понимаю, Матильда, для тебя одной оно, может, и хватило бы, но вот дети… и не надо забывать, что твой муж… он ведь… Мне доводилось слышать, он нередко захаживает к Тюделю… Выходит, на Тюделя у вас денег хватает. Или тоже нет?
– Это еще не самое страшное. Пьет-то он больше с горя, потому что с радости – да какая же у нас, прости господи, радость? Самка и одна выкормит троих птенцов, даже если самца сожрет кошка. То-то и беда, что у человеческого зверья не все делается по справедливости, – начинает возбуждаться Матильда. Теперь ее щеки отливают синевой.
Господин фон Рендсбург отвечает с предельной кротостью:
– Дурочка ты дурочка, кто это тебе наплел?
– Наплел, наплел… Будто у меня у самой глаз нет.
– Да-да, глаза у тебя есть. И ты, неразумная, воображаешь, будто видишь что-то своими глазами, но глаза у тебя затуманены завистью. И рассуждаешь ты, как дитя. Вот, прошу тебя, – господин фон Рендсбург поднимается из мягкого кожаного кресла, – прошу тебя, сядь на мое место, если ты воображаешь, будто здесь можно сидеть весь век без забот и без хлопот. – Спинка и подлокотники кресла поблескивают на солнце, словно кожура молодых каштанов.
Но Матильда отмахивается мускулистыми руками. И недовольно мотает головой.
– Да не об этом же речь…
– Я тебе одно скажу, – и господин снова опускается в кресло, – в тот самый день, когда ты сюда сядешь и взвалишь на себя все мои заботы, в тот самый день вечером ты прибежишь ко мне, чтобы снова поменяться местами.
– Ясное дело, один подсчитывает мух, другой гоняется за ними с хлопушкой, – говорит Матильда, и тень улыбки трогает ее губы.
– Ну вот, к примеру, тебе известно, что наша фрейлейн далеко не ребенок. Девушки ее возраста обычно уже прекрасно знают, как надо себя вести в супружеской постели. Но и сама супружеская постель, и ее мягкость всецело зависят от того, как ее выстелит отец для своей дочери. Мы ведь с тобой понимаем друг друга, у меня, поверишь ли, просто не получается, – его милость трет большой палец об указательный, – найти достойного человека, который вывел бы ее из девического состояния.