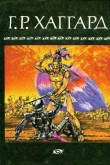Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Нельзя же ему безо всякого лупцевать сыновей милостивого господина! Ну почему он всегда себя не помнит? – изрекает лейб-кучер Венскат. Венскат до смерти рад, что Блемска наконец-то выбирается за пределы имения.
– Не мешает и господским сыновьям раз в жизни получить хорошую взбучку. Жаль, они мне тогда не попались, – говорит кучер Мюллер.
– Где?
– Скажешь, хорошо так? Замазали мои окна дегтем, я и проспал почти весь понедельник.
– Да будет тебе. Ты ж у нас и мухи не обидишь. И какое дело Блемске до господского сена?
– Ты, верно, спятил!
Сам же Блемска спокоен, как пруд в безветренный день.
– Не реви, – говорит он плачущей жене и бросает на подводу два березовых веника и одну тряпку для пола. – Хлеб пекут не только здесь.
– Неужто ты не мог попросить у господ прощения? Ее милость совсем не такая. Она бы тебе…
– Она бы мне сказала: «Наконец-то сыскался настоящий человек, который вздул моих лоботрясов!» Так, что ли? Нет? Ну и молчи.
Но Блемскина жена все равно причитает и шипит через свою заячью губу:
– А новая халупа-то! Там, говорят, клопов полно и вшей тоже. И мыши зимой прибегают из лесу.
– Ну, поехала! А здесь у нас летом были мокрые стены, а зимой они насквозь промерзали. И еще жабы в подполе. Комод наш мыши не тронут, а хлеб, сколько будет, мы и сами съедим.
Он снимает с оглобли торбу и с запинкой начинает высвистывать: «В Груневальде, в Груневальде продают дрова».
Он хочет показать бабам, которые столпились у ограды, кто с граблями, кто с мотыгой, и чешут языки, до чего ему повезло, что его уволили. А как они все на него смотрят! Прямо как на заразного больного, как на прокаженного, которого изгоняют за городские ворота.
Лопе стоит на каменном крыльце барака, уже собравшись в школу.
– Передай учителю, что нас сегодня не будет, мы переезжаем, – с детской гордостью кричит Фриц Блемска. – А если надумаете играть в футбол, я приду, только Марта больше не хочет стоять на воротах, она боится мяча.
Лопе кивает в ответ. Фрау Блемска приводит козу и привязывает ее к задку телеги. Коза горестно блеет, и хвостик у нее болтается, словно на ветру.
С женой управляющего дело теперь обстоит не совсем так, как должно бы. Нельзя сказать, что муж ее стал меньше пить либо раньше возвращаться домой после карт. Но теперь они играют втроем. Третий – это новый управляющий из соседнего имения. Ему лет сорок, и он холост. Все лицо у него в шрамах – так выглядит клумба, в которой рылись куры. Некоторые шрамы до того глубоки, что из них с правом вечного постоя проросли по краям жесткие волосы бороды.
Наголо выбритый купол головы насажен на бычий затылок. Теперь у них не возникает споров, когда в поздний час застолья обнаруживается нехватка карт, потому что карты эти валяются под его коваными сапогами. Нет, теперь, когда карт не хватает, они разговаривают о женщинах. Новый управляющий все равно как петух без курицы. Он взлетает на соседские заборы и крутит головой в поисках благоприятных возможностей.
– Он крошил сечку и не мог слышать, чем мы занимаемся на кухне. А жена у него была такая изголодавшаяся, такая изголодавшаяся. Она стояла возле печки и все мне позволяла, чего я ни захочу. Когда стук в кладовке прекращался, мы с ней тоже останавливались и она начинала ворочать кастрюли. Когда муж закладывал новую порцию, мы снова были в безопасности на – ха-ха! – на длину одной соломины. Под конец мы и вовсе перебрались на скамью. Шикарно, доложу я вам, господа хорошие, шикарно – не все сразу, а с перерывами, так сказать, соломинку за соломинкой. Через час примерно муж, весь употевший, заявляется на кухню и говорит: «Ну, на одну неделю хватит». Это он имел в виду сечку. «На неделю? – переспросила жена недоверчиво так. – Нет, придется тебе в среду еще малость подкрошить. Не то мы до конца недели не дотянем. Ты не забывай, теперь у нас четыре коровы». Кивнула мне, я и ушел.
Вот какими историями потешает своих собутыльников новый управляющий из соседнего имения.
– Ну и охальник же вы, – лепечет винокур, снова наполняя рюмки. – Сразу видно, побывали в университете, или, может, вас ревнивые мужья так исцарапали?
Новичок многозначительно молчит. Спустя некоторое время он обращается к своему коллеге, который в полном удовольствии поглаживает жесткую бороду:
– Взять хотя бы вас, вы тут сидите, хлещете водку, а на конюшне у вас стоит такая бабенка, на которую не один мужик облизнулся бы. Вы что, так в себе уверены?
– Ха-ха-ха! Мы только и дожидались, когда вы заявитесь со своей исполосованной физиономией. А впрочем, охотники на все найдутся. Ваше здоровье!
Пьяное бормотанье переходит на другие предметы.
– Вы ахнете, когда узнаете, какую шваль набирают в рейхсвер.
– Само собой. Кто позволит… какой патриотически настроенный человек позволит каким-то пролетариям командовать собой? Этим ублюдкам с грязными руками. «Больше ехать некуда!» – сказал недавно один оратор на политической встрече. Он заявил, будто «Стальной шлем» готовит новую войну. «Больше ехать некуда!» Ха-ха-ха! Вы когда-нибудь слышали такую белиберду? Простейшую поговорку не могут правильно произнести, придурки эдакие!
– Миром правит водка, – бормочет винокур, – ее лакают и черные, и красные, господа мои. Винокур – всегда король, а его золото – это свекла да мороженая картошка.
– Ваше здоровье!
Потом они хором поют «О Германия, честь твоя высока!» и «Стражу на Рейне».
– И если нам суждено когда-нибудь подняться из убожества, то лишь благодаря мужчинам с го… головой на плечах! Точно!
Управляющий бьет себя кулаком в грудь. Живот у него колышется. Звякают серебряные монетки, подвешенные к цепочке для часов.
Они расходятся, на прощанье они величают друг друга настоящими немецкими мужчинами, которые способны воздать должное хорошей выпивке…
– …и у которых есть чем ублажить женщину, господа хорошие, так ублажить, чтоб ей не захотелось лезть в парламент и там извергать в прогрессивных речах своих нерожденных детей, вот так-то. Честь имею!
Не сказать, чтобы мир изменил свой облик от пьяной болтовни собутыльников.
Но кое-что из застольных речей засело в голове у управляющего. В ту же ночь он наведывается в постель к своей супруге. Супруга не имеет ничего против. Назавтра он проделывает то же самое среди дня. Жена не знает, что и думать.
В среду она предоставляет Фердинанду в одиночестве слоняться по парку. Нельзя утверждать, что Фердинанд убит подобной неверностью, но он разочарован, это уж точно. Он нарочно готовился к этому вечеру, он хотел побеседовать с ней о целебной силе воздержания. Многочисленные цитаты кружились у него в голове. Мало того, он выписал на отдельные листочки высказывания некоторых философов по упомянутому вопросу. А за шторами в опочивальне его милости тем временем погас свет.
Ночной сторож на деревенской улице протрубил второй час ночи. И тогда Фердинанд отправился к себе в контору и там написал письмо жене управляющего:
«Я прождал тебя всю ночь, правда, не всю ночь на улице, но ведь ждать можно и в глубине сердца. Представляешь ли ты себе, что это такое? Это когда удары сердца разносятся по всем его закоулкам, когда нужно унимать дыхание, как унимаешь ворчащую собаку, а снаружи тишина, от тебя – ни стука, и весь мир подобен могильному склепу…»
С утра пораньше Фердинанд посылает за Лопе. Чтобы тот – пожалуйста, перед школой – доставил письмо жене управляющего.
Только он сперва допишет еще несколько слов. Лопе сидит на кушетке и ждет. В школе ему до сих пор кричат вслед «Фердик Огнетушитель». Вот он и сравнивает, глядя в зеркало, свое лицо с напоенными скорбью чертами Фердинанда. Его глаза перебегают с Фердинандова лба по опущенным глазам к носу. Неужели у него, Лопе, такой же длинный острый нос? Нет, у него нос покруглей, картошкой, можно сказать, как у матери. И эдакая стена вместо лба! У Фердинанда лоб захватывает половину головы. А у Лопе на этом месте растет густая щетина.
Вот насчет рук ничего определенного сказать нельзя. Если представить себе, что на руке у Фердинанда нет перстня с синим камнем, а у него, Лопе, руки побелей, тогда, пожалуй, руки у них одинаковые. Но почему же мать не вышла за Фердинанда, если он, Лопе, их общий сын? Если у коровы родится теленок от какого-нибудь быка, то можно считать, что она вышла за этого быка замуж. Так сказал Пауле Венскат.
Жена управляющего стоит у печки, вся она какая-то патлатая и полуодетая.
– Стоило из-за этого гонять тебя в такую рань, – говорит она без обычной приветливости в голосе.
Она вскрывает конверт сальной шпилькой и, бормоча себе что-то под нос, читает его. Лопе, покашливая, дожидается положенной мзды. Жена управляющего поднимает глаза, рвет письмо на мелкие кусочки и бросает его в огонь.
– Жаль, у меня сегодня ничего для тебя нет, – говорит она неласково. – Но ты ведь не последний раз у меня, правда?
– Она уже встала? – трепеща, спрашивает бледный Фердинанд.
– Да, но она не сказала мне «спасибо». И не засовывала его вот сюда. Наверно, ты налепил там ошибок, хоть и долго писал.
– Не пойму я тебя.
– Ну, она ведь сунула его в печку – как мать сунула мой блокнот.
Мороз дохнул на цветы любви между Фердинандом и женой управляющего. Стебель, на котором расцвели эти цветы, оказался неморозоустойчивым.
После обеда жена управляющего под пустячным предлогом с какой-то записочкой сама приходит в контору. И застает его одного.
– Я хотела тебе сообщить, что он очень изменился.
– Перестал пить? Я хочу сказать, не уходит теперь по вечерам в винокурню?
– Этого я не говорила, но он теперь так мил со мной, так ласков, ты понимаешь, Ферди?
Фердинанд задумывается, поигрывая пресс-папье.
– Ферди, голубчик, ты должен меня понять. В конце концов мы ведь женаты, он и я. Я такая грешница, а он… он совсем не изменился. Ах, какие мы… ах, какая я была гадкая! Может, у него были заботы, а меня он щадил. У мужчин часто бывают заботы, когда женщины о том и не догадываются. Зато теперь он стал такой нежный. Он возвращается среди ночи и целует меня, а днем наведывается и спрашивает, как я поживаю. «А управляющий соседнего имения – свинья порядочная», – говорит он. И он готов возблагодарить бога за то, что ему не приходится, словно собаке, возиться с объедками, которые упали со стола добропорядочных супругов. Вот как он говорит. Что ты об этом скажешь, Ферди?
Фердинанд молчит. Солнце золотит пушок у него на голове.
– Не думай, что я больше тебя не люблю, дорогой мой Ферди. Ты навсегда останешься мужчиной, которого я любила больше всех, да-да, больше всех. Но я ведь все-таки замужем за другим человеком. Знаешь что? Давай все равно останемся друзьями, братом и сестрой. Не будем грешить. Давай? О, господи, как бы у меня молоко не убежало! А я стою тут и разговоры разговариваю, будто у меня и дел-то других нет. Ты дашь мне руку на прощанье? Вижу, вижу, ты не дашь мне руки. Я тебя понимаю, я такая грешница, такая грешница! До свидания, Ферди, оставайся моим другом или братом, если хочешь. Кем хочешь, тем и оставайся. И постарайся не совсем меня забыть.
Щелкает замок. Шаги стучат по коридору.
Со своего места Фердинанд слышит, как она грохочет конфорками. Он подпирает рукой подбородок и погружается в раздумья. Солнечные зайчики пляшут по цифири. Это надой усадебных коров.
Много дней ходит Фердинанд взад и вперед, изводя себя мыслями. Вечера его тихи, как кладбищенская часовня. Лишь стебли крапивы шуршат теперь под его окном. Он проникается ненавистью к крапиве. Ножницами для бумаги он обрезает верхушки стеблей, несущих семена. Он возвращается мыслями к своим книгам. Он вчитывается в сладкие, как мед, любовные чувства благородных героев Штифтера. Он спасается бегством в собственное прошлое.
Любовь юных лет, голубая посредине, красная по краям, оживает в тихой заводи его памяти. Белоснежные зубки Кримхильды за алыми, как кровь, губами. Он раскладывает на столе ее письма. Он воскрешает в памяти часы, когда каждое отдельное признание облекалось в чернильную плоть. На это уходит целый вечер. В сердце своем он вспоминает тот сладкий зов, который заставил его покинуть гимназию. Он припоминает мучительные стычки с отцом. Старик полез грубыми волосатыми руками в его скрытые от взоров спрятанные цветы. Это воспоминание заполнит следующий вечер. А дальше что?
Снова низверглись с небес дали, которые за много лет не одолеешь и на быстром скакуне. С виду же расстояние между ним и Кримхильдой составляет каких-нибудь тридцать шагов.
«Но скрытые расстояния, которые надо преодолеть, делают человека ничтожно малым – словно одинокую мушку на пустой стене комнаты».
Она расхаживает с садовником Гункелем, она избывает свои мечтания в лепестках роз, процеживает их сквозь краски и ароматы. «Краски, которые отцветают, – ни для кого, ароматы, которые расточаются в пространстве, не встретив на своем пути благосклонного обоняния. Садовник Гункель всегда рядом с ней, ему дозволено слышать названия роз, когда они иноземным звучанием соскальзывают с ее уст. Он может глядеть ей через плечо, когда она оборачивается к нему, чтобы удостовериться, что он все понял. Ее белый башмачок застревает в рыхлой земле среди стеблей. Тогда она спокойно стоит на одной ноге, словно фламинго, и позволяет Гункелю проводить рукой по своей узкой ножке. Ее благородная, выхоленная ручка прикасается к его лапище, когда он пальцами-корешками ковыряет нутро какого-нибудь цветка. Он ходит рядом с ней, и ритм ее движений разбивается о него, как легкие волны – о камень».
Такие и подобные мысли заносит Фердинанд в свой дневник. И когда он видит перед собой все это, – чернилами по бумаге, – у него становится спокойнее на душе. Он уничтожил стебли крапивы. Он помешал крапиве выполнить свое предназначение. Но покамест он не внес в почву своего садика ничего взамен крапивы. И в ту же ночь он пишет письмо Кримхильде фон Рендсбург. Письмо содержит множество планов насчет садика. Оно нашпиговано именами роз, которые и выговорить-то мудрено. Имена же он выписал из словаря. Нежные ароматы пронизывают это письмо. Цвета и краски либо контрастно спорят друг с другом, либо сливаются в светящуюся симфонию юга. В письме он просит у нее совета относительно подбора сортов.
При этом он позволяет себе намекнуть, что, коль скоро судьба решила именно так, а не иначе, он мечтает приблизиться к ней, хотя бы посвящая свой досуг занятиям с ее любимцами из многообразного царства роз…
Фердинанд отправляет письмо почтой и ждет ответа целую неделю. Ни звука. Он ждет еще одну неделю и во время этой второй недели случайно натыкается на садовника Гункеля.
– Ее милость, наша фрейлейн, сказывали, вы тоже хотите разводить розы. Сперва надо привесть сад в порядок, не то в нем и шиповник расти не станет.
Розы Фердинанда обращаются в морозные цветы на стекле. Итак, она не собирается ему писать. Смеется ли она над его планами? Он вспоминает ее рот, который тогда произнес: «И это все? Знаешь, по-моему, любовь – смертельно скучное занятие. Если это и есть та самая любовь, о которой так много писали поэты, тогда, вероятно, она существует лишь внутренне, в сознании отдельного человека. Но чтобы вдвоем? Согласись, что это на любовь совсем не похоже. Ты хоть раз поднимался ко мне в окно по веревке? Ты хоть кого-нибудь убил ради меня? Может, ты стал паломником либо монахом, чтобы в этом облачении беспрепятственно проникать ко мне? Ты не решаешься явиться к моему отцу, который изо дня в день словами будто пилой подрезает ствол, на котором, как ему кажется, расцвели цветы нашей любви. Ах, отец, отец. Видит бог, ему незачем стараться. Ничего у нас не расцвело. Был один-единственный бутон, на бутон упала одна-единственная градинка, и он замерз. Стал ли ты, чтобы завоевать мое расположение, одним из тех поэтов, тех художников, которые пишут стихи о сердечных тайностях либо выплескивают внутренний жар на холст? Может, в парке, где рассылают свой аромат жасмины, ты пел мне под глухие звуки лютни?» В те времена Фердинанд еще не знал, что́ пишут про любовь поэты, а веревки для ночных визитов к возлюбленной словно ножом резал почтительный страх Фердинанда перед его милостью. Стать монахом либо паломником? От этого поступка его удерживала мысль, что уж тогда не видать ему Кримхильды, как своих ушей. И, наконец, кого прикажете убивать ради нее? Уж не учителя ли Маттисена, который словно возлюбленный ходит рядом с ней по парку и вязальной спицей считает тычинки в цветке вишни?
Но вот стать художником… Почему и не стать? Фердинанд начал читать все, что понаписали о любви поэты. И почувствовал, что не так уж и трудно сочинить что-нибудь похожее, если два-три дня подряд ничем другим не заниматься, кроме как читать стихи. Весь мир вращался вокруг рифм, весь мир мечтал угодить в их сети и стать литературным произведением. Галка стремилась к палке, а глаза глядели, куда пошла коза. И он написал Кримхильде о блаженстве, которое его наполняет, о том, что наконец заявила о себе его истинная суть: он, сын мельника, ощутил себя поэтом, мыслителем и тому подобное.
В тщеславном нетерпении она написала ему, что ждет его первое стихотворение. Он и выдал требуемое:
Пальцы мои так мучительно жаждут
Прикоснуться к твоим золотым кудрям,
Без тебя мое сердце ужасно страждет,
Предаваясь кроваво-мрачным мечтам.
А вечером взор мой к звездам подъят,
Что в бездонной дали надо мною горят.
Он до сих пор помнит эти стихи наизусть. Но ее, судя по всему, они не удовлетворили. В ответном письме содержались образцы из газет и журналов.
Он накатал ей еще одно стихотворение, которое, несомненно, было лучше первого, но это, второе, он не отослал. «Художник неохотно расстается со своими шедеврами» – вычитал он где-то.
Затем он перешел к живописи. Благо, со школьных времен у него сохранился набор чертежной туши. Так вот, он обнаружил в одной из книг изображение двух влюбленных, которые сидят под черешней и лакомятся ее плодами. На дереве уже почти не осталось ягод, и нагота осени уже сквозит меж его ветвями. Он срисовал эту картину, а потом и затушевал ее.
В ответном письме она сообщала: «Такую мазню можно купить в любой лавчонке, самостоятельного здесь ни на грош».
Она отдалилась. Письма, – ее, по меньшей мере, – приходили все реже. Он видел, как она с практикантом скачет по полям. На скаку молодой человек поднял ее кипенно-белый, белый, как цветок земляники, носовой платок, который упал на кротовый холмик. Мало-помалу Фердинанд привыкал смиренно оставаться в стороне. Пожатие ее руки, случайная встреча могли на несколько дней подарить его неземным блаженством. На все остальное время его выручали книги. Теперь он читал не затем, чтобы вдохновиться на поэтические подвиги, напротив, теперь он искал в книгах такой же покорности, такого же постепенного смирения. Между ним и Кримхильдой уже образовалась дистанция длиной в дневной переход.
Молодой кузен, изучавший ветеринарное дело, заявился в имение. Он ездил с Кримхильдой в шарабане по тронутым дыханием осени полям. Под бесшумными колесами на резиновом ходу шуршали опавшие листья. Кузен передавал Кримхильде поводья, пожимая ее ручку, и выпрыгивал на дорогу, чтобы натрясти для нее с мокрых ветвей несколько спелых орехов…
Не всегда Фердинанд пребывал на высотах духа. Какой-никакой мужчина в нем еще сохранялся. И когда он ходил по коровникам, чтобы собрать необходимые цифры для своих статистических выкладок, путь его всякий раз лежал мимо прачечной. А там царствовала Матильда с мокрым на животе платьем, вечная прачка. Ее раскрасневшееся полнокровное лицо с холодными, серо-зелеными, оценивающими глазами пламенело навстречу Фердинанду среди клубящихся облаков пара, что поднимались из корыта. Ее взгляды падали порой на Фердинанда, и тогда ему казалось, будто его раздевают донага.
Ах, какая полнота женской силы – когда она таскала тяжелые корзины с мокрым бельем через весь двор, чтоб расстилать для отбелки на траве. Какая игра мускулов на обнаженных икрах! Однажды, когда она, раскачиваясь, волокла такую вот корзину, оттуда упало какое-то белье. Фердинанд вмиг подскочил, поднял белье и снова положил его в корзину.
– Ух ты! – сказала она и, поставив корзину на землю, завела с ним разговор. И снова он оказался нагой – под ее взглядом, голый, обглоданный страстью скелет.
– У вас, поди, тоже бывают грязные рубашки, – сказала она, уставившись на его запястья. Он повел плечами, чтобы этим движением спрятать манжеты в рукавах пиджака, но тем временем взгляды ее запылали у него на шее и застряли на сгибе – увы! – не совсем свежего воротничка.
– Вы приноси́те мне свое грязное белье, я сплю за чуланом, в прачечной.
И Фердинанд принес к ней свое белье. Она обращалась с ним, как с ребенком, она припасла для него пирожки, которые подсунула ей для такого случая одна из кухарок. Безошибочным взглядом она углядела все те места на его одежде, где не хватало пуговиц. И она пришила эти пуговицы так, что ему даже не пришлось раздеваться. Но потом выяснилось, что и на штанах с пуговицами не все в порядке.
– Вы зайдите за шкаф, – сверкнула она глазами, – и спокойненько снимите там брюки.
Он безропотно повиновался, как повиновался бы собственной матери. Придерживая одной рукой подштанники, чтобы не разошлись на животе, он протянул ей свои брюки. Она метнула критический взгляд в закуток за шкафом и сказала только: «Ах ты господи!»
Фердинанду становится как-то не по себе, когда он вспоминает, что на брючных пуговицах дело не кончилось. Глаза у нее были все равно, что рентгеновский аппарат. Глаза, которые чуть что не толкали, да-да, толкали на большее.
– Ах, ты мой бедный, заброшенный воробушек, – ворковала она.
Ему казалось, будто его по-матерински взяли на ручки. А тело у нее было все равно что напоенная теплой кровью мягкая колыбель. А бедра у нее были как клещи, а руки – как путы… Когда прачка Матильда поняла, чем все кончилось, она не стала распускать нюни. Она и Фердинанду-то, можно сказать, ни словечком не обмолвилась. Всю весну он наблюдал, как разбухает ее тело, но чувствовал себя совершенно непричастным.
– …Разве ты можешь на мне жениться, мой миленький? Ну, конечно же, не можешь. Грошей, которые ты зарабатываешь, едва хватает на парочку селедок.
Фердинанд уставился в землю, как малое дитя, как школьник, который покружился на карусели, не заплатив за это, а потом получил хорошую нахлобучку и отправлен домой.
– Я знаю одного, который с радостью меня возьмет. Как я есть. И ребенка признает. А ты можешь идти, куда захочешь. Я… я тебе поперек пути никогда не стану.
Ни слезинки на ресницах Матильды, мягче обычного колючий взгляд, словно сквозь марлю, которую вешают на окна для защиты от мух.
– Можешь и впредь приносить мне свое грязное белье. И не поминай лихом. Ты ведь – ты ведь почти ни в чем не виноват. А того, другого, можешь не бояться, он такой… такой… да ты и сам увидишь.
На том и порешили. Фердинанд издали наблюдал рождение сына, как петух наблюдает появление цыплят. Он и сам еще был, – себе Фердинанд, конечно, в том не признавался, – но был он таким младенцем, а тут – на тебе: сын! Порой он даже был готов уверовать в чудо.
В воспоминаниях об этой поре Фердинанд проводит всю субботу. С него бы и довольно сидеть вот так и размышлять. Но жизнь снова и снова вторгается в мир его мыслей и побуждает к действию.
В воскресенье он просит Венската одолжить ему лопату, тяпку и грабли.
– Никак, дорогу прокладывать в воскресенье-то?.. – ехидничает Венскат.
– Да нет, Венскат, какую там дорогу, просто сорняки у меня в садике уже почти окно закрыли… как бы это выразиться, растет все без смысла и без толку.
Фердинанд натягивает перчатки и выдергивает стебли крапивы у себя под окном. Стебли стали твердые и волокнистые, будто стволы деревьев. Длинные руки Фердинанда далеко высунулись из рукавов рубашки. И поэтому мохнатые листья крапивы беспрепятственно касаются его запястий, обжигают кожу своим ядом и оставляют после себя белые, воспаленные точки. Он поглаживает зудящие места. Неприятно, ах, как неприятно. «Четыреста граммов этого растения содержат столько же белка, сколько его содержится в ста граммах соевых бобов», – сообщает управляющий. Но Фердинанд не может останавливаться на достигнутом. Его ожидают великие свершения. Белые корешки сныти извиваются, как черви, у него под ногами. Галинсога увядает на разрытой земле. Он работает почти два часа без перерыва. После этого у него не остается сил даже на то, чтобы держать в руках лопату. Огнем горят водяные мозоли на ладонях, у основания пальцев. Пожалуй, до следующего воскресенья ему за лопату не браться.
Но надо начертить план будущего сада. С выбившимися из-под шляпы растрепанными волосами Фердинанд украдкой косится на окошечко жены управляющего. Белая гардина застыла в неподвижности. А уж что там происходит за выбеленной стеной – об этом можно только строить догадки.
В школе все заняты приготовлениями к детскому празднику. Это будет первый праздник после войны.
– Какие прекрасные бывали праздники при нашем кайзере!
– Деньги он давал на них, что ли?
– Деньги – нет, зато он давал поводы. Взять хотя бы праздник в честь Седана!
Дети ходят из дома в дом, собирают маринованные фрукты, летние яблоки, масло, муку. Булочник Бер печет пирожные, жертвует на это дело сахарный песок, коробку конфет и другие сладости. В лавке покойной Крампихи воцарился торговец Кнорпель. Его желтушная жена стоит за прилавком в белом халате, будто снежная баба, и спрашивает приторным голосом: «Угодно еще чего-нибудь?» – либо: «Чем могу служить?»
А лавочница спрашивала просто: «Тебе чего?»
Магазин более высокого пошиба. Для деревни – шаг вперед. Торговец Кнорпель с маленькой растрепанной бородкой и крючковатым носом колдует в задней комнате над огурцами и селедкой, как в свое время это делал Лопе под надзором лавочницы. Иногда Кнорпель большими белыми буквами выписывает на черной доске: «Сегодня поступила свежая квашеная капуста».
За месяц одна и та же бочка с капустой поступает по меньшей мере трижды. Кнорпель – настоящий коммерсант. Лопе идет к Кнорпелю и просит отпустить ему два пакетика синьки.
– Пожалуйста, дитя мое. Желаешь чего-нибудь еще?
– Нет-нет, мама сама рассчитается, когда выдадут зерно.
Фрау Кнорпель судорожно хватается за пакетик синьки.
– Читать умеешь?
– Да.
– Вот и прочти.
– Пусть вам в долг уступает серый волк, – с запинкой читает Лопе.
– Кривляки несчастные, – говорит мать, и больше его никогда не посылают к Кнорпелям.
– Жертвуйте на детский праздник, – хором декламируют дети.
Фрау Кнорпель жертвует три пакета солодового кофе, еще из тех, что остались после Крампе, тетради с выцветшими обложками и со следами повидла на страницах, две картофелечистки, пять пакетиков булавок и двадцать пять поздравительных открыток к серебряной свадьбе. Столяр Танниг изготавливает звезду-мишень для стрельбы из лука. Альберт Шнайдер и Клаус Тюдель приходят за звездой, укрепляют ее на длинном шесте и синим карандашом пишут на кривобоких лучах: «Первый приз – второй – третий – утешительный», – после чего надпиливают первый и второй лучи.
Брадобрей Бульке, отправляющий также обязанности письмоносца, специалиста по мясу, деревенского портного, обмывателя покойников и ночного сторожа, обещает при содействии Шульце Попрыгуна, Генриха Флейтиста и Шуцки Трубача обеспечить музыкальное сопровождение.
Итак, детский праздник может начинаться.
Отец в воскресном костюме с белой манишкой и при шляпе наскоро устраивает смотр детям.
– Вечно эта красная тряпка в голове, – осуждает он прическу Труды, – мы что, красные, что ли?
– А почему бы и нет? – отвечает мать и расправляет шелковый бант на голове у дочери. – Тебе только белую головку подавай.
Отец переводит страдальческий взгляд на Лопе.
– Руки мыл?
Лопе демонстрирует свои ладошки и получает шутливый шлепок от отца.
– У тебя пальцы для писанины, рабочий из тебя никогда не получится.
– Вечно ты несешь какую-то околесицу, старый пьянчужка, – опять набрасывается на него мать.
– Пошли скорей, пошли скорей, – хнычет Труда, – они там, наверно, уже поют…
И праздник начинается. С пением тянутся дети к горе – к Гейдбергу.
– Ша-а-агом мар-р-рш! – командует учитель.
«В движенье мельник жизнь ведет, в движенье».
Взлетает потревоженная пыль и оседает над цветущей вересковой пустошью. Овчар Мальтен запирает пугливых овец, и Минка жалобно воет.
– Стой, раз-два. Нале-ево! Разойдись!
Словно вытряхнутые из мешка мухи, с гудением разлетается ребятня по горе.
– Бег в мешках – для девочек! – Жена учителя поднимает руку и словно статуя высится в своем белом костюме на придорожном камне, требуя внимания. Накладная коса безучастно лежит у нее на голове.
– Здесь – стрельба из лука – для мальчиков, – дребезжит Венскат, который возглавляет это мероприятие как член школьного совета и вдобавок ответственный за все деревенские развлечения.
Учитель тем временем ведет переговоры с мясником Францке и Вильмом Тюделем. Пестрые платья, банты в волосах, новые башмаки, белые спортивные майки, укрощенные сахарной водой прически на прямой пробор, загорелые детские руки, носовые платки в потных девчачьих ладошках, галстуки вокруг конфирмантских жестких воротничков, пижонские платочки кавалеров, криво заглаженные складки на брюках, шелковые носки, набивные фартуки в синюю полоску, помятые, жесткие котелки, тросточки, в отдельных случаях – сигары, как жердочки перед отверстием скворечника, затвердевшие от помады усы, удивленные, смеющиеся, скептические, лукавые глаза…
Ничем не занятые или теребящие стебли вереска, праздно повисшие или засунутые в карманы штанов руки и бегущие, стоящие, марширующие или ждущие ноги посреди цветущего вереска.
Клаус Тюдель сбивает стрелой первый приз и шепчет Альберту Шнайдеру, который как раз натягивает тетиву:
– Бери правей.
«Бег с яйцом» и «Убей петуха» у девочек, завязанные глаза, вскинутые на плечо цепы.
– Сколько я тебе показываю пальцев? – спрашивает жена учителя, завязав глаза одной девочке.
– Пять!
– Вот и славно, ты, значит, ничего не видишь. – И она несколько раз поворачивает девочку в разные стороны, чтобы совсем ее закружить. Незрячая идет робкими шажками, считает их, спотыкается, берет вправо, а глиняный горшок, по которому она должна ударить, стоит слева. Трижды ударяет девочка, цеп глухо бьет по земле. Надломленные травинки. Мимо.
Прибыла деревенская капелла. «Конькобежцы» Вальдтейфеля, воплощенные в музыке, носятся над летним верещатником. Окончившие школу девочки подпевают, обхватывают друг дружку, делают танцевальные па. Появляется учитель, зажав под мышкой жестяную коробку с конфетами. Словно сеятель, шагает он по вереску, а за ним с вороньим криком и гамом следуют дети. Размашистый высев синих, красных, зеленых карамелек, толчки, пинки, оплеухи, набитые рты, слипшиеся губы. Капелла с кваканьем исполняет туш.