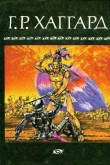Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
– Мне бы ваши заботы, – задумчиво говорит Матильда. – И кто это вбил бабам в голову, что без мужика им не обойтись? А сами всякий раз нарываются.
– Ты так говоришь потому, может быть, что ты… короче говоря, уж поверь мне: у каждого сословия свои заботы, заботы никого не минут, даже напротив: чем выше сословие, тем они больше.
Судя по всему, Матильда не убеждена его словами, но она молчит. Что ни говори, глупо стоять босиком перед его милостью и вести умные разговоры…
– Матильда, ты неглупая женщина, но ты совершаешь одну ошибку: ты смотришь на мир из своего закутка, вот в чем беда. К сожалению, у меня сегодня мало времени, не то бы мы… Впрочем, ладно, не забудь только, что я не стал преследовать тебя по закону… ты и сама умная женщина, ты смекнешь, что к чему…
Матильда уже подошла к дверям, она не благодарит, она не воссылает пронизанных раскаянием просьб о прощении. Лакей Леопольд открывает дверь. Но тут его милости приходит в голову еще одна мысль:
– Кстати, я надеюсь, твой мальчик останется работать в имении. Тут, я думаю, и толковать долго не о чем.
– Где останется мой мальчик? – Матильда круто поворачивается.
– Поговаривают, что ты хочешь отдать его на шахту.
– Шахту? Если бы и хотела… не могу же я босиком послать его туда.
– Не говоря уже об этом, что делать такому пареньку на шахте? Он до срока сгорбится и изработается. Здоровье, ей-ей, стоит дороже, чем несколько лишних пфеннигов, которые он там получит. Пашня, земля – вот кто наши истинные кормильцы, попомни, Матильда.
– Оно и видно, – не может удержаться от колкости Матильда.
– Смотри, ты еще не шагнула за порог, а уже проявляешь неблагодарность. Придется мне всерьез подумать о том, не лучше ли…
Но Матильда вышла в вестибюль, где по стенам висят африканские стрелы и рога антилоп. Натертые полы липнут к босым ногам так, словно господский дом не хочет выпускать ее.
С Блемской Лопе может говорить решительно обо веем. Они все так славно продумали и не раз перетолковали о том, как это будет, когда они вместе начнут работать на шахте. Но теперь густые облака затянули утреннюю зарю их надежд.
– Не скажу, что у шахтеров райское житье, – говорит Блемска однажды в воскресенье на кухне у Кляйнерманов, – но только так можно разорвать проклятую цепь, которая связала вас с волами. А то вы, ей-богу, словно присохли к этому сладкоречивому тирану.
– Иногда ты несешь такую околесицу, аж слушать тошно… – шипит мать и свирепо глядит на Блемску.
– Теперь он небось гвоздями тебя приколотил к своей усадьбе из-за этого поганого бумажника. Да-да, у них известная повадка…
Мать ничего не отвечает, и Блемска, ворча, уходит.
Вот каковы люди! Где уж тут миру сделать хоть один-единственный шаг вперед, когда он обеими ногами увяз в грязи.
На другое утро управляющий вызывает Лопе к себе.
– Возьми волов, которые числятся за Гримкой. На этого болвана положиться нельзя. Ясно?
Да, Лопе все ясно. Его даже пронизывает радостное чувство, – на Гримку положиться нельзя. Выходит, на него, на Лопе, управляющий может положиться? Гримка ворчит и смачно сплевывает табачную жвачку.
– Ну и бери себе на здоровье этих вонючих скотов. Что я, присужденный, что ли, к двурогим рысакам? Они только и знают, что жрать, а чего сожрали, то сзаду и вывалилось. Да у человека и рук столько нет, чтобы согнать их с места хоть на шаг, ежели они сами не желают.
Это весь овес, который отпущен тебе на месяц? – спрашивает Лопе, перевешиваясь через край ящика.
– Да, слава тебе господи!.. А как же иначе… Они жрут-то как… не успеешь насыпать ящик, а в нем уже опять пусто. Разрази меня гром, и меня, и мою старуху, и всех моих детушек, ежели я сплавил хоть одно-разъединое зернышко… Они ведь все равно, как вши, волы эти, знай себе жрут и жрут!
– Ты доложи, не то недостачу на тебя запишут, – советует ему вечером Блемска. – Скотину нельзя морить голодом, не то мы будем ничуть не лучше, чем разные кровопийцы в своих замках.
Но Лопе даже и не приходится ничего докладывать. На другой день управляющий сам заглядывает в фуражный ящик.
– Вот скотина, – бранится он и велит Лопе подняться на чердак и насыпать там мешок овса. Под тяжестью полного мешка Лопе опрокидывается на ступеньках.
– Мало вы каши ели, ребятки, – насмехается управляющий. – Когда я был в вашем возрасте, я мог играючи снести три таких мешка зараз.
Однако за разговорами он даже и с места не трогается, чтобы помочь Лопе. Он бродит между кучами насыпного зерна и бранится на чем свет стоит. Лопе скатывает мешок по лестнице, потом мчится к матери, та приходит и безо всякого вскидывает мешок себе на плечо.
– Чтоб ты у меня больше в одиночку мешков не таскал, – говорит она так громко, что управляющий на чердаке непременно должен ее услышать.
Лопе не требуется много времени, чтобы поладить с волами. Гримка должен три дня подряд вводить его в курс дела, но когда поблизости нет смотрителя, Гримка лежит на меже пузом кверху, насвистывает песенки из кукольных представлений либо читает наизусть монолог Фауста, тоже из кукольного представления. Через некоторое время он обычно переворачивается кверху задом и начинает храпеть во все завертки.
Лопе изо всех сил старается проводить прямые борозды. Он не может постоянно наблюдать за Гримкой. И поэтому смотритель Бремме как-то раз, идучи вдоль межи, с умыслом наступает Гримке на живот. Но Гримка не из тех, кого легко смутить. Он вскакивает, словно разъяренная кошка, и с потоком брани выплевывает смотрителю прямо в лицо табачную жвачку:
– Тебе мало, что я из-за колик в желудке ни одной борозды прямо не могу провесть, так ты еще, слон эдакий, приходишь… вот подам я на тебя жалобу за увечье… сейчас прямиком пойдем к судье, пусть разбирается…
Смотритель не отвечает ему ни слова. Просто он разок замахивается изо всех сил, но Гримка проворнее, Гримка успевает уклониться от удара костлявой руки и спокойно направляется к Лопе и к волам.
– Плохо ты следил! Когда этот нильский кроко… бегемот… прямо на брюхо… гад такой, – говорит он Лопе.
– Сам будешь виноват, если сдуру скормишь волам весь овес, – говорит лейб-кучер Венскат Лопе, после того как Лопе проработал с волами два дня. – Теперь понимай как умеешь, а больше я тебе ничего не скажу.
При этом Венскат подмигивает своими серо-зелеными плутоватыми глазками, будто утка на свету. Но Блемска в воскресенье говорит другое:
– Не начинай только сплавлять овес на сторону. Это все чепуха, крохи, зато если кто надувает господ, тот не имеет права потом жаловаться, когда те крадут его рабочую силу.
Нет и нет, деньги на выпивку Лопе не требуются, а несколько пфеннигов на мелкие расходы он всегда может заработать вязанием веников. Господин конторщик выдает на руки матери все, что Лопе заработал за неделю.
Отец, когда на него находит буйство, требует, чтобы деньги выплачивали лично Лопе.
Пауле Венскат готов лезть на стенку, когда его называют мальчиком на побегушках. Никакой он не мальчик, а ученик сапожника, слава тебе господи. Большую часть своего времени он проводит на улице: надо собрать изо всех крестьянских домов башмаки, которые просят каши. А потом, когда мастер досыта накормит башмаки кашей и подкинет к ним толстые подметки, Пауле разнесет их обратно. Еще ему нужно приглядывать за двумя малышами сапожника Шурига. Малыши играют на выгоне, и, проходя мимо, Пауле всякий раз обязан утирать им носы. Еще он должен приглядывать за утками, чтобы они неслись где следует и чтобы ночевали на деревенском пруду. Еще он должен покупать у Кнорпеля табак – жевательный либо нюхательный – для хозяина и повидло для хозяйки. Он разыскивает в соломе яйца, если куры тайком решили их высидеть, он натягивает бельевые веревки для хозяйки и выполняет еще тысячу мелочей такого же рода. Но зато он уже твердо усвоил, что такое стелька, и умеет отличить шило от протычки. Он получает полторы марки, да еще изредка ему перепадает грош-другой за всякие мелкие поручения. Это и составляет его карманные деньги. Пауле может жить, и ему не нужно так много раздумывать, как Лопе. За марку пятьдесят он имеет сигареты и солодовое пиво по воскресеньям. Значит, и Пауле Венскат живет так же, как живут книжные герои. В книжках у героев почти все спорится и всякая беда так или иначе оборачивается какой-нибудь радостью.
В последнее время мать уже не так пристально следит за Лопе и за всем, что он делает. В конце концов он, можно сказать, почти взрослый. Скажете, нет? Но тем не менее лучше покамест воздержаться и не читать книжки у нее на глазах.
– Ты, верно, хочешь заделаться таким же придурком, как этот тип? – И мать тычет пальцем в сторону конторы.
После такого разговора Лопе счел за благо понадежнее припрятать книгу, но по вечерам, когда он сидит на лежанке и вяжет веники, мать спокойно уходит спать. Она вовсе не против, чтобы он занимался каким-нибудь полезным делом. Отец теперь разве что нарезает прутья. Возиться с проволокой – это, на его взгляд, себе дороже. Руки у него дрожат, как грохоты на молотилке.
После того как под матерью скрипнет кровать и смолкнет негодующее мычание отца, которого заставили подвинуться, Лопе может извлечь из тайника свою книгу. Порой он засыпает над ней, прочитав всего лишь одну страницу. А лампа продолжает гореть и коптить. Таким манером он сжигает много керосина зазря и должен возмещать расходы из своих карманных денег.
– Ты что, печку, что ли, растапливаешь керосином? – интересуется фрау Кнорпель.
– Нет, я волов натираю, потому что у них полно вшей. – Лопе чувствует, что, когда обманываешь не в меру любопытного человека, в этом есть своя приятность.
В один прекрасный день Лопе осеняет сногсшибательная идея. Воскресенье, после обеда. С утра пораньше они с Блемской толковали о людях. Блемска вообще знает о людях уйму всяких историй, хотя книг у него очень мало. А вот у господина конторщика уйма всяких книг, а знает он о людях куда как мало. Господин конторщик много и охотно говорит о себе. Блемска же о себе говорит так: «Я крошка, только и всего, а все вместе мы составляем пирог». Подобные рассуждения сбивают Лопе с толку, и он не может решить, кто из двоих прав: Блемска или господин конторщик.
После обеда Лопе садится в сарае на ящик с зерном и читает. На этом ящике он может теперь сидеть безо всякого. Теперь ему незачем прятаться на сеновале. Сияет солнце, гудят мухи. От хорошего настроения им в охотку прыгать друг на друга. Едва какой-нибудь самец спрыгнет с самки, тут же подлетает другой и занимает его место. А самка, лениво растопырив крылья, разрешает делать с собой все, что им вздумается. Вполне уважительная причина для Лопе заняться размышлениями на эту тему. И Лопе отправляется к господину конторщику и прямо с порога задает вопрос:
– Так как же все-таки, господин конторщик, отец вы мне или нет?
Фердинанд роняет ручку. Под синим куполом неба, расцвеченного флагами облаков, стоя на лестнице возвышенных мыслей, он срывал волшебные плоды с дерева грез. Теперь он упал с этой лестницы в навозную кучу. Его бессильные, узкие руки дрожат. Губы подергиваются. Лопе садится на самодельную кушетку и ждет ответа.
– Ты думаешь… – начинает конторщик, собравшись наконец с мыслями, – ты думаешь… это тебе мать сказала?
– Ничего она мне не сказала… отец иногда намекает… и деревенские иногда говорят, что, мол… я просто хочу сказать, что если вы и в самом деле мой отец, тогда мне больше ни у кого не надо спра… тогда я могу пойти на шахту…
– Вообще-то говоря, не следует слишком внимательно прислушиваться ко всяким сплетням… Это словно силки на воробьев… Если мать сама ничего тебе прямо не сказала… Откуда ты вообще это взял?
– Потому что отец у нас… потому что я больше не верю, что он… потому что человек должен же знать в конце концов… ведь у людей же не бывает, как у мух…
– Я поговорю об этом с твоей матерью, – коротко и решительно произносит Фердинанд, – а теперь, пожалуйста, оставь меня, мне надо работать.
Словом, это никакой не ответ, и до самой ночи Лопе пытается разгрести кучу тревожных мыслей.
В этот же вечер Фердинанд долго не зажигает огня и не занимается чтением. Он осуждает себя. Слишком внезапно все это на него свалилось. Гром с ясного неба. Его сын пробудился ото сна. Почему он не сказал ему откровенно: «Да, я – твой отец, так, мол, и так». Какой смысл и дальше жить в обмане? Множество самообвинений. Но за вечер и за ночь такое же множество тщеславных предрассудков, малодушных уверток и мучительных раздумий о будущем пожирает эти обвинения, как муравьи пожирают навозных жуков. Взять, к примеру, часы, проводимые с Фридой Венскат. Мысль о том, что Фрида, по сути дела, его возлюбленная, он с негодованием отметает. Она теперь часто к нему приходит, слишком даже часто. Он говорит Фриде:
– Мне думается, нам не следует так часто бывать вместе. Не знаю, поймешь ли ты меня, но цветок дружбы, но любовь захиреет и поблекнет, если поить ее водой чрезмерной близости. Как бы это выразить: аромат совместных часов следует для начала вдыхать в одиночестве. И только тогда… впрочем, это очень трудно выразить.
Фрида не придает его речам никакого значения. Только слово «любовь», единственное из всей тирады, осело у нее в ушах. Да-да, наверно, и впрямь не следует так часто… И она сидит по два, по три дня дома, изнывая от тоски у окна, за своими фуксиями. Но спустя три дня она заявляется снова и вся трепещет, словно молодая кобылица. Она не засыпает, как засыпала жена управляющего, когда Фердинанд зачитывает ей свои самоописания либо цитирует длинные комментарии из книг. Но и слушать она тоже не слушает. Она впивается взглядом в его глаза, в его губы, мысленно испещряет его лицо узорами поцелуев. С тем же успехом Фердинанд мог бы зачитывать все это «Незнакомке», чья гипсовая головка стоит у него на книжной полке. Фрида подобна церковному шпилю, который вспарывает брюхо низко проплывающему облаку. Облако разражается дождем, но какая с того радость шпилю? Он еще не кончил читать, а Фрида уже полностью углубилась в мысли о награде, которая причитается ей за долготерпение. Награда состоит в пожатии рук, беглых ласках, скупых поцелуях. Фердинанд должен платить. Порой Фрида, как бы потрясенная красотой прочитанного, ложится на его постель. Тут уж плата бывает особенно высока. Фердинанд вносит ее, внутренне обливаясь горючими слезами и даже отвернувшись, но через какое-то время его тоже разбирает, оба сливаются в гармонии… да-да, наконец-то в гармонии, и тут у Фриды больше прав, чем у Фердинанда. Фердинанду чудится, будто Фрида несколько переменилась. Эти перемены он приписывает своим усилиям, направленным на духовное усовершенствование Фриды. Ему мнится даже, что теперь он ухватился за самый кончик своего жизненного предназначения. Его мечты расстилают перед ним кипенно-белый плат жизни, который он некогда будет держать в руках, чтобы покрыть им страждущее человечество. Судьба покамест приберегает его. Приберегает для великих свершений. Сейчас он вынужден обретаться в юдоли нечистых душ и непросвещенных умов. Никому не ведомы ростки великого, что тайно пробиваются в груди у Фердинанда. Но в один прекрасный день, когда эти ростки обретут такую силу внутреннего свечения, что люди будут слепнуть при одном взгляде на него… о, тогда к нему может явиться небезызвестная фрейлейн фон Рендсбург, либо некая графиня Герц ауф Врисберг и сказать: «Ах, как я была несправедлива по отношению к вам! Можете ли вы когда-нибудь простить мне мою несправедливость?»
Он же, знаток человеческих несовершенств, ответит: «Все давным-давно прощено, милостивая государыня. Судьба свела меня с вами, вы оказались твердым, зазубренным камнем на путях моей жизни, но теперь этот камень порос мягким, бархатистым мохом».
Не исключено, что она зарыдает. То есть наверняка даже зарыдает эта небезызвестная фрейлейн фон Рендсбург, она же графиня Герц ауф Врисберг.
«О нет, – скажет он ей мягко, – прошу вас, не нарушайте моего уединения, не возвращайте меня из дальних одиноких уделов моей души».
Жизнь шагает по земле. Шагает по-разному: где семеня паучьими ножками, где делая блошиные прыжки, где сокрушая все копытами. Она может подскакивать, проскальзывать, извиваться змеей – все зависит от того, на чью долю она выпала, эта жизнь.
Жизнь Лопе, по его собственному мнению, иногда пятится задом, как рак. Однажды вечером от чрезмерной усталости он так и оставил свою книгу на лежанке. На другое утро он нашел ее разорванной в клочки возле печи в дровяном коробе. Побледнев как мел и вытаращив глаза от ужаса, Лопе пытается снова слепить обрывки. Но не хватает задней обложки и нескольких страниц. Мать употребила их на растопку. И снова колючая боль в груди. Сейчас Лопе мог бы безо всякого изломать, изорвать какую-нибудь вещь, принадлежащую матери. Он ищет, отыскивает ее воскресную шаль, задумывается на мгновение, кидает обратно. Потом он подходит к кухонному шкафчику без стекол и достает оттуда кофейную чашку с золотым ободком. Чашка стоит на этом месте с тех пор, как отец с матерью поженились. Пить из нее никому не разрешается. Лопе швыряет чашку на посыпанные золой камни перед очагом. Чашка падает с приглушенным звоном – так звенит колокольчик на санях. Из сеней входит мать. Она еще не до конца одета. Пузырем вздувается на ней белая в синюю полоску рубашка. Лицо у матери какое-то лиловое. Глаза неподвижно устремлены на разбитую чашку. Под лучами утреннего солнца горит и сверкает кусок позолоченного ободка. Лопе чувствует, как взгляд матери впивается в него.
– Ты меня все равно не загипнотизируешь! – кричит он.
Мать, не говоря ни слова, хватается за кочергу. Лопе швыряет ей под ноги разрозненные листки своей книги и мчится прочь. В сторону конторы.
– Кто здесь? – кряхтит спросонок Фердинанд.
Лопе ничего не отвечает и бежит дальше, в хлев. Он набивает сеном штаны и тотчас начинает запрягать, так и не съев обычной утренней похлебки.
К завтраку приходит Труда и приносит с собой два намазанных ломтя хлеба.
– У тебя что, каникулы? – спрашивает Лопе.
– Подумаешь, какой взрослый, – отвечает Труда. – С позавчера осенние каникулы.
– Верно, верно… – Лопе уже забыл, когда бывают каникулы. В конце концов, он теперь взрослый человек.
– Чего она говорила про чашку?
– Про какую чашку?
– Ну, которая с золотым ободочком. Я ее разбил.
– Ой, ты разбил красивую чашку? Нет, мать ничего не говорила. Она у тебя из рук выскользнула, что ли?
– Ну, ладно, ладно, ступай.
– Я к Шнайдерам пойду. Они сегодня копают картошку. И будут печь пироги.
– Иди. Это тебе мать сказала, чтобы ты принесла мне хлеба?
– Да. Она сказала: этот оболтус даже поесть забыл.
– Вот и ладно. Ступай.
Вечером мать тоже ни словом не поминает чашку. Рот у нее сделался узкий, будто новая прорезь для пуговиц, и Лопе впервые замечает, как много глубоких складок легло вокруг ее рта.
Скворцы собираются в стаи и, галдя, носятся над опустелыми полями. Шуршат листья. Все умирает – на пашнях, на дорогах. Остается только человек. Но его пути и его дни становятся короче. И под конец приводят его под крышу собственного жилья. У крестьян эти пути пролегают из постели – на кухню, из кухни – в постель. Туманы скрывают горизонт. Пути для глаз тоже становятся короче. Многие звери покоряются зиме и впадают в спячку. Им нечего больше делать в этом безжалостном и суровом мире. У человека тоже есть нора – это комната, но мысли гонят его прочь из дому.
Без ног и без глаз выходит на простор человек, не знающий покоя. Выдаются дни, которые текут, словно густая каша, потом они становятся белыми, пушистыми, но твердыми, как железо.
Покуда можно сыскать хоть один зеленый стебелек, овчар Мальтен выгоняет своих овец в поле. С того вечера после конфирмации глаза у него больше не светятся, когда он завидит Лопе, да и сам Лопе больше не ходит к нему в овчарню. Минка сдохла, а новая овчарка – пугливая и кусачая. И ученика у Мальтена по-прежнему никакого нет. Никто не желает изо дня в день слоняться по полям с безгласными овцами. Лопе тоже не по душе тихие, но упрямые твари, хотя если бы он поступил в ученики к Мальтену, у него оставалось бы куда больше временя для чтения. Так что Мальтен, пожалуй, не так уж и неправ, когда он ходит хмурый и неприветливый, как ноябрьский день.
Лопе тоже не перестает проводить по пашне широкие борозды, пока землю окончательно не скует мороз.
– Клянусь бородой трех волхвов, изловили они тебя, умница ты мой. Орешки моих красавиц тебе не по вкусу, тебе подавай коровьи лепешки.
– Если б это от меня зависело, дядя Мальтен…
Лопе придерживает волов, он хочет заглянуть в круглое лицо овчара, но тот не останавливается.
– Молодые петушки, они все так кричат, а потом сами прыгают на колоду. У-ух! – и клюв долой вместе с гребешком. Хо-хо-хонюшки.
Как может Лопе отвечать на подобные речи? Уж лучше он пойдет к Блемске. Фрау Блемска опять слегла; теперь, когда Блемска приходит домой, он должен сперва растопить печь и приготовить еду для себя и для больной жены.
– Вот напасть, – бормочет он себе под нос, но духом не падает. – Хорошо, хоть ты пришел, паренек, а то, когда слышишь одни только стоны, самого дрожь разбирает.
– О-ох, – стонет Блемскина жена, – отмучиться бы поскорей…
– В покойницкую спешить незачем, – шутит Блемска, – в покойницкую, мать, тебя и на руках доставят. Спешить туда незачем. Ты выздоравливай, так-то оно будет лучше. А теперь как бы у меня опять вода не подгорела, это ж надо, ну так я и знал.
И Блемска начинает возиться с фыркающими кастрюльками. Потом он кормит жену. Лопе тоже достается несколько картофелин с льняным маслом. Блемска насаживает картофелины на нож и начинает рассказывать. Он смеется над глупостью некоторых шахтеров.
– Стоит тебе обронить хоть самое малюсенькое словечко, от которого могли бы побледнеть кровопийцы, они тут же с пылу с жару продают его мастеру. Просто руки опускаются с этим убожеством. Они все одним глазком косятся на трон, потому что никогда не знавали нужды, они и дома доят жирную коровку, и моргенов пять-шесть землицы у них имеется, а на шахту они ходят только затем, чтобы иметь карманные деньги.
– У Шульце Попрыгунчика теперь лошадь завелась, – замечает Лопе.
– Лошадь? У этого горе-музыканта? Вот видишь! Да, кстати, он не состоит в местном ферейне? Именно что состоит. Умереть можно со смеху. Как же он сможет защищать права рабочих? Ты себе представь такую картину: революция, а он едет на лошади и перед собой гонит корову.
– По-моему, революцию делают, когда надо прогонять императора, – говорит Лопе и вопросительно смотрит на Блемску.
– Это, по-твоему, называется «прогнать»? – вскакивает Блемска. – Ну да, его-то прогнали, это пугало огородное… Но класс, который установил пугало, класс-то… Все сплошной обман… Главное – это класс, чтоб ты знал.
– Это в твоих книгах так написано? – спрашивает Лопе и хлопает рукой по комоду, в котором, как ему известно, хранятся Блемскины книги.
– В книгах? Да, в книгах тоже… но жизнь… в жизни все выглядит куда серьезней, чем в книгах!
– Ты, верно, никому не даешь их почитать? – осторожно выпытывает Лопе.
– Я мог бы… чтоб ваша Матильда разорвала их и пустила на растопку? Нет и нет! Ты еще и без книжек убедишься, что существуют классы.
Зима.
Дни в усадьбе пронизаны жужжанием молотилки. Снег, снег. Завихренные серо-белые стены между людьми и домами. Теперь настала очередь Труды изучать «Седьмую молитву» и «Предай господу пути твои». А Лопе приставлен к молотилке подавальщиком. Труда разрезает перевить снопа и передает сноп брату. Губы у нее все время шевелятся.
– Ты чего говоришь? – спрашивает Лопе. Ему приходится кричать, потому что машина грохочет, а зерна стучат и шуршат.
– «Утешайся господом, и он исполнит желание сердца твоего-о-о!» – кричит она в ответ.
– Ах, это ты для конфирмации…
А воскресные дни пасмурны. Небо словно затянуто пеленой. Сидя в своем углу за печкой, Лопе иногда даже не может разглядеть проволоку, которой связывает веники. А в сарае, на ларе с зерном, теперь не очень-то почитаешь. Холод, словно гигантская улитка, ползет вверх по ногам. Тогда Лопе заглядывает к Фердинанду либо к Блемске.
Так проходят воскресенья. Блемска говорит:
– Человек один ничего не может сделать, даже если башка у него полная, будто книжный шкаф в замке. Потому что глупость занимает еще больше места.
Фердинанд же говорит:
– Понимаешь, как бы это получше объяснить… человек прежде всего должен возвыситься в собственных глазах… он должен для начала освободить себя самого… он не может ждать, пока другие… никто за него стараться не станет…
– А вы свободны, господин конторщик? – спрашивает Лопе.
– Это значит некоторым образом… вовсе не обязательно, чтобы тело… чтобы можно было идти, куда вздумается… – Фердинанд хлопает себя бледной рукой по лбу, – но здесь… но мысли… я хочу сказать, мысли способны взмыть над любой телесной несвободой… как бы это получше выразить… не знаю, понимаешь ли ты меня…
Нет, Лопе его не понимает. Его мысли словно продираются через лес с густым подлеском. Он цепляется, застревает, и этому нет конца, и дороги не видать.
А дома все застойно и глухо. Запах горячего белья. Мать сует в утюг раскаленную железную пластину. В спальне храпит отец. Элизабет делает себе бусы из желудей. Труда сидит за столом и хнычет:
– Всем справили платье для конфирмации, только мне…
– Других забот у тебя нет, дрянь ты эдакая! – взвивается мать.
– Так и пойду в церковь в лохмотьях…
– Тебя вообще конфирмовать не станут, чтоб ты знала…
– Цыц, вы! – рявкает отец из спальни. – Па-арядок и чистота на бойне…
– А ты, пьянчуга, чего суешься?
Мать с грохотом захлопывает дверь в спальню. Тишина. Зернистый снег царапает оконные стекла.
Потом снова приходит весна. Вырывается из лесов. Белое зимнее одеяло расползается. Земля потягивается после сна, и одеяло трещит по всем швам. Земля заглатывает снег. Она гонит его вверх, на деревья. И там он лежит, благоухая, между ветвей. О, земля, земля!
Но человек не довольствуется тем, что она делает сама по себе, эта земля. Он теребит ее и гладит, тискает ее, похлопывает и разбрасывает ее комья. Своими плугами он вспарывает ей кожу, наносит ей царапины и раны, сует в раны всякие растения.
Вот и Лопе со своими волами оставляет на коже земли глубокие царапины. Волы фыркают, поскрипывает ярмо. Теперь у Лопе не бывает подряд по несколько свободных дней, которые принято называть каникулами. Наверно, он и впрямь стал взрослым. Он дал клички каждому из своих волов. Для него вол не «скотина» либо там «каторжный», нет, – он подыскал для них имена в своих книгах. Одного зовут «Вамба», другого «Ватусси».
– Так ни людей не зовут, ни волов, – дразнится Труда.
Но Лопе на это отвечает:
– Ты просто дура и ничего в своей жизни не читала, кроме Псалтыри.
А волы у Лопе, если хотите знать, поумнее иного человека. Они, к примеру, знают смотрителя и знают управляющего. И замечают приближение этих погонщиков, вернее, сверхпогонщиков, раньше, чем Лопе. Они чуют также, когда Лопе совершает прогулку по заросшей сорняками делянке своих мыслей, и в такие минуты работают с ленцой. Но когда их погонщик вновь натягивает мокрые штаны будней и кнут со свистом дергается вперед, Вамба и Ватусси ускоряют шаг и вертят хвостами, тем самым признавая, что их погонщик снова стал настоящим погонщиком, без дураков.
Деревня и усадьба проснулись к новой жизни. Повсюду бродят люди. У каждого есть какое-то дело. Для человека весна вроде кнута. Карлина Вемпель с тяжело груженной тачкой, шатаясь, бредет по дороге. Вот и она не умерла за зиму. Глянь-ка, а вон и смотритель Бремме, этот гномик юркнул в поле, поскреб землю в одном месте, поскреб в другом, и голосок у него дребезжит, будто лопнувшая часовая пружина.
А вот и торговец Кнорпель, маленький, седобородый, с бегающими глазками под низко нависшим лбом, который сплошь изборожден морщинами забот. Кнорпель не ходит, Кнорпель шмыгает. Он раскланивается, он болтает, изображает благодетеля, что-то заносит в свои тетрадки и все же остается чужаком на деревне. Есть люди, которые говорят, будто Кнорпель очень богат. Есть, напротив, такие, которые утверждают, будто он беден, как церковная крыса среди зимы, и до сих пор не помнит себя от радости, что ему удалось по дешевке откупить лавку покойной Крампихи.
Густав Пинк, председатель местного отделения социал-демократической партии, – один из тех, кто Кнорпеля на дух не переносит.
– Выходит, я затем добываю в шахте свои гроши и отношу их к нему, чтобы он мог разгуливать в крахмальной рубашке. Так, что ли?
Пинк предпочитает покупать для себя всякую мелочь в шахтерской лавке. Но, бывает, он забудет купить солодовый кофе или там булавки, и тогда фрау Пинк начинает причитать, что, мол, как далеко ходить до шахты, только подметки сбивать, после чего покупает всю эту мелочь у Кнорпеля. С непостоянных покупателей Кнорпель всегда берет на один-два пфеннига больше. Густав Пинк не знает, что его жена иногда делает покупки у Кнорпеля.
– Это пришлый кровопийца… от меня… да ни единого пфеннига, – выхваляется он.
Да-да, уж этот Кнорпель. Кстати сказать, Кнорпель ни в грош не ставит ферейн ветеранов.
– Детские забавы, – приговаривает он, – каски бумажные, винтовки деревянные.
– Он так говорит, этот торгаш, потому как сам войны не нюхал, – объясняет Шуцка Трубач, который председательствует в ферейне ветеранов. – Он отродясь не был солдатом, вот его и гложет. Только и всего. Мужичок с ноготок.
Но жена Шуцки Трубача, несмотря на это, покупает у Кнорпеля селедку, и повидло, и прочие хозяйственные мелочи.
Каждое воскресенье, о приходе которого господь бог возвещает ударами колокола по головам верующих, Кнорпеля можно видеть в церкви. На этом настаивает жена Кнорпеля. Чтобы угодить жене, он, мол, и отсиживает в церкви положенное время. Злые языки утверждают, будто он никогда не берет с собой молитвенник, будто под мышкой у него зажата расчетная книга и будто во время богослужения он ведет свою бухгалтерию.
Кнорпель не является также и членом социал-демократического ферейна, потому что Густав Пинк – председатель этого ферейна – у него не покупает, а поддерживает кооперативную лавку. Зато Кнорпель – член велосипедного ферейна «Солидарность».
– Все едино клуб для красных, – высказывается на этот счет управляющий Конрад.
Члены правления долго ломали голову, когда решали вопрос о приеме Кнорпеля. Дело в том, что велосипеда у Кнорпеля нет и не было и ездить на нем он, соответственно, не умел. Голову они ломали до тех пор, пока кого-то не осенило, что ферейну очень полезны платежеспособные члены. Кнорпеля приняли.