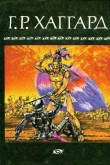Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Творчество Эрвина Штриттматтера – его значительная часть представлена на русском языке – не исчерпано этим обзором. Оно обширно и разнообразно. Художник продолжает свою неустанную, свою каждодневную, трудную, вдохновенную работу. Когда перед читателем такой большой и такой своеобычный художник, хочется узнать, с чего он начинал. А начинал он с «Погонщика волов». И это было прекрасное начало.
Сергей Львов
ПОГОНЩИК ВОЛОВ
Гансу Мархвице, другу и второму отцу – к шестидесятилетию
Звучный шлепок. Из недосмотренного сна Лопе попадает в явь. Правая щека горит огнем. Сна больше ни в одном глазу. Лопе садится в постели. Развевающийся подол материнской юбки исчезает за дверью. С грохотом защелкивается замок. Оплеуха. Он схлопотал оплеуху от матери, только и всего. Ему не впервой: мать его разбудила, он снова заснул, мать рассердилась.
Тру́да возится с жучком. Уголок пододеяльника в белый с красным цветочек служит оградой. Чтобы жук не уполз. Тонкий указательный палец Труды придерживает насекомое. Ноготь на этом пальце весь мокрый и обгрызен почти до мяса. Лопе косится в сторону бельевой корзины. Малышка спит. Мать подложила ей сухую пеленку. И ушла в поле. Лопе доволен. Он старается не шуметь, чтобы малышка проспала до обеда. Тогда не нужно будет менять ей пеленки. Он шепчет Труде:
– Сиди тихо, не то я отберу у тебя жука.
Труда кивает. Лопе снова падает навзничь. Уснуть бы. Может, удастся досмотреть прерванный сон.
А сон был таков.
Он сидит за партой. На месте первого ученика. Обычно он сидит на скамье для вшивых, на «вшивой скамье». Он сидит тихо. Вот-вот должен появиться учитель. В классе невообразимый шум. Лопе шепотом повторяет про себя домашнее задание. Он не хочет обмануть надежды учителя. Учитель входит.
– Здравствуйте, господин учитель! – заревел класс.
Тощий учитель пронзительно и бодро ответил:
– Здрр…
Его вытянутые в ниточку и подкрученные усы чуть дрогнули. Предвестие грозы.
Учитель швырнул книги на кафедру. Сам встал перед кафедрой, глядя в пол, опустил вниз сложенные руки и завел молитву:
– «Господь…»
– «…яви твою мне власть, чтобы на небо мне попасть» – подхватил класс.
Снова показались пронзительные серые зрачки учителя, он прокашлялся и запел:
– «Я издалека…»
– «…твой престол узрел, – надсаживался класс, – и всей душой к нему я полетел, и с радостью земную жизнь свою…»
Учитель не опускал больше взгляда, а рыскал им по классу. Переводил глаза с одного рта на другой, искал, кто не поет. И углядел Лопе. Брови учителя опустились до самых век. Переносица превратилась в глубокий рубец. Учитель знаками велел классу петь дальше и сам продолжал уже на ходу:
– «Те-е-е-бе, творец, я нынче отдаю…» – Потом он выгнул спину горбом, все равно что кошка. – Как это тебе взбрело в голову, – его голос прорезал последние раскаты песни, – как это тебе взбрело в голову сесть на первую парту? Хочешь всей шайке напустить своих вшей?
Лопе вскочил с места. Он хотел предъявить разъяренному учителю выполненное домашнее задание.
Но поздно. Учитель уже подошел к нему. Он воздел руку. Лопе ощутил легкое движение воздуха. Оплеуха запылала на его щеке. Но влепила ее мать. Сон мог кончиться по-другому. Но мать помешала. Может, ему удалось бы задобрить учителя домашним заданием. Ведь не совсем же сдуру занял он место первого ученика.
Лопе силится заснуть по второму разу. А сам все больше и больше просыпается. Труда начинает уговаривать своего жучка. И тут Лопе совсем отказывается от намерения доспать и досмотреть сон. Он выкатывается из постели. В спальне – холодный каменный пол. Лопе скачет на одной ножке в кухню. Там он смачивает волосы. Чтобы можно было подумать, будто он умывался. Тонкие, бледные ноги Лопе ныряют в штаны. Дыра. В дыре застревает большой палец. Штаны Лопе порвал вчера. Об забор из колючей проволоки, что идет вокруг выгона. Штаны зацепились и промолвили: тресь! Дыра зияет, как разинутая пасть. Рубаха сверкает из-под нее, словно полоска зубов. Вчера вечером он сунул штаны за печь. Пришлось, из-за матери. А теперь дыру надо зашить. Он сует черенок метлы в дверную ручку. Чтобы запереться от Труды. Она еще мала, может проболтаться. Черные нитки все вышли. Он берет пригоршню печной сажи и чернит белые. Потом стягивает дыру. А складки разминает худыми ладошками. И снова ноги Лопе, будто две белые стрелки, ныряют в штанины. Теперь можно вытащить метлу из дверной ручки. Тем более что Труда уже дернула дверь. Лопе с деловым видом сметает золу к печке. Труда входит. Она улыбается. Тонкая правая ручонка что-то сжимает в кулаке.
– Мне нужна коробка.
Он дает ей пустой спичечный коробок для жука.
– Умывайся нынче сама. Мне некогда.
– Вода холодная?
– Да.
Труда ревет. Лопе становится ее жалко. Жалость порой сидит у него в груди, а порой – в глазах. Сегодня жалость помогла ему сберечь время и силы.
– Ну ладно, только матери не говори.
Да еще этот сон. Он слишком долго провалялся сегодня в постели. Теперь нужно выстирать и прополоскать пеленки, они уже замочены в большой деревянной бадье, возле печки. Лопе работает торопливо и небрежно.
Пеленки надо прокипятить. Кухню заполняет едкий пар. Лопе отрезает хлеб для себя и сестры. На ковриге мать ногтем большого пальца сделала наметку, как делает каждое утро перед работой. Отрезать можно до этой наметки. Получается два куска. Лопе разливает по мискам уже сваренный суп из ржаной сечки. Оба едят, пыхтя и бренча мисками, выедают все до дна, подбирают из горшка остатки, выскребают каждую крошку и все никак не могут наесться. Грязным ногтем большого пальца Лопе делает на ковриге свою наметку, что дает в итоге тоненький кусочек, который Лопе и делит с сестрой.
– Вот так. Теперь хватит, – говорит Лопе, чтобы унять собственный аппетит.
Потом он развешивает на веревке выстиранные, в желтых подтеках, пеленки. Малышка в корзине спит. Слава тебе господи, все еще спит. Труда пусть идет на усадьбу. Не то она своими песнями разбудит малышку. Лопе прячет аспидную доску между книгой для чтения и учебником арифметики и сует все это под мышку вместе с пеналом. Потом он запирает дверь, а ключ вешает себе на шею.
В перемену Лопе мчится домой. Малышка проснулась и кричит. Лопе должен ее перепеленать. Потом он возвращается в класс. Остальные уже сидят за партами, сложив руки для молитвы.
– Где ты шатался? – Голос учителя хлещет, как удар кнута.
– Я… бегал домой поесть, – лжет Лопе. Он не хочет, чтобы его потом дразнили. Перепеленывать младенцев – занятие для девчонок.
– Опять ты жрал дольше положенного. – Теперь голос учителя ехидный и желчный. Учитель шествует по классу. Глаза у него похожи на стеклянные пуговицы – серые, с прозеленью. Он замедляет шаг возле корзинки для бумаги.
– Это кто опять выбросил сюда бутерброд?
Курт Крумме, сын безземельного крестьянина, втягивает голову в плечи. Толстые пальцы некоторых девочек указывают на него. Глаза учителя ввинчиваются в лицо Курта Крумме. Нерешительно, припадая на одну ногу, Курт вылезает из-за парты.
– Сколько тебе раз говорить: корзинка для бумаг – не место для хлеба. До каких пор вам повторять: кто не хочет есть завтрак, пусть кладет его на кафедру. Я отнесу своим курам.
Альберт Шнайдер тащит свой бутерброд.
– Господи, да он спятил… с ветчиной! – Это шепчет Пауле Венскат, что сидит на первой парте. Щупленький Пауле Венскат.
Тина Фюрвелл, дочь шахтера, кладет рядом свой хлеб с маргарином. Орге Пинк шлепает поверх несколько кусков хлеба, намазанных сливовым повидлом. Ястребиные глаза учителя устремлены на кафедру. Лопе лег на переднюю парту. Он ждет порки за опоздание. Но учитель всецело занят бутербродами. Лопе покорно лежит на парте. По классу пробегает смешок. Зарубка на переносице учителя разглаживается, он подходит к Лопе, поднимает его и ограничивается легким подзатыльником.
– Чтоб завтра вовремя, ясно?
Насчет «вовремя» – это целиком зависит от маленькой сестренки. А с побоями – все равно как беспроигрышная лотерея. Когда малышка лежит мокрая, она плачет и мать бьет его деревянным башмаком. Если же перепеленывать малышку, он опаздывает в школу, и тогда учитель бьет его тростью. Сегодня все обошлось благополучно. Лопе выбирает побои учителя. Зато малышка пусть лежит на сухом.
Лопе садится на свою «вшивую скамью». Как-то раз, давно уже, Труда понабралась вшей у цыган. Цыгане стояли табором на деревенском выгоне и жарили себе ежа. Это событие едва успело стать воспоминанием в детских умах, как учитель обнаружил вошь в буйных космах Лопе. Он углядел ее пронзительным взглядом хищной птицы. И пересадил Лопе на «вшивую скамью». «Вшивая скамья» стоит поодаль от других, вдоль длинной стены класса. Не одно поколение вшивцев от скуки вырезало на крышке парты свои инициалы. Крупные, нескладные буквы, промазанные чернилами.
Ах, вши, значит! Мать тогда перетрясла весь семейный гардероб, как носимую одежду, так и висящую. В вещах нет-нет и попадалась платяная вошка. Одна – на себе, другая – у отца. И еще головные – у Труды. В этот день мать не вышла на работу – ни в поле, ни в господский сад. Будь что будет, но терпеть вшей?! Нет и нет! Началась великая чистка и мойка. Отец наголо обчекрыжил Лопе. По непонятной причине он был в этот день трезвый. Поэтому узкий затылок мальчика, словно виноградник на склоне, избороздили обрывы, лесенки и ступеньки. Волосы Труды мать намазала сабадиллой, и несколько дней Труда ходила, повязавшись платком. А уж после этого милостивая госпожа могла бы без всякой опаски отзавтракать в своем лучшем манто на полу у Кляйнерманов и не нанести вшей в замок. Еще долгое время после этой истории мать ежевечерне проверяла густые лохмы Труды и не обнаруживала в них никакой живности. Но Лопе так и остался сидеть на «вшивой скамье». И урок развертывался перед его глазами, никак его не задевая. Точно так же было однажды, когда Лопе болел и лежал в постели. Все сидели за столом и ели картошку в мундире, а он только смотрел. Он был как гость в школе. Как сын бродячего кукольника, который через несколько дней уедет дальше со своим фургоном, у которого нет настоящих учебников, которого никогда не вызывают к доске. Лопе искал случая отличиться. Он лез на глаза учителю. Его наголо остриженный череп был отлично виден. На этом фоне вошь выглядела бы, как слон посреди пустыни. Но взгляд серо-зеленых глаз учителя словно соскальзывал с гладкой поверхности и устремлялся к другим предметам. Когда случилась эта история с вшами, Готлоб Кляйнерман, отец Лопе, перестал бриться. Он решил экономить деньги. Бросить пить. Черт его знает, чего ради он все это затеял. Может, он хотел откупить у его милости двух старых лошадей? Может, он хотел высвободиться из кабалы, стать самостоятельным человеком?
Потом-то все опять пошло нормально. Липе Кляйнерман снова начал пить. По праздникам он не работал из принципа, пропади оно все пропадом. В обычные воскресенья его жена, Матильда, работала то в господском саду, то в теплице, то на господской кухне. А Липе отправлялся к парикмахеру – бриться.
У парикмахера можно услышать множество новостей:
– Жена кайзера заболела. Ведь это ж надо!
– В Саксонии стреляют в красных боевыми патронами.
– В красных, говоришь? И правильно делают. Красные – это которые не желают работать. Они только хотят все поделить. Но ежели не работать, тогда и делить будет нечего.
В трактире у Вильма Тюделя Липе для начала заказывает рюмочку водки. Почему бы и нет? Как-никак у нас нынче воскресенье.
– Почему они не желают работать как все порядочные немцы, эти самые красные? Еще рюмочку мятной! Если человек не работает, а только бастует, ему в голову лезут дурацкие мысли. А теперь рюмочку полынной горькой! На закуску. Хорошо для желудка.
После этого Липе возвращается домой. От бороды он избавился. Язык у него заплетается. Но заплетающимся языком он пытается говорить по-городскому, без диалекта. И требует, чтобы дети отвечали ему так же. После «ккынфирмации» он мечтал сделаться «рремесленником», мясником, другими словами. Уже на последнем году школы он подсоблял на бойне у деревенского мясника. Но волы его милости сжевали мечты Липе.
– А на бойне первое дело – чистота и порядок. – Липе хватает со скамейки ведро с водой и опрокидывает его на кухонный пол. Все идет как по-писаному: Труда, хныча, берет веник и тряпку и разгоняет воду по всей кухне.
– Этот босяк уже снова бегает с длинными патлами вокруг котла? Он, верно, хочет напустить вшей в похлебку?
Эти слова – как команда для Лопе. Он приносит полотенце и ножницы, садится на шаткую скамеечку и укрывает полотенцем плечи. Отец, покачиваясь, идет к тайнику и извлекает оттуда гребешок. Почему из тайника? А потому. Зачем детям гребешок? Они только зубья зря повыломают. Начинается стрижка. В пьяном виде Липе осуществляет эту операцию искусно и терпеливо. Тут виноградника и в помине нет. Все гладко, все аккуратно. А за работой отец делится воспоминаниями о бойне и о том, как перегонял скот. Он мастер на все руки, этот отец. Надо делать колбасу – пожалуйста. Надо забить быка – тоже пожалуйста. Огромного быка, такого, которого выпускают из хлева, только стреножив передние ноги и с козырьком над глазами. Дети вполне довольны. Когда отец напьется, с ним весело. Они и сами не упускают случая напомнить ему то про одно, то про другое. Они уже знают наперечет все его истории.
– У коровы, значит, были ноги коротковаты… э-э… нет. Коги норотковаты, – поправляется Липе.
Один раз от чрезмерного усердия и лихости он за компанию остриг наголо и ревущую, сопротивляющуюся Труду.
– У тебя небось тоже вшей навалом. На бойне первое дело – чист-аата и пааррядок…
Но по обычным дням отца в доме не видно и не слышно. Вернувшись вечером из усадьбы, он молча ужинает и садится на теплую лежанку. Сидит себе там, жует табак и вяжет веники либо чинит упряжь. Его маленькие, серые, порой грустные глаза редко отрываются от работы. Он до боли, до сердечных ран размышляет о своей судьбе. Судьба явно стакнулась с барином. По воскресеньям Липе врачует алкоголем боль от сердечных ран. А в будние дни по вечерам вяжет веники и тем зарабатывает деньги на воскресное леченье. За работой Липе иногда засыпает. Голова у него свешивается на грудь. Изо рта бежит струйка слюны. Губа отвисает, обнажая обломки зубов. И вот уже голова падает на прутья голика, и Липе становится похож на гнома с веничной бородой. Дети весело шмыгают в спальню. В такие вечера Липе даже и не пробует добраться до своей постели. Он остается спать, как был, на широкой лежанке. Его жена, Матильда, разговаривает с ним, будто с малым ребенком. Она, а не Липе – капитан маленького семейного кораблика, Липе даже и не штурман. На этом семейном корабле он лишь объехал некогда вокруг бакена. Под бакеном подразумевается семнадцатый год его жизни. Мысли, будто прожорливые чайки, кружат над его семнадцатым годом. Когда он женился на Матильде, верней, когда Матильда его взяла, в нем еще раз ярким пламенем вспыхнули мечты о другой жизни. Тогда ему шел двадцать пятый год. Ее подпирали сроки. И она была работящая, будто пчела. За что, бывало, ни возьмется, все так и трещит от ее хватки. Вот он и понадеялся, что Матильда ему поможет. Но тут пошли дети. Много раньше, чем хотелось бы. Порой за узким лбом Липе возникали разные соображения насчет того, как выбраться из убожества. Но эти огольцы, вечно голодные, вечно ревущие, не давали им ходу. Даже с женой Липе своими мыслями не делился. Впрочем, может, она и без слов о них догадывалась. Нет, он, конечное дело, не противоречил. Раз уж дети есть, куда от них денешься. Дети стали пружиной того механизма, который работал и снашивался по будням.
Он редко выходит из себя, редко артачится. Кроме воскресений, после визита к парикмахеру. По воскресеньям умолкает Матильда. Пусть себе льет воду на пол, старый болван. Лишь бы других глупостей не делал. В такие дни она легко мирится с его дурацким важничаньем.
Липе работает на усадьбе. У него под началом две лошади, это уже вторая упряжка, а скоро и она сменится. Значит, Липе хороший кучер. Лошади, сбруя и всякая утварь выходят как новенькие из его потрескавшихся рук. Изредка по вечерам Липе не сидит на своем законном месте возле печки. Тогда вся семья дожидается его с ужином. Мать беспокойно снует по кухне и украдкой поглядывает в окно. Скорее по привычке, – в окно только и увидишь, что четырехугольник тьмы.
– Небось опять надумал что-нибудь толкнуть, – ворчит Матильда своим мужским голосом. Мясистые губы произносят слова, почти не двигаясь. Толкнуть? Этот вид работы Лопе еще не знаком. Наверно, это такая работа, о которой детям знать не положено. Когда покрывают коров или когда они телятся, это тоже не для малышей. Дайте срок, Лопе вырастет, тогда он, верно, узнает, что значит «толкнуть».
Но ему не приходится ждать. Как-то вечером отец уводит его прямо от ужина. Они идут в усадьбу. Там Лопе велено стать перед дверью конюшни.
– Ты уже не маленький, можешь кое в чем подсобить отцу.
На усадьбе нет никого, кроме смотрителевой жены, – та громыхает ведрами у колодца. Движением худого дрожащего тела отец указывает на нее.
– Когда она уйдет, насвисти какую-нибудь песенку.
Смотрительша уходит и захлопывает за собой дверь своей квартиры. Лопе свистит: «Однажды девушка пошла по ежевику…»
Появляется отец. С полным мешком. Мешок лежит у него на плечах и отчасти – на шее. На всякий случай он тоже оглядывается по сторонам. От тяжести он не может вертеть головой и только поводит глазами. Они идут выгоном. Отец велит, чтобы Лопе держался шагов на тридцать впереди, а если кого увидит, чтобы снова посвистел.
– Ту же песню или другую?
– А не все одно? – кряхтит отец.
Они миновали выгон и теперь идут задами.
– К булочнику, – стонет Липе под тяжестью мешка.
Мальчик шустро топает впереди. Он идет без опаски, словно средь бела дня. Что с ним может случиться, когда рядом отец? Это непривычное, это хорошее чувство. Все луга мокрые от вечерней росы. Звезды сверкают на темном, будто вороново крыло, небе, так сверкают искры в печной топке. В траве кто-то стрекочет. В листве кто-то шуршит. И еще кто-то черный стоит на краю поля. Лопе вздрагивает. От страха губы сами по себе расползаются и никак не хотят сложиться для свиста.
– «Жди терпеливо, о, моя душа…» – высвистывает он наконец. Тотчас что-то глухо падает в траву. Это отец сбросил с плеч мешок и скатился в маленькую канавку.
– «…господь не оставит тебя», – продолжает Лопе. А сам все смотрит на темный продолговатый предмет. Тот не движется. Лопе из озорства выдергивает пучок травы и швыряет его в темный предмет. Тем временем Липе кладет шершавую руку на плечо сыну.
– Где? – спрашивает он, все еще отдуваясь. Мальчик сперва пугается, но, быстро успокоившись, тычет дрожащей рукой, которая так и подлетела от страха, в это черное нечто на краю поля.
– Ду-урак, – ворчит отец. – Это ж старая слива. С нее последним градом сбило макушку.
Липе берет мальчика за руку. Липе ведет его. Первый раз в жизни Лопе идет, держась за отцовскую руку.
Большая, потрескавшаяся рука отца чуть заметно подрагивает. Где-то там, под кожей. Лопе пытается разглядеть в темноте его лицо. Левой рукой отец утирает пот со лба и с глаз.
– Если увидишь кого-нибудь еще, скажешь: «Вот сейчас оно будет, это гнездо. Там куропатка сидит на яйцах».
– Какая куропатка?
– Ну, куропатка и куропатка…
Перед ними и в самом деле обломанная слива. Липе облегченно вздыхает.
– Теперь ты и сам видишь, что нечего сразу пугаться.
Отец возвращается на прежнее место, подбирает свой мешок. Они приходят к булочнику. Здесь Липе движется вполне уверенно. Ворота только притворены. Липе толкает их ногой. Они пересекают двор и заходят в пекарню. Там стоит булочник в белом фартуке. Он бросает на мальчика недовольный взгляд. Липе отводит булочника в сторону, и они начинают шептаться.
– Нет-нет, и не думай. – Липе недовольно тычет носком в мешок. Там что-то сухо хрустит.
Лопе отродясь не бывал в пекарне. Хлеб для семьи он покупает в лавке. Новые впечатления проникают через блестящие глаза Лопе. Блеклая голубизна между воспаленными веками делает их похожими на маленькие пестрые оконца. Итак, вот большая печь, вот дежи, а вот тестомешалка. Пузатый булочник бочком выскальзывает из пекарни. Отец все еще не отдышался. Булочник возвращается и сует Лопе длинный леденец. Теперь Лопе ничего не видит, кроме своего леденца, – ни лопат, ни противней.
Домой они возвращаются той же дорогой. Пекарня исчезает в вечернем тумане. Липе шагает, распрямив коленки.
– А теперь давай ешь свой леденец. Он только для тебя. Ты его заработал. Баб угощать нечего.
Лопе кивает с довольным видом. И откусывает кусок от своего леденца. Отец остановился. Он бренчит монетами, он достает их из кармана и пытается сосчитать в темноте. Лопе тоже останавливается и, хрумкая, поворачивается к отцу.
– Смотри, не проболтайся Труде, где мы были. Ты уже скоро взрослый будешь. Мужчина. Бабью не положено все знать.
Лопе сует в рукав остаток леденца. Мужчины не едят леденцов. Липе кладет понемножку денег в каждый карман. Теперь он не держит сына за руку. Теперь незачем. Про сломанную сливу они уже знают.
Липе становится веселый и разговорчивый. Как ни крути, а Лопе уже почти взрослый. И пора ему узнать кое-что из того, о чем детям не рассказывают. Пусть для начала придет поглядит, как телятся коровы. Лопе снова взялся за свой леденец. Обмусоленный кончик леденца так и сверкает в лунном свете.
– Ты думаешь, я сделал что-нибудь нехорошее? – спрашивает отец скорее себя самого, чем Лопе. Оказывается, он весь месяц хорошо распределял отпущенный для лошадей корм и у него остался лишний овес. Лопе заглатывает последний кусок лакомства.
– Вот ты отвечай, может хоть кто-нибудь сказать про моих лошадей, что это худые клячи? – любопытствует отец.
– М-м-м, никто, – говорит Лопе.
В лошадях он пока не очень-то разбирается.
– Ты погляди, как оно получается: картошка, семечки – и лошади становятся толстые, как улитки.
Лопе глядит на луну, облизывает мокрые пальцы и молча кивает.
– Так что же, по-твоему, – вдруг заводится отец, – отдавать лишний овес управляющему?
Лопе, собственно, ничего не сказал. И уж, конечно, он не считает своего отца таким дураком. Еще чего – отдавать! Слова беседы, которую Липе ведет с самим собой, выпрыгивают у него изо рта, будто лягушки: да ни один кучер ни в жисть не отдаст наэкономленного. Представь, что получится, если он, Липе, вдруг начнет отдавать. Его ж остальные кучера со свету сживут. Как? Обыкновенно.
Мать встречает их воркотней.
– Все давно остыло. Зачем мальчишке допоздна где-то шататься?
Липе, оттопырив щеки, дует на картофелину и сдирает с нее кожуру.
– Чего это у тебя красное на пальцах? Кровь, шла?
Лопе мотает головой и облизывает пальцы, чтобы продлить удовольствие. После еды он тихонько шмыгает в спальню. Труда и малышка уже спят. Кровать залита серебристым светом луны. Это все та же короткая детская кровать. И Лопе делит ее с Трудой. Но вскорости он должен получить длинную. «Ты уже скоро будешь взрослый». Ведь не может взрослый мужчина спать вместе с «бабьем».
Липе сидит на лежанке, положив ногу на ногу. Глаза его внимательно следят за движениями правой ноги в деревянном башмаке. Руки прижаты к карманам куртки.
– Ты, верно, совсем рехнулся! – И Матильда упирает руки в бока. Нос картошкой прямо побелел. Уголки губ словно проволочки, натянутые злобой. Резче обозначились на лице все складки. – Какого черта ты брал с собой мальчика? Чтоб самому не обделаться со страху?
– У него глаза позорче моих будут, а я хотел… вот тебе от меня деньги на ботинки. – Липе смотрит на нее снизу вверх и сует руку в карман.
– Мне на ботинки? На ботинки, говоришь? Молчал бы лучше. На водку, а не на ботинки. Можешь оставить свои сребреники себе. На ботинки я и сама заработаю. Заруби это себе на носу. Костьми лягу, а заработаю.
– То-то, что ляжешь…
– Ах, то-то! Плевала я на такие ботинки! Вот поймают тебя, будут тебе ботинки! Да еще мальчика взял. Нет, лучше не суйся ко мне!
По справедливости половина денег, полученных за овес, так и так должна была принадлежать Липе. Но кто может заранее знать, что Липе и впрямь собирается их пропить? Может, у него были какие-то планы. Бывают же планы у других людей. Почему ж им не быть и у Липе… Одна беда, никто больше не верит в его планы.
Так он и сидит на своей лежанке. Он бы рад проспать всю ночь на зубьях бороны, лишь бы доказать жене, что у него были самые лучшие намерения.
Там, где замковый парк еще не начал щеголять лжетсугой, пробковым дубом и миндалем, приютилась усадебная контора. Она стоит под заурядными отечественными березками, акациями и темными соснами. Она выстроена из того же камня, крыта той же штукатуркой, увенчана теми же сверкающими плитами, что и господский замок. Правда, она не возносится к небу так высоко и торжественно, как он, но зато она и не такая низкая и темная, как домишки работников. Плющ и дикий виноград обвивают ее дверь и окна. Сплошная стена из зеленых листьев. Райское приволье для трех, а то и четырех сотен усадебных воробьев. Когда на управляющего находит буйный стих, он палит по воробьям из дробовика.
– Воробьи, что пролетарии среди других птиц, ха-ха-ха.
Голос управляющего. Его знает в усадьбе каждая травинка, и все, кто его ни заслышит, съеживаются от почтения. Голос заполняет двор, огород и добрую половину парка. Будто идешь босиком по стерне – такой он твердый, шершавый и колючий, этот голос. Картофельная водка – произведение местной винокурни – сделала его таким колючим.
– Все заросли убрать… – царапает голос, удаляясь, – убрать к чертям… – раскатывается он по гумну. – Один воробей по самым скромным подсчетам склевывает за день до двадцати граммов зерна. Берем на круг триста воробьев, за день получается шесть килограммчиков. Значит, по скромным подсчетам, триста воробьев съедают за год две тысячи сто девяносто килограммов или, другими словами, сорок три центнера и сто фунтов.
Но милостивый господин именно в этом вопросе глух к доводам разума.
– Учтите, дорогой Конрад, в этих зарослях гнездятся также мухоловки и каменные дрозды.
– Не гнездятся, господин ландрат, а гнездились, потому что с этим наглым воробьиным племенем не уживается ни одна порядочная птица!
– И воробьи питаются не только зерном, но и прочими дарами природы.
– Ну да, дарами, как-то: вишни, салат, проклюнувшийся горох и тому подобное.
– Я говорю про червей и улиток.
– Если засунуть их прямо воробью в клюв, тогда, может, и будут питаться, ваша милость.
– Да подите вы, Конрад, я ведь, слава богу, не первый день живу на свете.
Стычка из-за воробьев окончена. Тихо шелестят листья на зеленой стене. Спугнутые птицы с криком возвращаются к своим гнездам.
Не только управляющий с женой проживают в этом домике, живет там еще один человек, и ему воробьи совсем не мешают. Это конторщик Фердинанд. Сын деревенского мельника.
Говорят, он в детстве был очень умный. О его уме до сих пор вспоминают в усадьбе и в деревне. Но сейчас об этом судить трудно. Отец хотел сделать из него священника. И послал его в окружной центр Ладенберг, в гимназию. На то были свои причины. Местный священник как-то в одной притче помянул мельника, который подмешивал в муку отруби. И тогда отец Фердинанда покинул церковь, как покинул бы в подобной ситуации любое другое собрание. А покинув, дал клятву никогда больше не переступать ее порога, хоть она вся сгори. Втайне же он дожидался того дня, когда на церковную кафедру взойдет его сын и прочтет напутственную проповедь на отставку нынешнего серого попа. Таким путем он хотел доказать, что голова мельника годится на все – хоть бы и проповеди читать, тогда как священника в жизни не выучишь правильно обращаться с зерном.
И Фердинанд, в башмаках, подбитых гвоздями, начал ходить в городскую школу. Домой он теперь приезжал только на каникулы.
На каникулах он бегал босиком, таскал яички из птичьих гнезд, дивился на маленькие деревенские домишки, а на ужин картошку ел только чищеную.
Когда ему минуло шестнадцать, а в школе он по-прежнему носил черный парадный костюм своего отца, он влюбился в господскую дочь. Звали барышню Кримхильда фон Рендсбург. Ей в ту пору минуло пятнадцать. Воспитывала ее домашняя учительница. Братья еще маленькие, учительница какая-то странная, отец и мать вечно заняты другими делами, деревенские девушки слишком глупы, парни слишком дерзки. Оставался только сын мельника, единственный человек на всю деревню, с которым во время летних каникул можно было поговорить о прочитанных романах, хотя, надо полагать, они говорили не только об этом. Каникулы прошли, а Фердинанд не пожелал возвращаться в школу. Отцу он объяснил, что и так достаточно знает. Отец вытаращил глаза из-под припорошенных мукой ресниц. Он выдрал сына и запер его в чулане сроком на три дня. Но и это ни к чему не привело. И тогда старик, охая и кряхтя, решил оставить сына учеником при мельнице.
Фердинанд был не слишком высокого мнения о мельничном деле. Он не желал походить на зайца-беляка и выглядеть словно белый трубочист. Он не затем ходил в гимназию. Тогда мельник просто-напросто выгнал его.
Кримхильде фон Рендсбург казалось очень забавным, что в нее так сильно влюбился деревенский мальчик. Точь-в-точь, как в одном из читанных ею романов. Она чрезвычайно гордилась тем, что Фердинанд – подлинное дитя природы. Она считала его чрезвычайно сильным, потому что из любви к ней он осмелился пойти наперекор отцовской воле. В смятении, заливаясь слезами, она кликнула на подмогу своего отца. Она заклинала его дать Фердинанду место в конторе имения. Старый господин фон Рендсбург нахмурил высокий лоб. Он не питал особых симпатий к недоучившимся гимназистам. Вероятно, потому, что сам был из их числа. Но Кримхильда стояла на своем и умолила отца не разрушать ее любовь. Правда, слово «любовь» она не произнесла, а назвала это «дружбой». В конце концов фон Рендсбург уступил настояниям своей избалованной дочери. За стол и деньги на мелкие расходы Фердинанд был принят в контору учеником без жалованья.
Как выяснилось, это была довольно удачная мысль. Цифры, выводимые рукой прежнего конторщика Ладевига, начали приобретать дрожащие очертания. Его милость с великим неудовольствием заставлял себя просматривать написанные Ладевигом счета. А год спустя Ладевиг умер, и Фердинанд стал главным конторщиком усадьбы.
Но год спустя выяснилось и другое обстоятельство, а именно, что любовь между Кримхильдой и Фердинандом отнюдь не пылает, как пожар. Во всяком случае, со стороны Кримхильды ее можно было уподобить куску бурого угля, догорающего в печи господской кухни. За истекший год она выучилась скакать по полям и лугам на необъезженных лошадях. Темперамент, которым мог ее попотчевать конторщик Фердинанд, был, на взгляд Кримхильды, слишком ничтожен. Теперь ей казалось недостаточным, что голубые, как небо, глаза Фердинанда изо дня в день сопровождают каждый ее шаг. Она жаждала истинно мужских поступков. Но что прикажете делать Фердинанду? Может, ему прыгнуть в ров, окружающий замок? И, рискуя жизнью, сорвать для нее кувшинку среди цепких водорослей?