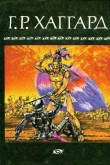Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
– На мне одна только ночная рубашка, – говорит она, перегибаясь из окна и не закрывая вырез.
– Вы напрасно так легкомысленны, вы легко можете простудиться… Может, даже и не простудиться, но земля порой источает ночью испарения, которые не особенно хороши для тела, и прежде всего – для голого тела.
Так они общаются друг с другом. Она бросает огненные шарики кокетства, он кидает назад мягкие перья.
Лопе пришла в голову отличная мысль. В придачу к имевшемуся у него красному карандашу он получил еще один карандаш от лавочницы. Да под соломенным тюфяком его кровати уже лежат три чистых блокнота. Мать решила, что их можно носить в школу вместо тетрадей, но учитель на это сказал: «Без линеек? Ты что, рехнулся? Изволь принести настоящую тетрадь!»
И, стало быть, Лопе может записать в этот блокнот сказку, которую сам сочинил. Он идет в кусты позади своей скамьи и пишет там сказку про свинячью свадьбу:
«Жыла-была свинья, и ниправда, что у нее была сватьба. Орге Пинк сказал, это враки. А я сам видил, как одна свинья палезла на другую и бороф захрюкал. Сколько раз хрюкнит, столько будит парасят, сказал Клаус Тюдель. Его назначили свиньячьим каралем и если они не помирли так живут и посийчас. Писал Лопе Клянирман».
Он снова кладет блокнот под тюфяк, к двум остальным. На следующий вечер блокнот вместе с двумя оплеухами обрушивается на голову Лопе. Потом мать швыряет его в печку.
– Девять лет парню, а такой пакостник, это ж надо!
Она глядит на отца, тот отрывается от своих веников.
– А в кого он, по-твоему, такой, в меня, что ли? Ну уж нет, он в тебя или в…
– Помалкивай лучше! Штаны у него от тебя.
Липе некоторое время глядит на нож в своей руке, после чего молча возобновляет прерванную работу.
В полном разочаровании Лопе идет спать. Наверно, он наделал уйму ошибок. Когда он немножко подрастет и научится писать без ошибок, он сочинит сказку про мальчика, который вечно сидел на «вшивой скамье», а потом все-таки стал королем. И эту сказку он покажет Фердинанду.
Весна поднимается все выше. Весна подгоняет. И отношения между конторщиком и женой управляющего тоже не остаются на прежнем уровне. Потому что как-то раз Фердинанд все-таки подхватывает один из ее огненных мячиков.
– Я здесь просто больше не выдержу, – так говорит она однажды вечером. – Я вечно жду, а потом он заявляется и отыскивает свою постель на кухне. Он укрывается скатертью, спит на скамейке для молочных кувшинов и ласкает центрифугу.
Тут даже конторщик невольно смеется. Смех в нем поднимается из какой-то глубины. Тогда она храбро продолжает:
– Сейчас я пойду в парк, и если вы со мной не пойдете, вам придется отвечать, если меня до смерти напугает какой-нибудь зверь или сова.
Фердинанд чувствует, как его щеки заливает краска. Удары сердца звучат будто удары в полный сундук. Хоровод возможностей кружится перед его глазами.
– Вы, может, подумаете, что я навязываюсь и вообще… но просто мне кажется, что вы меня понимаете… что я… я испытываю к вам доверие.
Ее слова вторгаются в фантазии Фердинанда, они звучат как призыв. Он чувствует, что должен ответить.
– …Вы ведь не собираетесь идти просто так… я хочу сказать, в одной…
– Конечно же, нет. Вот видите, как вы плохо обо мне думаете. – Она ныряет в глубину комнаты, отыскивая платье.
– Что вы, я вовсе не думал… Вы меня еще слышите?
Ответа нет. Тут и его окно пустеет. Закрываются два окна, бесшумно открываются две двери и так же бесшумно запираются. Два человека, затаив дыхание, слушают где-то в горле биение своего сердца.
Ночью усадьба выглядит, как и всегда об эту пору. Липе Кляйнерман ворочается без сна в воспоминаниях молодости. У смотрителевой жены приступ кашля. Служанка винокура штопает чулки. Сам винокур играет с управляющим в карты.
– Сорок! У тебя что, козырей больше нет? Ты почему не кроешь!
– А ты сдал мне всего три карты.
– Погляди, у меня шесть. А где остальные?
Некоторое время они препираются, потом смеются, потом лезут под стол за недостающими картами. Фрида Венскат при оплывающей свече читает романы, «Ласточка-касаточка», превосходные романы для семейного чтения, сто выпусков. Лошади на конюшне лязгают цепями в своих денниках. Мычит корова, которой пришла пора телиться. В замковой кухне две служанки не дают друг другу уснуть, рассказывая страшные истории.
– Он вскорости позвонит, чтоб принесли ему ночной чай, так сегодня пойдешь ты, – зевая, говорит одна. – Не могу я каждый вечер… Я, знаешь, как устала. О, господи… А ему все мало, все мало.
– А ничего, что я пойду? – спрашивает другая, загораясь жаждой приключений, и вздрагивает всем телом. – Где хоть его пижама-то ночная лежит, если он прикажет подать?
– А-а-а, – зевает первая, – она лежит сложенная у него на подушке. Ну, сама увидишь…
Над крышей амбара, словно птичьи тени, шныряют летучие мыши. В живой изгороди шныряют мыши-малютки. Бузина издает по-ночному густой запах. В замковой кухне дребезжит звонок.
Фердинанд и жена управляющего бредут по парку. Они молчат. Они сейчас словно дети, которые украдкой трясут полную зрелых плодов яблоню: плоды падают в траву, но карманы у детей слишком маленькие, туда их не сложишь.
– Прекрасная ночь, – бойко говорит она и смотрит ввысь, поверх его головы.
– Да, – говорит он, зябко передергиваясь. И прячет одну руку в карман своего черного пиджака.
Она воспринимает этот жест как некое откровение.
– У вас замерзли руки?
Он снова вынимает руку из кармана.
– Нет, не могу сказать, чтобы замерзли, это скорей такая привычка.
Она хватает его за руку, она чувствует трепет этой руки.
– Да, рука и в самом деле не холодная, но какая у вас мягкая кожа, какие тонкие пальцы, ну, прямо детская ручка.
– Да, да… – Он позволяет ей мять и тискать свою руку, будто носовой платок.
– Ах, если бы вы были моим деточкой, моим большим сыночком!
– Кха-кха, кхм-кхм, угум.
Она сама смеется над своей выдумкой.
– Уж тогда бы, наверно, никто не возражал, что мы тут гуляем…
– А сейчас разве кто-нибудь возражает, я хочу сказать, сейчас разве нам может кто-нибудь помешать?
– Нет-нет, конечно, нет, но приходится помнить… впрочем, знаете что? Гравий здесь очень громко скрипит, а скрип может нас выдать, не лучше ли нам сесть на скамью? – И, не дожидаясь ответа, она тащит Фердинанда за собой на скамейку среди кустов. Это скамейка Лопе возле клумбы с розами. С ума она сошла, эта жена управляющего!
Она простукивает все закоулки своего сердца, где друг подле друга покоятся в недоумении запыленные романы девичьих лет вперемежку с впечатлениями и разочарованиями супружеской жизни, вперемежку с букетиками фиалок и мешками для творога, вперемежку с досками для сыра и суммой, необходимой для покупки собственного поместья. То, что мы видим сейчас, это начало самого обыкновенного любовного приключения, самой банальной интрижки, а не какой-нибудь неземной страсти с изысканными соблазнами. Такие интрижки растут буйно, как сорняки, но господин конторщик, но бледный Фердинанд, взбаламученный своей детской любовью, ощущает в сердце присутствие высших сил.
Полнокровная, пылкая особа, что сидит сейчас рядом, сжимая его руки и глядя на него требовательным взглядом, – это человек, еще не завершенный, это кусок, доверенный ему, Фердинанду, книжному червю, искателю душ для дальнейшей обработки.
– Вам знакомы страдания молодого Вертера?
– Это уж не тот ли молодой книготорговец из Ладенберга, что временами вас навещает?
– Нет, это любовный роман, написанный Гёте, хотя назвать это просто любовным романом нельзя, это скорей история одного разочарования.
– Да-да, роман. Когда я была еще барышней, я прочла один. Там шла речь про женщину, которая медленно, но верно отравляла своего мужа отваром из картонных подставок, что кладут под кружки с пивом. А когда он умер, она спохватилась, что любила его. Но было уже слишком поздно. Это очень-очень печальная история. Ее было очень приятно читать. Вы перечитали столько книг, значит, вы наверняка читали и этот роман.
Нет, Фердинанд никогда не читал про отвар из пивных подставок.
– Вот видите, как много я читала. Но теперь у меня совершенно руки до чтения не доходят, у меня уйма хлопот с двумя коровами, надо сыр делать, стряпать надо, шью я себе сама, чтобы не тратиться на портниху, а… – тут она начинает всхлипывать, – …а какова благодарность? Целые ночи его не бывает дома, он пьянствует и топчет ногами мои чувства, роется в них, все равно как петух на цветочной клумбе. Вы даже представить себе не можете, до чего я несчастна. Ах, если бы не вы, не ваше постукивание в стенку, не ваши письма! Клянусь, я все их ношу здесь. – И она прижимает мясистую руку к пышной груди.
Фердинанда охватывает беспокойство. Жена управляющего забыла всякую осторожность. Ведь не исключено, что их кто-нибудь слышит. Но он не решается высказать свои сомнения вслух. Некоторое время он молча глядит на маленькую, дрожащую всем телом женщину.
– Вы позволите мне поцеловать одну из ваших слезинок?
Она радостно вздрагивает, приникает к нему. Еще раз дрожь и всхлипывание, но уже как последний порыв бури. Потом она наклоняет голову, так что щека со всеми слезинками оказывается как раз перед губами Фердинанда. Он осторожно касается этой щеки – просто касается, без всякого пыла. Его тонкая рука обвивает ее плечи – как нитка перехватывает доверху набитый мешок. Он чувствует движение у нее под кожей. Кипящая жидкость в закрытом горшке.
– Они такие соленые, – снова смеется она, имея в виду свои слезы. От смеха ее мясистые губы раздвигаются, обнажая широкие зубы. Эти коровьи зубы вызывают умиление Фердинанда, он их тоже должен поцеловать, но уже без спроса. Запах у нее изо рта несколько отрезвляет его.
– Ах, губы у тебя словно из бархата и шелка! И усов у тебя тоже нет. С бородой получается так неаппетитно. Иногда у него в усах засохшая пивная пена. А иногда от них пахнет прокисшей селедкой.
– Кхм, кхм, может, вам стоит говорить немножко тише? Вы так неосторожны!
– Ох ты! – говорит она и, притянув Фердинанда к себе, запечатывает его рот поцелуем, словно пластырем. – Почему ты продолжаешь говорить мне «вы»? Ты ведь меня поцеловал?!
– Вообще-то я не собирался вас целовать, просто я был так растроган…
– Ах, не говори так! Скажи лучше, что ты хоть капельку меня любишь. – И она снова привлекает его к себе. Она словно ощупывает влажными губами его веки, лоб, потом шею и снова бурно впивается в его губы. Она дышит со стоном, она сбивает руками мягкую черную шляпу с его головы, шарит пальцами – как зубьями тупых грабель – в его реденьких волосах, как по лугу, где не растет трава. В одном из окон замка мерцает огонек. Это ночник в опочивальне его милости.
Раздается крик петуха-торопыги. В кустах, словно недобрая мысль, шныряет летучая мышь. Жена управляющего приостанавливает лавину поцелуев, не отрывая, впрочем, губ от Фердинандова лица. А что, если муж вернется домой и не найдет ее? – вдруг приходит ей в голову. Впрочем, он, наверно, будет пьян и до спальни не доберется. А если придет трезвый? Если… ну, тогда можно будет сказать, что ее позвали к жене смотрителя, что у той опять страшный приступ кашля, нехорошо с сердцем или что-нибудь в этом же духе…
– О чем вы сейчас… ты сейчас задумалась?
– Ты, значит, почувствовал, что я задумалась? Как ты меня знаешь! До чего это прекрасно, когда тебя понимают… Я думала о том, что, возможно, была бы счастливее, будь у меня дети.
– А почему у тебя, собственно, нет детей?
– То-то и оно. Никто не знает, чья в том вина, что у нас нет детей. Он говорит, что он ни при чем, что он настоящий мужчина. А я? Я так тоскую по детям, что начинаю порой играть со своими старыми куклами. Бывают вечера, когда ты стучишь в мою стенку… нет, и представить себе не могу, чтобы я была в этом виновата. Я так много молюсь, я кладу себе под подушку наливные колосья, я вот уже сколько лет съедаю в ночь под Новый год тринадцать сырых яиц… нет и нет, я в этом не виновата…
– Но ведь это – не знаю, как лучше сказать – это можно проверить…
– Еще бы, – в полном восторге откликается она и медленно съезжает всем телом на сиденье скамьи.
– Я и… имею в виду – врач… врач наверняка мог бы это с легкостью, если можно так выразиться, проверить.
Она имела в виду отнюдь не врача, но теперь, вся пунцовая от стыда и непонятая, она даже и не думает принять прежнюю позу. Фердинанд сидит рядом, зажав руки между худыми коленками: ни дать ни взять – подросток в публичном доме. Уже был в его жизни случай, когда он пытался унять подобную тоску и сохранил… да, да, сохранил об этом самые неприятные воспоминания… а такое не забывается…
– Ах ты, ты-ы-ы, – раздался нежный голос. Заманное голубиное воркование. Она слегка выпрямляется, хватает его за руки, пытается привлечь к себе.
Фердинанд трепещет, он чувствует дрожь в ее плечах, ощущает горячечное тепло ее тела. Чувство легкости, безответственности начинает его захватывать. Все равно как много лет назад, когда, бросив школу, он мнил заглушить вином угрызения совести. В нем вдруг проснулся мужчина, самец, одна из миллионов особей всемирного зверинца.
– Ты… ты знаешь, мы все-таки не станем проверять, – утешает она.
Он и не собирается, упаси бог, ни за что! Еще раз пережить такое…
– Будь осторожен.
Вся она словно расцветший в ночи цветок невзрачного сорняка.
По деревенской улице громыхает ранняя – или поздняя? – телега. Навозный жук с гудением ударяется о кусты и шлепается на землю. Свет в окне у его милости гаснет.
А год совершает свое шествие по деревне. Июнь пылит над колосящимися хлебами. Июль теребит наливные колосья, как струны арфы. Словно на крыльях бабочки пролетает над знойным маревом вересковой пустоши месяц август. Сентябрь покоится в зреющих плодах. Октябрь прячет дым от горящей ботвы под своим пестро-желтым плащом. Ноябрь сочится туманными каплями с голых ветвей. Белый, приглушенный снегом, в комнатном тепле и запахе печеных яблок, бродит по домам декабрь. Лязгает ледяными цепями ясный январь. Звенит первыми мушками и карнавалом на деревенском выгоне февраль, и, наконец, заявляется март с крапчатыми скворцами, желтыми купавами, пыльцой и зеленым шумом над лугами.
Лопе уже может сам засыпать солодовый кофе в верхний ящик на полке у лавочницы Крампе, не подкладывая себе под ноги кирпич. Лавочнице стало еще хуже. Наверно, она скоро помрет. С каждым разом Мальтен варит для нее все более сильные капли. И все-таки, если засунуть пальцы в рот, она почти может ухватить свое сердце руками – так высоко оно бьется.
– Как это оптовые торговцы могут продавать такой острый уксус? Люди же все от него побледнеют, словно белый мак. Если употреблять его, как есть, они выжгут себе в желудке вот такие дыры.
Лавочница печется о здоровье своих покупателей. Она велит Лопе принести ведро воды и залить в бочку с уксусом. Потом она сует палец в отверстие бочки, облизывает его и говорит:
– Вот теперь это на что-то похоже, зато раньше…
В другой раз ее возмущение вызывают фабриканты спичек. Уж так они экономят на коробках, так экономят, что просто никаких сил нет. А ей нельзя волноваться при ее сердце.
– Ну, зачем человеку нужна такая набитая коробка? Ее, не сломавши, и не откроешь даже. – Хорошо, что она и об этом позаботилась. Она достает из ящика несколько пустых коробков и велит Лопе сделать из десяти одиннадцать.
Лопе, да, Лопе в каком-то смысле стал последним лучиком солнца в земном бытии лавочницы. Когда ее сердце однажды и впрямь выпрыгнет в поганое ведро, другие придут за наследством. А Лопе будет стоять и плакать, только и всего. Вот почему надо, чтобы ему хоть сейчас, пока она еще жива, было хорошо. Во-первых, пусть он доедает все, что оставляет недоеденным она. Да и то сказать, что она теперь ест? Почти ничего. Ей сейчас не осилить даже кольцо колбасы, а из десяти булочек, что Лопе ежедневно покупает для нее у булочника, по меньшей мере две заплесневели бы, не будь Лопе… и ватрушка ей теперь не лезет в рот, а о сдобных рожках и слойках с кремом даже говорить нечего. Они прямо становятся поперек горла, хотя она запивает их полным кофейником кофе.
Приходит день, когда она окончательно ложится, и лавка остается закрытой.
– Пришло, верно, мое времечко – господь в небеси отвратил от меня свое милосердие. Я бы – дай продышаться – я бы и врагу… – ох-ох… – и врагу не пожелала бы такого сердца. Да рядом с ним любой камень покажется проворным, как хорек.
Два раза на дню Лопе бегает к Мальтену за каплями. Он заливает свежим рассолом соленые огурцы и выбирает из бочки осклизлые. В повидло тоже приходится подливать воды, чтобы оно не засохло, а с маргарина соскребать пожелтевший слой.
– Ах, сколько убытка, сколько убытка, ох, ох, а господь не сжалится… он хочет разорить меня, чтобы я…
Лопе надо бежать к столяру Таннигу заказать для лавочницы Крампе белый гроб и рассчитаться за работу, пока у нее не кончились все деньги. Она, Крампе, то есть еще девица, белый гроб ей положен по чину. Потом она посылает Лопе за Мальтеном. Может, сыщется у него еще какое-нибудь снадобье, если она даст ему за это целый ящик сигар с полопавшейся оберткой. Но Мальтен отказывается прийти.
– Она жрет по-прежнему?
Он заставляет Лопе перечислить все, что лавочница съедает за день.
– Скажи ей, чтобы три дня и три ночи, считая от сегодняшней полуночи, она ничего не брала в рот, ни даже крошки, понял? И тогда я через три дня наведаюсь к ней.
– Мало мне всех мучений, так еще и голодать? Ох… ох… да это же… да ни за что! Двум смертям не бывать…
Лопе убирается в лавке, подметает комнаты.
– Не нажимай ты так… ох, господи, на веник. Не могу же я каждый год покупать новый… А прутья так быстро стираются…
Теперь Лопе не метет, а вроде как поглаживает пол.
– Выдвинь… ох, господи… верхний ящик комода. Там лежит толстая такая расчетная книга. Первые страницы, исписанные, ты вырвешь и сожжешь в печке. Пусть налоговое управление не считает мои доходы, если мне… ох-ох… и в самом деле помирать.
Мальчик вырывает те страницы, на которые она указала, – откуда ему знать, что такое налоговое управление. Лавочница пытается сесть в постели.
– Сожги их поскорей, я хочу поглядеть… о, господи… а книгу, пустые страницы, можешь взять себе. Они ведь придут и получат наследство, а тебе ничего не дадут… Пусть у тебя будет хоть эта книга.
Лопе разглядывает подарок. Как много чистых страниц. Такой большой книги, да еще в твердом переплете, нет даже у ихнего учителя.
– Ты заказал белый гроб? Ты не забыл сказать, чтоб белый?
– Да, только он положил стружки туда, где надо лежать.
– Ты сам это видел?
– У него одни стружки и есть. Вемпель, которого укусила гадюка, тоже лежал на стружках.
– Ступай к нему и скажи, чтобы он подстелил мне сено. Стружки – тьфу, неужели я заслужила такое обращение?
Лопе возвращается, она лежит раскрывшись, ноги – в синих узлах вен – подергиваются.
– Перина… ох-ох… тяжела, что твой мешок, дай мне сюда счет за гроб, а роспись на нем есть?
Лавочница прячет счет под подушку.
– А ты будешь плакать, когда я умру?
– Поглядим.
– Ах, наверно, никто не будет плакать, когда я умру. Страшно, что, когда заколотят гроб, ничего нельзя видеть. Ох-ох! Проследи, чтоб меня хоронили с музыкой. Я в завещании так и написала… Если не будет музыки, я буду к ним являться и не дам им спать. Как мешок с солью, сяду я на их душу.
Лопе кивает, немало гордясь новым поручением.
– А теперь поди, спрысни водой развесной табак, не то он засохнет, искрошится и ничего не будет весить.
Лопе выполняет и эту просьбу.
К исходу следующего дня лавочница умирает. Перина лежит на полу. Одна нога свешивается с постели.
– Есть что поделать? – нерешительно спрашивает Лопе.
Молчание. Жирная муха с жужжанием кружится над ее ртом. Сладковатый запах стоит в комнате, толстые черные куры стучат клювами в оконное стекло, требуют корма…
Лопе зябнет, хотя за дверью, на крыше сарая, пылает желтое солнце. Лопе бежит к обмывальщику.
В день похорон Лопе еще раз наведывается в лавку. Железная штора поднята наполовину. За прилавком орудует тощая женщина с морщинистым желтым лицом. Маленький мужчина с седой бородой ковыряется в бочке с огурцами.
– А музыка будет? – спрашивает Лопе.
– Тебе чего надо? – неприветливо каркает чужая тощая женщина.
– Если не будет музыки, она велела так сказать, она придет и насыплет вам на душу соли.
Женщина смотрит на мужчину.
– Двести пятьдесят четыре… – Он замолкает.
Женщина переводит взгляд на Лопе, – так смотрит курица на непомерно большого дождевого червя.
– Он, по-моему, ненормальный, – шепчет мужчина. – У него… у него в глазах что-то ненормальное. – И уже громким голосом: – На, вот тебе!
Он протягивает Лопе огурец, который только что собирался бросить в ведро к другим испорченным. Лопе берет огурец и, не прощаясь, уходит.
– Вот видишь, – доволен собой мужчина.
Звонят колокола, возвещая о похоронах лавочницы. Лопе не плачет. Он смотрит сквозь щели ограды и воронкой прикладывает ладони к ушам. Они только поют. Как бы известить лавочницу, что ее хоронили без музыки?
После смерти лавочницы Лопе остался не у дел. Отец учит его вязать веники.
– Господи, много он с нее имел! – говорит мать, подразумевая покойницу.
– При чем тут имел? Просто он был при деле, да еще кой-чему выучился.
– У этой старой сквалыги?
– Ну, иногда он даже получал кофе и пирожные…
– Вот именно. Которые она сама не могла умять, только и всего.
А про толстую амбарную книгу, доставшуюся Лопе, никто и не вспоминает.
После смерти лавочницы в жизни Лопе возникла дыра, которую надо как-то залатать. Но хрясь – и в его жизни уже зияет новая.
– А почему нельзя ходить по посевам? Ведь ходят же по лугам, когда трава зеленая! – С таким вопросом он однажды вечером обращается к отцу.
– По посевам? Да потому, что на них почиет благодать. И каждая крошка хлеба священна. Потому, что это господь повелевает колосу расти, а зерну – вызреть. А что делает бог, то нельзя попирать ногами…
– А кто же делает луга? Иисус Христос?
– Бог, бог все делает, он ведь бог-отец.
– А деревянные башмаки тоже делает бог?
– С ума сойти, – вмешивается мать, и насмешливые складки залегают в уголках ее рта.
Липе беспомощно глядит по сторонам.
– Нет, деревянные башмаки не он… но зато все, что идет в пищу… Рожь была бы обычной травой, если бы господь не вложил в нее зерно.
– У него, значит, много рук?
– По меньшей мере тысяча, коли не больше… это, ну… ты позже и сам узнаешь, как бывает, когда он отнимет руки свои… все получается не так, как надо… впрочем, этого тебе еще не понять.
Мать недовольно покачивает головой и с грохотом захлопывает крышку чайника. Отец и сын вяжут веники.
Ягоды голубики висят темными жемчужинами, брусничины, словно солнечные поцелуи, сверкая желтизной, смеются в траве, лисички раздвигают мох и сосновые иглы, и вот они тут как тут. Грибы-боровики с коричневыми шляпками торчат среди сосен.
Об эту пору учитель во время занятий посылает детей в лес. К полудню девочки возвращаются и приносят в фартуках ягоды. А мальчики тем временем насобирали грибов в свои шапки. Учитель ведет строгий учет: кто принесет фунт голубики, тому скостят пять ударов, за фунт белых грибов – три, а за фунт лисичек – всего два.
Альберт Шнайдер приволок только два больших белых. В каждой руке – по одному. Учитель придирчиво рассматривает грибы.
– А они у тебя не червивые?
– Не-а.
– Ну ладно, вычтем шесть.
Шапка Орге Пинка полна до краев и даже выше. Серо-белые ножки белых грибов торчат поверх края.
– Там и маслята есть, – утверждает учитель.
Орге Пинк только плечами пожимает.
– Ну ладно, вычтем три удара, за маслята я никак больше не могу.
У Лопе в носовом платке – лисички, в шапке – белые.
– Лисички. Да еще платок такой грязный! Фу! Вычитаем два.
– А вот еще. – И Лопе протягивает ему шапку с белыми грибами.
– Ну ладно, скажем, всего три.
Учитель стоит у доски и велит пересыпать грибы и ягоды в приготовленные корзины. А первый ученик сидит на его месте и ведет реестр вычтенных ударов. Разве грибы Лопе стоят меньше, чем у Орге Пинка или у Альберта Шнайдера? Наверно, это потому, что он сидит на «вшивой скамье».
На следующий день он находит столько же подберезовиков, сколько и Альберт Шнайдер. Посмотрим, что скажет учитель по этому поводу.
Когда начинается сдача грибов, Лопе нарочно становится сразу за Альбертом.
– Пять, – говорит учитель, принимая грибы от Альберта. – У тебя же только подберезовики.
– Четыре, – немного помешкав, говорит он Лопе.
На другой день Лопе еще более рьяно собирает грибы. Перед тем как выйти из лесу, он украдкой заглядывает в шапку к Альберту и отмечает, что Альберт нашел меньше. Тогда он возвращается в лес и прячет свои излишки под вереском и мхом.
После обеда Лопе собирает грибы для матери. Сперва он достает припрятанные утром, потом идет глубже в лес, до густого ельника, который в народе зовется «Часовней». Там у деревьев такие густые ветки, что под ними не намокнешь даже в грозу.
Уверенно, словно дикий кролик, шмыгает Лопе в «Часовню». Не исключено, что именно в таком лесу стояла хижина мельника и принцессы.
– Ты куда? – прикрикивает на него жестяной голос.
Голос доносится из облака табачного дыма. Голубой дым щекочет в носу.
Молодой лесничий сидит в тени под охотничьей вышкой.
Лопе глядит на него. Как лягушонок на гадюку. Ружейные стволы таращатся, будто темные глаза. А Лопе стоит, будто вязанка хвороста. Корзинка с грибами, висящая у него на сгибе руки, подрагивает. Зеленый соглядатай обстоятельно отодвигает ружье в сторону и подходит поближе. Глаза у него серо-зеленые и сверлят, как буравчики. Наверно, Пауле Венскат и Клаус Тюдель охотились на кроликов, думает Лопе. И наткнулись на лесничего, но сумели удрать, да еще показали ему издали нос. Лесничий выстрелил, так что ветки затрещали. Но чего ради станет удирать Лопе? Он-то ведь не на кроликов охотится.
– Ничего себе мальчик, – шипит лесничий. На лице у него светлая, почти белая щетина, которая под лучами солнца отливает рыжиной. – У тебя есть разрешение на сбор ягод?
– У меня есть только лисички…
– Балда. Ну и что, что лисички? Разрешение на грибы – это все равно, что разрешение на ягоды. Понял?
Молчание. Лесничий Мертенс сосет свою трубку. В трубке шипит слюна. По фарфоровой головке трубки бродят нарисованные коричневым лани на ядовито-зеленом лугу.
– Как тебя звать?
– Лопе.
– Это что еще за Лопе? Дальше-то как?
– Меня зовут Готлоб Кляйнерман, родился седьмого августа одна тысяча девятьсот четырнадцатого года.
– Где твой отец берет березовый хворост для веников?
– В каменоломнях.
– Это правда?
– А когда я хожу за хворостом…
– Ну, ну, выкладывай…
– …я тогда хожу на гору.
– Ага! Вот ты и попался. А ну, давай сюда корзинку!
Желторотик срывает корзинку с руки у Лопе и высыпает грибы на землю. И топчет их своими коричневыми охотничьими сапогами.
Лопе видит, как эти сапоги пляшут на желтых, будто яичный желток, лисичках. Корзинка летит в ельник. Лопе идет и подбирает корзинку. И мчится прочь, долго чувствуя затылком пронзительный взгляд лесничего. В груди у него что-то сверлит, будто он напоролся на гвоздь. Новое, непривычное ощущение.
На полевой тропинке Лопе встречает Блемску. Тот разворачивает свой двухлемешный плуг.
– Ну и грибник же ты у нас! Ты уж не на деревьях ли искал грибы?
– Он их все растоптал.
– Кто?
– Мертенс…
– Этот Желторотик?
– Он прямо сбесился, потому что иногда я сам приношу для отца хворост.
– Всё, как есть всё захватили эти люди в свои лапы, мы еще дождемся, нам запретят брать к ногтю собственных вшей. Где он?
Блемска в ярости. Глаза у него становятся круглые, как у сурка. Лопе робко кивает в сторону «Часовни».
– Подержи лошадей, пока я обернусь.
В рваных, облепленных грязью башмаках Блемска скачет через борозды и скрывается в лесу. Колотье в груди у Лопе стихает. Вместо него появляется какая-то внутренняя дрожь. Может, от страха, а может, и от радости. Блемска скоро возвращается.
– Его уже там не было. Пусть благодарит бога, что его там не было.
– Дядя Блемска, у него ружье есть…
– Подумаешь какое дело. Иди собирай грибы, а если он появится, если он снова появится, свистни в два пальца, понятно?
Лопе снова возвращается в «Часовню». Сердце у него почти стрекочет.
Теперь он больше приглядывается да прислушивается, чем ищет. Услышит ли Блемска его свист? Лучше бы всего сразу же и проверить, но тогда Блемска может рассердиться. Пока он вторично набирает полную корзину, день подходит к концу. А Желторотик так и не появился.
Когда лес перестает осыпать людей дарами, в школе начинается суровая пора.
– Умножение на семнадцать, давай, Венскат!
Пауле Венскат встает и тужится:
– …Четырежды семнадцать будет… будет шестьдесят восемь, пятью семнадцать будет… будет девяносто пять…
– Сколько?
– …бу-удет… бу-у-удет восемьдесят пять.
– Я уже вижу: таблицы ты не знаешь. А задано было, между прочим, задано было три недели назад.
– Не-а.
– Ты что сказал? Ты сказал мне «не-а»? Во-первых, говорить надо «нет», понял? А во-вторых, ты лжешь. Он еще у нас, оказывается, и врун. Я что, не задавал вам таблицу?
– Да, – доносится из недр класса.
– Шнайдер, я задавал вам таблицу или нет?
Альберт Шнайдер вскакивает.
– Пятью семнадцать будет восемьдесят пять.
– Вот видите! Почему Шнайдер знает?
Учитель открывает желтый, как почтовые ящики, стенной шкаф. Он отыскивает за картами свою трость и со свистом взмахивает ею.
– Этого еще не хватало! Три недели назад задано, а наш лоботряс не изволил выучить. Да ты ведь не сумеешь даже подсчитать, сколько заработал, когда кончишь школу.
Он медленно приближается к Пауле. Тот стоит у передней парты – приговоренный перед эшафотом. Поначалу Пауле хнычет. Потом его вдруг осеняет, и он ухмыляется:
– А мне скостили восемь ударов!
– Это за что еще?
– За сенокос и за грибы!
– Он не врет?
Первый ученик шелестит списком.
– Все верно, восемь ударов.
Учитель с трудом подавляет досаду и яростно ударяет по классной доске.
– Все восемь зачеркнуть… А уж в следующий раз ты у меня… вжик… получишь… вжик…
Поля пустеют. Ветер носится над равниной, не встречая сопротивления. Дождь промывает небо и землю. Потом выпадает несколько солнечных деньков, когда жестяной стрекот молотилок разносится над влажно-комковатой землей. Сеятели топочут облепленными землей сапогами, разбрасывают зерна. Скворцы тучей вьются над свежими бороздами. Между комков земли пробиваются стрелки озими. Они больше красные, чем зеленые. Подрастут и начнут трепетать на осеннем ветру. Поздняя осень. В деревне настает спокойная пора.
Ариберт и Дитер фон Рендсбург учатся верховой езде. Учит их управляющий. А почему бы и нет? Зря он, что ли, был вахмистром у гвардейских улан?