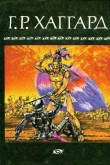Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
– А разве мне нельзя читать, что я захочу? – заикаясь, лепечет Лопе и снова бледнеет. Руки его возбужденно елозят в карманах брюк.
– Теперь нельзя. – Блемска вдруг снимает картину со стены. – Теперь много чего нельзя. Так выглядит их свобода.
Блемска распахивает окно и выбрасывает картину во двор. «Дзынь» – раздается под окном, и что-то тихонько дребезжит.
– Думаешь, они выдадут мне бумаги?
Блемска все еще занят картиной.
– Нельзя держаться за такие штуки… Хоть ее и нет больше на свете… Она поступала в меру своего разумения… Ее так воспитывали с детских лет.
– А вдруг меня заберут?
– Бумаги?.. Бумаги они тебе наверняка выдадут… А вот забрать… нет, не думаю, чтоб они тебя забрали. – Блемска закрывает окно. – А если все-таки заберут, стой на своем, и все тут. Даже если тебя станут бить, стой на своем, не то… а впрочем, не играет роли…
– Я буду стоять на своем.
– Иногда все не так просто… Почем знать, что они с тобой будут делать… хотя вовсе не обязательно, что они тебя заберут только из-за этого. Лет-то тебе сколько?
– Девятнадцать.
– Ну, так не тревожься. При всех обстоятельствах лучше, чтобы ты стоял на своем… но тревожиться особо нечего… они снова тебя выпустят… они не могут оставить тебя там… Тогда приходи ко мне. Не ходи к Липе, не надо. Понял? Если уволят, тоже приходи ко мне. Я тут пораскинул мозгами… я знаю, чем мы тогда с тобой займемся.
Блемска оказывается прав. Вечером Лопе приходит в ночную и видит, что на его месте уже стоит другой откатчик.
– Тебе велено завтра утром зайти за бумагами, – говорит новенький.
Старый смазчик выходит из своего угла. Его глаза возбужденно моргают.
– Верно, в той книге было написано что-нибудь очень уж плохое… такое, чего они теперь не признают. Они, знаешь, не без странностей. Ну, что ты будешь теперь делать?
Лопе медленно пожимает плечами. Еще некоторое время он тупо смотрит на шахтную пасть, изрыгающую вагонетки. Лампочки таращатся на него, как горящие враждебные глаза. С гудением подъезжает электровозик. Это гудение рвет душу Лопе. В горле стоит комок. Лопе сглатывает. Пора идти. Лопе идет к Блемске. Блемска в одной рубашке выходит ему навстречу.
– Я все обдумал. Мы оба влипнем, если ты сразу останешься у меня. То есть ночь ты можешь у меня провести, а вот утром ты отправишься к Липе… будто со смены. До поры до времени не надо привлекать внимание. Пусть все сперва уляжется… А уж потом у меня есть одна мыслишка. С завтрашнего дня у тебя отпуск. Для Липе у тебя отпуск – понял?
Лопе даже не подозревал, что отпуск – это так ужасно.
– Главное дело, они ничего не вписали в твои бумаги. Тогда тебе, можно сказать, повезло.
А новое все не кончается.
– Шульце Попрыгун теперь работает в нашей лавке продавцом от Хоенберга. Слыхал?
– Попрыгунчик?.. Ты, верно, спятил. Ему и пакета не свернуть. Он…
– А зачем ему сворачивать? У него на то продавщица есть. Они говорят, что желают повсюду видеть новых людей.
– Ну да, вот и Липе сделали смотрителем.
– Все-таки сделали?
– Новый управляющий все может. Милостивый господин заперся у себя и сидит там, будто ненормальный, это они так говорят.
– Ты, верно, сам ненормальный.
– Нет, нет, я правду говорю.
– Тогда это для Липе очень даже некстати.
– Что некстати?
– Ну, что они Труду забрали. Полиция из Ладенберга. Труду и овчара Мальтена.
– Ты, верно, совсем тронулся.
– Ничего я не тронулся. Так все и было.
– Господи Иисусе, эти-то в чем провинились?
– Ты ведь, наверно, знаешь, Труда – она… без году неделя, как конфирмовалась и уже снюхалась с парнем. Ее вроде бы Желторотик… в Михайлов день… Они теперь не желают, если какая-нибудь девица попадется, чтобы она ходила к Мальтену или еще куда…
– Им-то какой прок?
– Не знаю, но говорят, что за это полагается тюрьма.
– С ума сойти! Обалдели они там все, что ли?
– Мальтен, говорят, смеялся, когда за ним пришли. Смеялся так, что у всех мороз по коже. «Ну тогда приготовьте уж заодно камеру с кушеткой и ватерклозетом для этого типа», – сказал он. Сам понимаешь, кого он имел в виду.
– Он что, так прямо и сказал?
– Да, так прямо и сказал. А Труда сжимала кулаки и проклинала Желторотика. Желторотика-то не забрали. Говорят, он сам на них и донес, потому что он горой стоит за обновление. «Ах ты, гад, – это Труда ему кричала, – мать мою ты тоже погубил…»
– Интересно, что они еще придумают?
– Да, а еще: «Подавай мне музыку, подавай мне флаг». Мальтен орал, что ему, мол, для отправки нужны музыка и флаг. Мы слышали его голос, уже когда машина въехала в лес. А потом все стихло. Может, их связали?
– Сколько годков живу на свете, а такого мне видеть не доводилось.
– Да и мне тоже!
Дело близится к маю. Земля утопает в цветочном буйстве. Над пашнями висит пронизанное трелями жаворонков синее небо. Шмели качаются на ранних цветках брусники.
В лесу раздается воркование диких голубей. Ширяет за мышами кобчик. Выставляются кверху свечки каштанов. На черешках дуба разворачиваются лиственные почки. Ночи напоены шелестом цветочного изобилия и напором соков. Земля хочет показать, на что она способна. В задавленные людские души прокрадывается нечто похожее на отвагу и надежду.
– Надо бы показать, что мы еще здесь, – говорит Блемска Густаву Пинку. Это происходит как-то днем в лесу, куда оба пришли искать сморчки. – Первое мая на носу… Пусть хотя бы почуют… Чтоб не воображали, будто мы их боимся…
Они помирились в последнее время, Блемска и Пинк.
– Я не виноват ни сном ни духом, – так сказал Блемска, – может, я и был когда несдержан, может, хотел, чтоб все сразу… Но, признайся честно, нам долго не исправить того, что вы проворонили. Я имею в виду историю с Гинденбургом и тому подобное…
– Да, мы, конечно… мы ведь тоже… – мнется Пинк, – но как ты заявишь о себе первого мая? Они опять нас заберут, и уж тогда… тогда нам крышка.
– А им и в голову не должно прийти, что это сделали мы. Дай срок, я что-нибудь придумаю. Встретимся здесь. Днем накануне первого мая. Можешь и Шпилле намекнуть. А больше никому. Теперь ни в ком нельзя быть уверенным.
А у Лопе Блемска в тот же вечер спрашивает:
– Поможешь? Нам нужен еще один парень, легкий, словно белка, в общем, такой, как ты.
– За это покажи мне, куда ты зарыл книги, – говорит Лопе.
– Книги? Показать-то я могу, но едва ли они нам понадобятся. Я думаю, нам с тобой пора сматывать удочки.
– Сматывать удочки?
– Да, если с первым мая все сойдет благополучно, мы просто скажем – до свидания.
– Думаешь, мы найдем работу в другом месте?
– Работу? А вот. – И Блемска достает из угла свою точильную машину. И наступает ногой на педаль. Машина начинает жужжать.
Земля вращается для всех,
Да-да, для всех, для всех.
Цветы цветут и зреет плод
Для всех, да-да, для всех.
Ты, барин, если снимешь фрак,
Ты не богаче всех.
Твой дом высок, но из досок,
Как и лачужки все.
Король залез себе на трон,
Но только сбрось корону он,
И станет он как все.
Твои дворцы мы создаем,
Тебе богатство мы куем,
Мы все, да-да, мы все.
Ты ж ходишь с тросточкой в руках,
И женщины твои в шелках,
И это видят все.
Когда ряды свои сомкнут
Рабочий люд, батрацкий люд,
Едины станут все.
Мы загремим, как ураган,
И вас сметем мы в океан,
Мы все, да-да, мы все, —
тихо напевает Блемска. – Я тогда был хитрый, как муха. Я докумекал подать заявление на патент бродячего ремесленника. И позавчера мне из Ладенберга прислали патент. Меня удивляет, что эти ищейки ничего не унюхали. Они просто поддержали старое заявление. Из чего следует, что пока еще они насажали своих людей не всюду.
– И мы прямо возьмем и уйдем?
– Конечно, нам придется самим добывать себе работу. Ты будешь ходить по домам, собирать всякую утварь, а я буду ее точить… Ничего, не пропадем… Можешь быть уверен, плохо нам не будет…
– Ножницы?.. Не желаете ли наточить ножницы, милостивая госпожа? Нет ли у вас тупых ножей, милостивый господин? Мы их так хорошо наточим, что они начнут резать, прежде чем их возьмешь в руку… Вот как я буду говорить… – Лопе уже пылает от воодушевления.
– Стой, стой, – отмахивается Блемска. – У меня все время такое чувство, будто они шныряют вокруг моей хибары. – И дальше уже шепотом: – А козу мы отдадим фрау Мюллер. Чтоб приглядывала за вашей Элизабет. На Липе надежда плоха.
– Ах да, Элизабет, – говорит Лопе и снова мрачнеет.
Ночь на первое мая. Обновители готовятся к поездке в город. Они сулят самую мощную манифестацию из всех, которые когда-либо видел Ладенберг. На деревенской улице – ни души.
– А почему молодежь в этом году не справляет свой шабаш?
– Мог бы и сам догадаться.
– Похоже, они боятся. С этими обновителями никогда не знаешь, что правильно, а что нет. Они ведь все хотят перевернуть по-своему.
Воздух мягкий и теплый. По крестьянским дворам свиристят жабы. На кладбище в ветвях туи всхлипывает соловей. Легкий ветер трогает верхушки дубов на лугу.
Блемска отправился с визитом к Шульце Попрыгунчику.
Быть того не может – Блемска и вдруг к Шульце?
У него очень смиренный вид, у Блемски. Завязывается долгий разговор. То есть на деле Блемске не удается вставить почти ни слова. Шульце Попрыгунчик так и молотит руками воздух. Он развертывает перед Блемской неслыханно смелый план.
– Дай нам… Нам нужно только время, и уж тогда мы… Мы сделаем из Германии такое, чего вы еще никогда не видели и чего вы никогда бы не достигли вашей болтовней в парламенте. Заруби это себе на носу. И все, которые левые, пусть зарубят.
– Какие там левые… Я последний остался… И если у вас это получится… я хочу сказать, если вы сумеете дать всем мир и работу, тогда я вам первый поклонюсь.
Шульце Попрыгунчик раздувается от гордости, словно он в своих высоких коричневых сапогах уже спас весь мир.
– Можешь спокойно дать голову на отсечение…
– Ну, так уж сразу и голову…
– Ты не поверишь, но он тоже из рабочего сословия, наш фюрер, вот как. Он знает все заботы простых людей.
В то же самое время Густав Пинк в трактире у Тюделя растабаривает с коммерсантом Хоенбергом. Все присутствующие возбужденно пыхтят, кто – трубкой, кто – сигарой.
Густав Пинк и коммерсант Хоенберг сцепились не на шутку. Добром это не кончится.
– Пока я еще без работы, – говорит Густав Пинк, – но если вы ухитритесь обойтись без войны и всем дадите работу, ну, тогда… тогда будет о чем поговорить.
И коммерсант Хоенберг рисует еще более смелую картину грядущего царства, чем Шульце Попрыгунчик.
На деревенском лугу свиристят две жабы. Из кустов вылезают две фигуры, одна большая, другая маленькая. Обе шмыгнули к дубу, а дуб такой высокий, что его почти из Ладенберга видно. Одна из фигур прижимается к стволу, другая, поменьше, карабкается вверх и исчезает среди ветвей.
Тень подлиннее снова юркнула в кусты. Едва на дороге что-нибудь шевельнется, в кустах начинает свиристеть жаба. И тогда на дубе все стихает. Только ветер шумит в ветвях.
Утром первого майского дня на верхушке дуба развевается багряно-красный флаг. Уже с самого утра несколько новых приходят из соседней деревни. Они поднимают Шульце Попрыгунчика с постели.
– Что тут у вас творится? Вы, никак, контрреволюцией занимаетесь?
Вся деревня ждет, затаив дыхание. Словно внезапно улегся сильный ветер. Людей собирается все больше и больше. Они боязливо, издали, поднимают глаза к самой высокой и тонкой верхушке дуба, на которой укреплен красный флаг. Лопе тоже среди зевак. Напротив него стоит Шпилле, качает головой и говорит так громко, чтобы Шульце Попрыгун мог его слышать:
– И кому это теперь нужно, когда у нас все будет переделано заново?
Наконец к жандарму Гумприху возвращается самообладание, и он бросает фельдфебельским рыком в тишину безветрия:
– Чего мы тут, черт побери, таращим глаза?! Пусть кто-нибудь слазит и снимет эту тряпку! А потом надо пересажать всех, кто когда-либо бегал за красным флагом. Уж у нас-то они заговорят.
Новые растерянно переглядываются.
– Вот ты и поднимись, Гумприх, поднимись и сруби его своей саблей! – выкрикивает из толпы какой-то остряк.
– Я полезу! – доносится голос. И Альберт Шнайдер протискивается вперед.
– А выстрелом его не сбить? Кто по доброй воле захочет лезть на тонкую веточку? – продолжает тот же остряк.
– Раз кто-то один его вывесил, значит, кто-то другой может его снять.
Альберт Шнайдер важно карабкается на плечи какого-то типа в форме. Сапоги он сбросил и карабкается в носках. Лопе от возбуждения прикусил губу.
Шульце Попрыгунчик подходит к Гумприху.
– Смотри не наделай глупостей, – шелестит он на ухо Гумприху. – Я хочу сказать: не вздумай снова засадить Блемску. Он сейчас на верном пути… А если верить тому, что я слышал от Хоенберга, Пинк тоже перековался… Так что на сегодня не все так просто…
– А на кого ж тогда и думать-то? – шепчет в ответ Гумприх.
– Это уж твоя печаль. В конце концов не я жандарм. А нам в новом рейхе нужна полиция, которая слышит даже, как мыши гадят.
Жандарм Гумприх надувает щеки и молчит.
Альберт Шнайдер приближается к верхушке. Задерживается – перевести дух.
– Ну и ветрила здесь, на верхотуре! – кричит Альберт. – А ведь он привязан.
– Привязан? Чем привязан? – орет в ответ Гумприх.
– Не знаю… – Отсюда не видать.
– Дальше нельзя. Ветка слишком тонкая. Он себе шею сломает, – говорит Шпилле с таким расчетом, чтобы жандарм его слышал. – Страшно подумать, что будет, если он сломает себе шею под надзором полиции.
Гумприх искоса поглядывает на Шпилле и, сняв фуражку, утирает себе лоб.
Альберт Шнайдер лезет дальше. Теперь он выбирает ветки. И для начала пробует рукой их надежность. Но тут налетает порыв ветра. Верхушка дерева вместе со Шнайдером начинает раскачиваться во все стороны. Раздается треск. Правая нога Шнайдера теряет опору. Отломленная ветка шурша летит вниз. Альберту надо возвращаться.
– Прекратить! – по-военному командует снизу жандарм Гумприх. – Шнайдер, немедленно спускайся! Ничего не выйдет.
Альберт раздумывает.
– Спускайся, Шнайдер! Кому говорят, спускайся! Знаешь, что будет, если ты разобьешься?! – Гумприх утирает платком одутловатое лицо.
Появляется учитель.
– Если он останется калекой, общине придется платить ему алименты до конца его дней, – говорит он Гумприху. – Мы не можем взять на себя такую ответственность.
– Шнайдер, слезай! Как-нибудь мы его и без тебя снимем.
Альберт Шнайдер начинает спуск. Люди расходятся по домам. По ветру реет красный флаг.
Две недели спустя в ослепительное майское утро Блемска и Лопе с точильным станком на колесиках покидают деревню. В домах еще все тихо. Там и сям из трубы поднимается серый дымок. На дубу, с которого спилена верхушка, сидит скворец. Он свистит, щелкает и шипит навстречу восходящему солнцу. Блемска и Лопе катят свою тачку по тропинке вверх на холм. Блемска тянет, Лопе подталкивает одной рукой.
– И вовсе не трудно.
– Что не трудно?
– Ну, от натуги мы не помрем.
– А вдруг ничего не выйдет и нам придется вернуться? – говорит Лопе и провожает глазами ласточку. Ласточка садится на коровью лепешку.
– Он не скандалил, когда ты сказал, что уйдешь? – спрашивает Блемска и оглядывается на Лопе.
– У него глаза, все равно как у кобчика. Он всегда… всегда, когда меня сажали на «вшивую скамью», таращился, бывало, на мою голову. Когда я вижу эти глаза, мне хочется в них плюнуть.
– Скандала не устраивал?
– Нет, но выспрашивал досконально, есть ли у меня работа и вообще про все.
– А ты ему сказал, что уходишь со мной?
– Нет, я ему малость присочинил, я сказал, что хочу работать неподалеку от матери, чтобы можно было ее навещать.
– Об этом я даже и не подумал.
– А он только и сказал: «Ну что ж, это можно понять». И даже вроде как растрогался. Он врет, врет каждой своей гримасой. Только глаза эти ястребиные не врут.
– А меня он отпустил без всякого. Я через каждые два слова говорил: «Господин учитель» да «господин бургомистр». Они ведь все не шибко умные.
– У старой Шнайдерши двор-то, наверно, пойдет с молотка.
– Теперь такого не бывает.
– Разве не бывает? Интересно, а Марию эти обновители тоже успели обработать? Я имею в виду Шнайдерову Марию.
– Да, женщины, женщины, – говорит Блемска и останавливается. – С женщинами оно такое дело… Им еще надо многому научиться. Они пока как тени. Им еще надо обрести свое лицо. Нам всем еще надо многому научиться и обрести свое лицо…
Они взобрались на вершину холма. В деревне звякают ведра с пойлом. Ревет корова.
– Теперь Гримка будет поить волов.
– Да, волы, волы… Для упряжки всегда нужно троих…
– Хороши яровые в этому году…
– Таковы люди… Ты радуешься, что у кого-то другого будет хороший урожай. Наш милостивый живодер заглянет осенью к себе в кошелек и сразу увидит – хорошие были яровые или нет.
– Вот удивится господин конторщик, что я к нему больше не хожу.
– Конторщик? Ах, этот… Ничего не скажешь, не повезло тебе с отцами, ох, не повезло!..
Круглые, как у сурка, глаза Блемски останавливаются на Лопе. Вокруг носа прыгают едва заметные, многозначительные улыбочки.
– Ну, давай, пора двигаться вперед.
Лопе задумчиво смотрит на тележку.
– Я один раз Мальтену все выложил. Я повторил ему все, что говорил мне ты.
– А что я тебе говорил?
– Пройдет тысяча лет… И никто не сумеет понять, почему мы так жили.
Блемска качает головой.
– И ста не пройдет – вот как тебе надо было сказать!
Он пригибается и налегает на оглобли. Тележка, покачнувшись, трогается с места. Лопе больше не оглядывается. За ближайшим поворотом дороги обоих скрывает лесная сень.