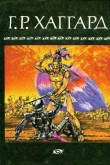Текст книги "Погонщик волов"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
«Можно сказать, что мы перешли с одиночеством на „ты“ – заносит он в свой дневник. – Но что это, начало возвышения или упадка?»
А у Лопе свои заботы: на кухне ему почти не удается читать: мать всякий раз непременно придумает для него какое-нибудь дело. Стоит ему сесть за книгу, как у нее уже готово очередное поручение. Ну ладно, он его выполнит. А Труда тем временем взяла да и залистала страницу, на которой он остановился. Потом Элизабет требует, чтобы он выстругал ей кораблик из бузины. И в довершение всех бед заявляется отец от парикмахера и, сплюнув на пол табачную жвачку, ищет, к чему бы прицепиться. Всосанный с водкой дух противоречия не дает ему покоя. И Лопе снова ищет спасения в своем закутке на сеновале. Здесь, в запахе свежего сена, под сытое гудение слепней, книга уносит его в далекую страну. Человек, которого он про себя называет «Толстои» с ударением на «и», пишет об этой далекой стране. В конюшне ржет отцовская кобыла. Неужели уже время задавать корм? Кто-то хватается за лестницу, и в лестничном проеме над верхней перекладиной возникает раскрасневшаяся от водки физиономия отца. Лопе съеживается в сене, что твой зайчишка, и, распластавшись, ложится ничком на книгу. Отец, спотыкаясь, ходит по сену. Оказывается, он и сам отыскивает укромное местечко, где без помех сможет заспать свой хмель.
– Ах ты, гаденыш, ты опять здесь?
Лопе выпрямляется и, спасая книгу, сует ее за пояс штанов. Отец плюхается в сено. Его глаза вращаются, как у лягушки, которая, обознавшись, угодила вместо пруда в яму с гашеной известью. Но потом даже эти залитые водкой глаза угадывают робкую мольбу во взгляде мальчика. Отец сникает, как тающий снеговик.
– Гаденыш, говорю я тебе, вот так и будешь читать, читать и никогда отсюда не выйдешь. Сидишь себе тут и с-с-сидишь, как вор… вор-робей на ж-жердочке, понятно я говорю? Шею вытянешь, ноги вытянешь, захочешь взлететь, ан нет, прилип, понимаешь, прилип, как муха.
Последние слова отца тонут в слезах. Грозовые облака сменились редким дождичком. И под этим дождем, как беззащитная зверушка, сидит Лопе. Он не знает, как ему быть, то ли смеяться, то ли плакать вместе с отцом.
Летние дни с жужжанием пробиваются между ветвями деревьев. Песчаные дорожки, словно в зеркале, отразили следы множества босых ног. Следы большие и маленькие, плоские и короткие, длинные и кривые. Кто может сказать, сколько их, этих ног, бродит по земле?
Однажды в воскресенье Блемска, как и встарь, сидит на кухне у Кляйнерманов. Он беседует с матерью. Мать рассказывает, что есть нового в усадьбе. Но тут, шатаясь и сплевывая, приходит домой отец от парикмахера. Он видит сидящего за столом Блемску и тут же поступает так, как поступил бы маленький петушок, застав у себя в загоне большого соседского петуха. Он смиряется.
– Вы загубили кайзера и нашу армию… Вы довели до смерти нашу общую мать. Кто теперь станет уважать нас, немцев, спрашиваю я вас? Француз делает с нами, что ему вздумается. И американец, и англичанин. Это так же верно, как то, что я сижу перед вами, мы должны платить и платить, а правительство у вас все без мозгов в голове, ему не дотумкать, как справиться с этим сбродом, вот.
– Да чем они тебе так насолили? – посмеивается Блемска.
– Они мне очень даже насолили… чертовы… банжур мусью… это по-ихнему значит здрасте… А уж моды у них, да еще некоторые бывают черные, как сатана.
– А зачем вы затеяли войну, ты и твой кайзер, коли вам так хорошо жилось?
– То-то и оно, вот сразу и видно, потому как твоего и духу на войне не было. С почты приходит бумажка такая… и давай, иди на войну… а если не пойдешь… тогда… тогда можешь сунуть голову в мешок и маршировать на кладбище прямым ходом… вот тебе и весь сказ…
– Ты, старый осел, небось и без всякой бумажки поперся бы на войну, – ехидно замечает мать.
– Я-а-а-а? Само собой! И поперся бы! Потому как мне смерть хотелось к неграм. Все получалось лучше не надо. Мне смерть как хотелось попасть на кофейную плантацию к его милости. К чернокожим хотелось, вот в чем суть. Уж такой я есть. Я хотел там сделаться мясником, бутчер – это по-ихнему так называется и было написано в проспекте, я сам читал. И не надо идти на три года в ученье, потому как они не настоящие немцы, а больше сказать, рабы… и жрут почти все как есть.
– Стало быть, не так уж и сладко тебе жилось при бывшем кайзере, что ты собрался к неграм, – поддразнивает его Блемска.
– Дурак ты и больше никто…
– Ну, ну…
– Чего «ну-ну»? Ты все судишь со своей колокольни. Когда кто хочет выбиться в люди, надо уехать подальше… Не уедешь – не выбьешься. А ведь с неграми как получилось? Французы и англичане хотели забрать у нас нашу землю с неграми вместе. Вот они какие гады! Надо их гнать взашей. Это и младенцу ясно.
– А кто тебе сказал, что они хотели отнять колонии у его милости?
– То-то и есть, что ты газет не читаешь. В газете ясно было написано, черным по белому, и еще это повсюду говорили, и сам император тоже говорил…
– И Леман тоже так говорил?
– Ага, удивился?
– Ну, хорошо, ты был на войне, а всех французов так и не убил. Не справился. Император и бедные негры тебя подвели. Ну, что ты на это скажешь?
– Я скажу, я скажу… не тебе об этом судить, вот что я скажу! Ты не замечаешь, как мы медленно катимся в пропасть. Ты никогда не мечтал попасть в Африку и выбиться в люди. Да его милость и сам говорит, что мы все скатимся в пропасть, если скоро не начнется другая война. Это… ну, чтоб мы получили обратно свои плантации, а если мы не получим обратно свои плантации, нашему прекрасному отечеству каюк, и всё тут.
– Ах, вот как изволит выражаться милостивый юбочник из замка? Ну, раз он так говорит, ему видней. Одно плохо: боюсь, негры вас не ждут, ни тебя, ни его.
– Ну и хватит! – Отец вдруг вскакивает с места. – Чего это ты расселся в моей кухне, крамольник проклятый?!
Мать тоже вскакивает, хватает отца за полу пиджака и гонит его перед собой в спальню. Отец цепляется за дверной косяк. Мать бьет ребром ладони по его волосатой руке. Отец морщится от боли. И грозит Блемске онемевшей после удара рукой. Мать еще сильней толкает его. Отец, пошатнувшись, валится на кровать. Мать закрывает дверь в спальню и запирает ее снаружи на засов.
– Этого я вовсе не хотел, – говорит смущенный Блемска и направляется к дверям.
– Да будет тебе, – отмахивается мать, – ничего ему не сделается.
В спальне отец подает голос: «Германия, Германия превыше всего…»
– Начал раздеваться, – шепчет мать. И подглядывает в дырочку на двери. При словах «немецкие женщины, немецкая верность…» раздается скрип постели, и пение мало-помалу переходит в неразборчивое бормотанье.
Последний день занятий перед началом летних каникул. Игры на школьном дворе. Рожь уже наливается восковой спелостью, и жалобно кричат молодые косули. Теперь Лопе не будет каждый день видеть Марию Шнайдер. А с Альбертом Шнайдером дружба опять разладилась. Лопе не может гасить ежедневно по пожару, чтобы прославиться и тем снискать его расположение. Вот Мария более постоянна. С того самого детского праздника она без всякого уговора остается его партнершей. Дети кричат, швыряют камни, кувыркаются, водят хороводы.
Перед школой растет гора шума. Дети наносят ее по камушку из всех домов. Лопе дружески хлопает Марию по спине и мчится прочь.
– Тебе водить! – кричит он.
Мария мчится за ним и догоняет. Он с радостью дает себя догнать.
– А теперь тебе! – говорит и она, ласково хлопнув его по спине.
И снова убегает. И снова Лопе мчится за ней вдогонку.
– Тебе!
– «Кто бежит за ней вдогонку, значит, любит ту девчонку», – поддразнивают мальчики и девочки.
– Ты, видно, влюблена в Лопе, – поддразнивает Тина Фюрвелл Марию.
– Ло-опе? Это в плешивого-то? Да у него голова, как тыква, – краснеет Мария.
Лопе стоит за деревом и слышит ее слова. Гримаса боли пробегает по его лицу.
– Фердик Огнетушитель, – насмехается чей-то голос. Тогда Лопе снимает с шеи шнурок, на котором подвешен ключ от дома, и начинает кружиться, раскручивая ключ.
– А ну, выходи, кто желает, – говорит он, и они оставляют его в покое.
Теперь Фердинанд время от времени задерживается у окошка Фриды Венскат. Они беседуют сквозь изгородь из фуксий. Он видит на ее швейной машинке целую стопку грошовых романов. «Воспоминания метрессы, или Продажная любовь».
– Вы это читаете?
– Я вообще читаю запоем, господин конторщик. – И Фрида страстно вращает глазами.
– Я нахожу эту литературу – как бы это выразиться – не очень хорошей. И давно вы читаете подобные романы?
– Очень давно. Сразу после окончания школы я начала их читать. Мне дает их Стина, а Стина получает их от ее милости.
– А вы не находите, что в этих книгах повторяется одно и то же, что ты читаешь их как бы по кругу?
Фрида, когда читала, не обнаружила никаких признаков круга. Взять хотя бы саму графскую метрессу. Она греховна, как женщина юга. Она почти каждую ночь торгует своим телом. Они с графом такое вытворяют, что и в голову никому бы не пришло, если бы об этом нельзя было просветиться благодаря книге.
– Ну, где брать сведения человеку, который прикован к дому, вот как я. – Фрида в волнении сучит своими култышками и проводит языком по бескровным губам.
Фердинанд растроган.
– Вы всерьез полагаете, будто любовь развивается так просто, скажем, так примитивно, как в этих романах?
На этот вопрос Фрида не знает, что и ответить, не имея соответствующего опыта. Взгляд у нее становится томным и засасывающим, глаза подергиваются поволокой.
– Вам надо читать другие, лучшие книги. Скажем так: вам надо внутренне двигаться вперед, заходить все глубже в заповедные долины любви. А вы, если можно так выразиться, все время ходите вокруг одного и того же дерева и любуетесь одними и теми же цветами.
– Я брала книги и в школьной библиотеке, но индейцы меня не интересуют. Представьте себе, господин конторщик: когда читаешь, как у человека снимают с головы кожу, это причиняет настоящую боль, если вот так сидишь, как я.
Фердинанд обещает при случае принести ей другие книги.
– Спасибо, большое вам спасибо, господин конторщик, только, ради бога, не про индейцев.
– Хорошо, не про индейцев.
Мимо идет жена управляющего. Вот как раз в эту минуту. Она бросает презрительный взгляд на Фриду и укоряющий – на Фердинанда. Тело ее превратилось в круглый шарик, который катится по-прежнему проворно. Фердинанд глядит ей вслед и задумывается. А Фрида мысленно целует задумавшегося Фердинанда в щеки и в лоб.
– Видите, у нее будет ребенок, ребенок – лишь сейчас, так сложны порой пути любви.
– О да, – говорит Фрида и на все воскресенье сыта этим разговором. Она уже не может читать с прежним спокойствием и вниманием. В мыслях ее господин конторщик то и дело оборачивается графом, а сама она – его метрессой.
В одно из воскресений Липе Кляйнерман дольше обычного не возвращается домой.
– Вечно эта пьянка, – ворчит мать. – Откуда он только деньги взял? – И с этими словами она засовывает в духовку уже готовый обед.
Лопе украдкой выскальзывает из дому.
– Посмотрю, может, отец уже в конюшне.
Он, конечно, врет, ему просто хочется заглянуть в свой закуток на сеновале. Волосы у Лопе опять отросли длинные-предлинные. Не ровен час, у отца снова возникнет идея поиграть в бойню. А Лопе не желает больше ходить плешивый, не желает, чтобы голова у него была, как тыква. Вот уже несколько дней на голове у Лопе в непослушной гриве можно заметить извилистую линию, которая должна изображать пробор. Лопе поглядывает в осколок зеркала. Он нашел его в господском мусорном ящике. Лопе глубоко убежден, что теперь его голова ни капельки не похожа на тыкву.
Некоторое время Лопе спокойно читает, потом он слышит внизу шаги матери и съеживается. Мать проходит мимо. Лопе спускается по лестнице. Кучера приходят задавать лошадям дневной корм. Мать с ожесточением двигает горшки на кухне.
– Отца там нет, – говорит Лопе со смиренным видом.
– Это любому дураку известно, – обрезает мать.
Замковые часы бьют час. Их дребезжащие удары дрожа расходятся в горячем полуденном воздухе. Труда что-то тихонько мурлычет себе под нос.
– Рехнуться можно от твоего воя, – сердится мать. – Если он сейчас не придет, будем обедать без него. Достань лучше ложки.
Кто-то украдкой шмыгает мимо окна, и отражение головы Венската на миг возникает в распахнутой створке.
– Матильда, подойди-ка к окошку.
Венскат начинает шептаться с матерью.
– Да ну! Быть не может! – говорит мать и задумчиво подносит к лицу сложенные руки. Венскат идет дальше. Немного спустя мать начинает куда-то собираться.
– Лопе, достань еду из печки, покорми Труду и маленькую. Поешьте все. Я тут ненадолго. Только смотри, не выходи из дому.
Лопе раскладывает еду по тарелкам.
– Ох, – говорит Труда с картофелиной во рту, – отец, наверно, пьяный придет.
Лопе прячет подальше ведро с водой.
– Когда он придет, я сбегу. Не хочу, чтобы он меня опять обкорнал.
Полдень тяжелым одеялом лег на двор и парк. Устало жужжат мухи. Через равные промежутки временя раздается бой замковых часов. Лопе считает: два часа, три. Возвращается мать и торопливо отыскивает что-то в ящике комода. Она тяжело дышит, должно быть, бежала. Лицо у нее приняло какой-то лиловый оттенок. Грудь вздымается.
– Что с отцом? – спрашивает Труда.
– С отцом? А что с ним может… Ну да, конечно… С отцом… – И мать уже снова за дверью.
– Может, он свалился в пруд, – говорит Труда и хлопает в ладоши. – Тогда он придет весь мокрый и забудет про свою бойню.
Лопе видит, как за окном торопливо снуют люди. Один раз он слышит что-то похожее на гудение грузовика. Большая шляпа овчара Мальтена проплывает, покачиваясь, мимо окна. Высокий лоб Фердинанда раздвигает тяжелый летний воздух.
Четыре часа. Длинней становятся тени от яблонь в огороде. Труда и Элизабет играют в магазин пустыми колосками из соломенного тюфяка и сосновыми шишками из деревянного короба. Скоро пять. Наконец слышится гул множества шагов, неясный рокот голосов, кто-то произносит:
– Нехорошо, что у него рука так свесилась. Она по земле волочится.
Тут уж Лопе бежит к дверям.
Трое мужчин несут кучера Мюллера, один – за голову, двое – за ноги. Кто-то широко распахивает кухонную дверь у Мюллеров, словно к ним в гости пожаловал великан. Трое опускают Мюллера на кухонный пол. У Мюллера коричневато-синее лицо, а язык торчит между зубами, словно хлебная корка. На нем сидят мухи. Глаза Мюллера повязаны платком. Люди набиваются в кухню, словно на праздник. Лопе и девочек оттирают в сторону. Кто-то составляет рядом все наличные стулья и табуретки, кто-то другой приносит доски и настилает их поверх стульев. Мюллера кладут на эти доски. Парикмахер Бульке пытается сложить руки Мюллера на животе, но когда он отворачивается, одна рука, негнущаяся, как палка, соскальзывает вниз, и Лопе слышит, как ногти Мюллера царапают по каменному полу.
– Надо их связать, – говорит кто-то.
Бульке пытается запихнуть высунутый язык Мюллера обратно в рот. Со стороны это выглядит так, будто он чем-то насильно кормит Мюллера. Одна из женщин отгоняет фартуком мух, которые садятся на тело.
По кухне расползается неприятный запах. В углу молча стоит Фердинанд.
– Он умер? – спрашивает Лопе.
Фердинанд кивает.
Мать встревожена:
– Скажите мне, люди добрые, куда подевался мой старик?
К парикмахеру отец ходил вместе с Мюллером.
– Хотите верьте, хотите нет, – говорит Бульке, – только у меня оба они были еще трезвехоньки. – Он связывает руки Мюллера, как для молитвы.
– А потом прямиком потопали к Тюделю, – сообщает фрау Венскат.
– Ему ж у Тюделя ничего не отпускали, – говорит фрау Бремме и кашляет дребезжащим кашлем.
– То-то и оно, – комментирует лейб-кучер Венскат, – они загодя уговорились. Мюллер, – и при этих словах Венскат торжественно обнажает голову, – Мюллер дал свои деньги Липе, а Липе потом заказал на двоих и сделал вид, будто угощает Мюллера. – Венскат снова приподнимает шляпу. – Тюдель ничего не мог поделать.
– Да, но куда делся Липе, когда они оба набрались? – спрашивает кто-то.
Тут выясняется, что смотритель Бремме видел, как оба слонялись неподалеку от пруда. Он еще прочитал им по этому поводу Нагорную проповедь. Липе Кляйнермана – как и всегда во хмелю – обуяла гордыня, и он сказал: «Захочу и пройду по водам, через пруд, стало быть. Нынче у нас воскресенье, тут мне никакой смотритель и никакая сволочь не указ». А кучер Мюллер стал при этом тихий и маленький.
– Он плакал, – продолжал смотритель, потому что все взгляды устремлены теперь на него, – плакать плакал, но ведь кому могло прийти в голову, что он… Я же хотел как лучше. Я же думал о жене и детях.
– А с чем мы остались теперь, боже милостивый, – рыдает фрау Мюллер, прижимая своего отпрыска к грубой куртке из мешковины. – Старшие-то пристроены, а вот малыш! Ну какая вам забота, пьет он или нет? В конце концов это мое дело и больше ничье. А он был хороший человек… Да, да, очень хороший, могу повторить еще раз. Получше иных прочих, которые здесь стоят.
Венскат пытается успокоить фрау Мюллер, а Бремме потихоньку шмыгает за дверь, и фрау Бремме, словно тень, следует за ним.
– Мне от этого толку мало, пока я не узнаю, куда подевался мой старик, – говорит мать. – Дети, ступайте домой, – приказывает она, а сама уходит в деревню.
С тех пор как управляющий последний раз застукал Бремме в амбаре, когда тот насыпал себе в мешок зерно для покрытия долгов за жевательный, а также курительный табак, он решил хранить ключи от амбара у себя. Поднимать крик управляющий не стал. «Да и не мог, – объясняет смотритель булочнику, – я сам помогал ему тащить мешок с зерном в Ладенберг, туда, где он купил себе большой письменный стол».
Смотритель дольше прожил в этом имении, чем управляющий. Он начинал погонщиком волов еще при папаше его милости. Вот было времечко, золотое времечко: пара приличных башмаков – полтора талера.
В те времена у них был устроен наклонный желоб, по которому овес ссыпался из амбара в сусек. В войну желоб перекрыли, потому что слишком завлекательна была эта дыра для воров. А ключ смотритель Бремме взял тогда себе. Нынче, когда у них новый барин и новый управляющий, кучерам выдают зерно по мерке. И они сами должны тащить его в мешках с чердака. И пусть новый управляющий держит ключ под подушкой, сколько его душеньке угодно, Бремме без всяких ключей изловчится взять столько зерна, сколько ему нужно.
– Вот теперь и сгоняй, – говорит он своей вечно хворой жене, когда они выходят от Мюллеров. – Сейчас весь народ возле тела. Мешок лежит больше к середине, в аккурат под кучей сечки.
Фрау Бремме, покряхтывая, идет в закром, где сечка. Она прихватила с собой большую корзину. Имеет она в конце концов право набрать для курятника корзину сечки, или это теперь тоже запрещено?
Чуть покашливая, фрау Бремме шарит руками в мелко нарубленной овсяной соломе. Она запускает руку поглубже и натыкается на что-то твердое. Твердое? Да это же сапог! Фрау Бремме хватается за него.
Но в нем… в нем внутри нога! Господи Иисусе! Кха-кха-кха! Вся посинев от кашля, фрау Бремме с воплем мчится в усадьбу. Работники вместе с парикмахером Бульке вываливаются из кухни Мюллеров. Тело остается в полном одиночестве, и только жирные мухи жужжат над ним.
– Там… кха-кха… там, в закроме… – выкрикивает фрау Бремме.
– Стало быть, и Липе тоже? – сочувственно осведомляются женщины.
– Я же говорила, я же говорила, – причитает фрау Мюллер, – они одного за другим загонят в гроб.
Но парикмахер Бульке уже потянул за сапог.
– Это не мертвые кости, это живая нога, она же гнется!
Когда общими усилиями они извлекают Липе из сечки, у того крайне недовольное выражение лица.
– А, чтоб вам! Уж и вздремнуть человеку нигде нельзя, – плаксивым голосом жалуется Липе.
– Ты ж мог задохнуться, – говорит Бульке и с помощью Венската пытается поставить Липе на ноги.
– Вот чертовщина, – кряхтит Липе, – полдень-то уже прошел или нет?
– Господи, да кто в полдень удавился, тот уже… – каркает одна из женщин.
– Тс-с-с! Грех шутить! – перебивает ее другая. – Уж такая беда с Мюллером, такая беда…
Молчание.
– А что с Мюллером? – любопытствует Липе и, покачиваясь, пытается стряхнуть облепившую его сечку.
– Повесился он, вот что. И зачем ты только давал ему пить?
Молчание. Липе тупо таращится на всех пьяными глазами.
– Беги на пруд, скажи матери, что отец нашелся. – И Фердинанд дает Лопе щелчок.
Лопе застает мать в пруду. Она бродит по воде, подоткнув юбку. Рядом с ней Блемска, у обоих в руках длинные шесты, которыми они обшаривают дно пруда.
– Вот скотина, вот гад, – бранится Блемска. – Дураками нас выставил. Ну, попадись он мне только, я ж ему…
Мать стоит на берегу и расправляет подоткнутую юбку. Крупные слезы брызнули у нее из глаз. Нос-картошка краснеет.
– Вот дура-дуреха, – сердится Блемска, – еще реветь из-за этого пьянчужки! Лучше взгрей его хорошенько, когда придет домой.
– Не говори отцу, что я плакала, – внушает она Лопе.
Господин управляющий тоже пришел посмотреть на Мюллера. Все упреки фрау Мюллер он выслушал молча, затем проследовал в закром, где и обнаружил разрытый стараниями Липе мешок Бремме.
– Вот болван, мешок-то меченый, – ворчит управляющий себе под нос, изучая края мешка. Потом он присвистывает сквозь зубы, так как обнаружил замок на крышке люка, ведущего в кормовой желоб. Не более как через пять минут ключ изъят у Бремме.
– Просто дыхнуть человеку не дают! – К такому выводу приходит Бремме, когда отыскивает в ящике с разным хламом ключ, который подошел бы к заветной дверце.
Губы матери сжаты в узкую черту.
Как много людей пробуждает к жизни один покойник. Парикмахер Бульке обряжает Мюллера в черный воскресный костюм. Столяр Танниг готовит для него гроб, а муниципальный чиновник вычеркивает имя Мюллера из списка живущих. И, наконец, Бер, булочник, печет из ржаной муки два пирога для поминок.
Пастор упирается. Он не желает читать надгробное слово, коль скоро речь идет о самоубийце.
– Нельзя, чтобы поп делал все, что ни вздумает, – говорит его милость и приглашает к себе управляющего.
– Мне крайне неприятна эта история с самоубийством. Поговаривают, вы же знаете, как люди скоры на всякие слухи… Как вы полагаете, не может ли создаться впечатление, будто Мюллеру у меня не очень сладко жилось?
– Если ваша милость пожелает выслушать мое мнение, народ в деревне знает, что Мюллер был первостатейный симулянт.
– Да, но я вот о чем: можем ли мы просто зарыть его в землю безо всякого напутствия? Я решительно отказываюсь понимать косность нашего пастора.
– Да, ваша милость, всё прынцыпы, всё прынцыпы. Просто наш пастор не любит утруждать себя ради людей, которые при жизни не принадлежали к его постоянной клиентуре.
– Нелепо, не правда ли? Как вы полагаете? Но я вас вот о чем хотел попросить: сходите к пастору, переговорите с ним, пусть он… пусть он встанет на истинно христианскую точку зрения… и пренебрежет чисто внешними обстоятельствами. Словом, переговорите с ним в таком смысле. Я знаю, вы это умеете. Я всецело на вас полагаюсь.
– Хорошо.
Управляющий идет к пастору, чтобы переговорить с ним. Мягким, как бархат, голосом пастор приводит доводы, которые удерживают его от совершения христианского обряда над гробом самоубийцы. Управляющий, со своей стороны, выпаливает в него подсказанными доводами.
Они говорят долго и наконец после трех рюмок водки приходят к соглашению. Могильщик получает указание вырыть могилу за часовней, в дальнем углу кладбища. Там похоронен один русский. Он в войну вскрыл себе вены. Не мог больше выносить жизнь на чужбине. Там, по правде говоря, должен бы лежать и старик Шнайдер, отец Альберта Шнайдера. Он ведь тоже повесился с пьяных глаз, но, благодарение богу, успел еще при жизни оплатить погребение по всем правилам для себя и своего семейства.
Перед дверями Мюллеров собралась небольшая группка. Фрау Мюллер взяла у фрау Венскат взаймы черный плащ и надела его поверх цветастого воскресного платья. Пастор заставляет себя ждать. Его милость уже трижды присылал спросить, начались похороны или нет. Назначено было на четыре. Но вот уже шесть, а люди все ждут.
Гримка идет к себе перекусить. Остальные кучера по очереди выскальзывают из толпы, чтобы задать на ночь корму лошадям. Собираются отрядить к пастору гонца. Приходит управляющий.
– Чего суетитесь? Будет вам пастор. Я с ним разговаривал.
Половина восьмого – без малого. Весь побагровев, Блемска поднимается на ступеньку крыльца и говорит:
– А теперь пошли, и будь что будет!
Шестеро работников входят в дом и через некоторое время возвращаются с гробом, стоящим на носилках. Женщины тихо плачут в чистые носовые платки. Отец берет Элизабет за руку. Он тоже плачет и утирает слезы тыльной стороной ладони. Венскат бормочет:
– Тогда давайте по меньшей мере споем. – И заводит: – «Господь моя сила и крепость…»
Лакей Леопольд караулил их на огородах. Он подает рукой знак в сторону замка, после чего тотчас появляется его милость.
Маленькая процессия неуверенно трогается в путь. Сбегаются из конюшен кучера и тоже примыкают к ней. Последним прибегает Гримка. Он что-то жует.
По дороге процессия натыкается на пастора. Глаза пастора за толстыми стеклами очков моргают еще больше, чем обычно. Пастор явился в полном облачении и занял место за гробом рядом с фрау Мюллер.
– Он ждал, пока сядет солнце, – шепчет одна из работниц.
Его милость, однако, расслышал этот шепот.
– Какое отношение имеет солнце к похоронам?
Женщины молчат.
– Фрау Венскат, скажите, пожалуйста, какое отношение?
– Людей, которые сами наложили на себя руки, можно предавать земле лишь после захода солнца, милостивый господин.
Господин качает головой.
Надгробное слово оказывается предельно кратким, оно будто утыканная булавками подушечка под голову Мюллеру.
Короче говоря, умереть должны все, но отнимать жизнь у самих себя мы не имеем права, потому что не сами себе ее дали. Нет и нет, мы должны смиренно ждать, пока богу не будет угодно взять нас из этой юдоли скорби.
Короткая, нестройная молитва и – аминь. Три руки – три пригоршни песка, как последний привет. Лопе берет песок обеими руками. Мать не плачет, остальные женщины притворно всхлипывают.
– Итак, мы не должны отнимать жизнь у самих себя, ибо это неугодно богу, – философствует Блемска в разговоре с Фердинандом на обратном пути, – а как быть, когда жизнь у нас отнимает кто-нибудь другой?
– Тогда этот другой бывает заклеймен как убийца и кара поражает его еще здесь, на земле, от руки… как бы это выразиться? От руки правосудия.
– Нет, я не про то. Вот если кто толкнет нас на самоубийство, как те, что гонят нас на войну?
– Это другое дело.
– Почему другое?
– Ну, тут… скажем, так… тут проявляется воля всего народа; если ты убьешь кого на войне, это не убийство, потому что…
– Потому что это убийство по приказу?.. – перебивает его Блемска.
– Ну ты… ты ведь не за свою семью идешь воевать… а… а за отечество, которому грозит опасность…
– В последнюю войну мне никто не грозил.
– Да, да, это все очень непросто, – уклоняется Фердинанд. – А ты видел, как оскалился Мальтен, когда заговорил пастор?
Блемска не отвечает.
Кучер Мюллер получает в свое распоряжение крест из тронутого коричневой морилкой дерева. На кресте написано: «Дорогому, незабвенному отцу» – и строчкой ниже: «Ветеран мировой войны 1914/18 Август Мюллер». Все как следует быть. При жизни его не причисляли к крестьянам, хотя он всю жизнь день за днем работал в поле. Наверно, по этой причине он и после смерти должен лежать на особицу в своем углу позади часовни. Не помоги он сам своей смерти, лежать бы ему сейчас возле лавочницы Крампе.
Лопе начинает смекать, как ему лучше использовать свободное время. У отца он научился вязать веники. Мать считает, что он сам должен заработать себе деньги на костюм для конфирмации. К тому же у отца все сильней дрожат руки. Он так пьет, что ничего уже толком делать не может. Поэтому Лопе теперь почти не приходится читать. Мать всюду его отыскивает, будь то на сеновале или в парке среди кустов.
– Займись чем-нибудь дельным, от чтения сыт не будешь.
Лопе садится на лежанку и начинает «прирабатывать». Воскресным вечером он приносит свои изделия в замковую кухню, к торговцу Кнорпелю, трактирщику Тюделю либо мяснику Францке. Вот и Блемска заказал у него недавно три веника.
По будням, когда в школе нет занятий, Лопе выходит с матерью на поле. Он работает с женщинами – режет осот, дергает редьку, сажает капусту, убирает брюкву, вяжет снопы, копает картошку. Но книги не идут у него из головы. С их помощью можно объездить весь мир, не покидая своего дома.
Как-то раз его осеняет ценная мысль: читать можно в церкви. Просто вместо молитвенника он будет брать с собой книгу для чтения, новую книгу Фердинанда.
Конфирманты собираются слева от входа у церковной ограды, сложенной из крупных валунов. Клаус Тюдель и Альберт Шнайдер режутся в пристенок. Альберт Шнайдер кидает монетку об стену. Кидая, он прикусывает кончик языка.
– Достал, – смеется Клаус Тюдель. Он упирается большим пальцем в свою монету, а мизинцем дотягивается до Альбертовой. Его пяди хватает, чтобы соединить обе монеты. Теперь бросает Клаус.
– Вот грабитель, – шипит Альберт, – да ты таким манером выудишь у меня все деньги! На какие шиши я сегодня куплю сигареты?
Очередная монета звякает о выступ стены.
– Если ты и эту ограбастаешь, ищи себе черта в партнеры.
Теперь бросает Клаус.
– Не достал! – ликует Альберт. Он поднимает свою монету и снова швыряет ее о стену.
– Не достал! – кричит на этот раз Клаус и наклоняется.
– Достал!
Клаус снова выиграл. Альберт дает ему кулаком под ребра.
– Не диво, что вы богатеете! Вы прямо выуживаете деньги из чужого кармана.
Словно раскаты грома обрушиваются первые удары колокола на головы собравшихся детей. Содрогаются двери и стены. Пастор шествует в ризницу. Дети смолкают, теснятся в дверях, какая-то девочка вполголоса скулит:
– Спятил ты, что ли? Ой, ноги, ой, ноги!
И тишина.
В церкви запах, как в заброшенной пещере. С легкой примесью тлена. Взвизгивают мехи органа. Их накачивает парикмахер Бульке. Первые аккорды, пенясь, изливаются с хоров в церковный неф, словно вырвавшаяся на свободу вода из запруды.
Дети поднимаются на хоры.
– У тебя карты есть? – спрашивает Альберт Шнайдер Клауса Тюделя.
– Да, целых две колоды, только Пауле Венскат не пришел.
– Тогда пусть Лопе за него играет.
– У него же денег никогда нет.
– А один на один я с тобой не стану. Думаешь, я тебе позволю еще раз меня обыграть?
Прежде чем сесть, дети прижимают шапки подбородком и шевелят губами: это они так молятся.