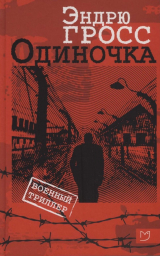
Текст книги "Одиночка"
Автор книги: Эндрю Гросс
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Глава 13
Той ночью, когда все на базе уже спали, Блюм вышел через задний выход из офицерской казармы покурить. Издалека доносились раскаты грома.
Если бы его вызвали на совещание в корпус А, чтобы подтвердить перевод в Форт-Ричи, он бы отпраздновал это походом в кино: на базе давали «Иметь и не иметь», новый фильм по роману Хэмингуэя с Хамфри Богартом и Лорен Бэколл в главных ролях. Или встретился бы с той миленькой кузиной соседа из Чикаго, которая работала в отделе косметики магазина «Вудворт и Лотроп». Она была симпатичная, веселая и напоминала ему сестру. А еще, в отличие от многих офицеров в подразделении, ничего не имела против его европейского акцента.
Но Натан остался в казарме. Его обуревали чувства, схожие с теми, что он испытывал в ночь перед побегом из Кракова, когда сердце подсказывало ему, что он прощается с родными навсегда. Что его поставили перед выбором, который не поддавался логическому анализу, не существовало способа оценить его однозначно. Но Блюм понимал, что выбор этот он все равно должен сделать.
В конечном итоге это спасет жизни людей или наоборот, приведет к их смерти?
И то, и другое, сказал генерал Донован.
Ночь была теплой. Она напомнила ему такие же теплые ночи дома, когда влажный воздух можно было намазывать на хлеб с джемом вместо масла, как говорила его матушка.
Какой выбор будет правильным? Это спасет людей или погубит их? Какие критерии здесь можно применить? Вот о чем спросил бы его отец. Он явственно слышал спокойный голос отца, который задает вопрос генералу.
А что сказал бы ребе Лейтнер? Он что-то припоминал из Мишны, собрания бесчисленных постулатов иудейской веры, которые вдалбливали в него с детства в полутемных комнатах, в то время как его собственные мысли рвались за окошко к более приятным вещам: к футболу с ребятами в парке Красинских, или к субботнему гусю, которого мама зажарит к его приходу. Перловый суп, треугольные пельмени креплах и компот из яблок и слив…
Пидйон швуим — так это называется на иврите.
Выкуп пленных.
Блюм затянулся сигаретой и вспомнил, как старый раввин однажды спросил его: что будет, если заплатить выкуп за человека, которого держат в заложниках? Спасет это жизни людей или убьет их? Или принесет только новые трудности и страдания? «Нельзя сказать, что делается на благо, если думать только о ближайшем будущем. Ты понял меня, Натан?» – ребе обошел стол. Да, жизнь человека будет спасена, признал он. Это так. «Но ведь потом других людей возьмут в заложники и также потребуют за них выкуп. И те деньги, которые должны были пойти на храм, а были потрачены на выкуп, не послужат ли они падению храма? Конечно, если бы речь шла о твоем сыне или брате, – ребе пожал плечами, – ответ был бы не таким однозначным».
Если Блюм сделает то, о чем просят Стросс и Донован, он будет не столько выкупать жизнь другого человека, сколько предлагать взамен свою. В каком-то смысле он и есть выкуп. Он с улыбкой представил себе старого раввина, который бормочет, задумчиво поглаживая бороду: «Как еще ты узнаешь, платить или не платить за заложника, если ты не ответишь на этот вопрос?» Спасаешь ты этим людей или убиваешь? Забыв о том, чья жизнь поставлена на карту: твоего брата или незнакомого тебе человека… Только так можно было дать ответ.
С тех пор, как ему исполнилось семнадцать и нацисты вошли в Краков, простых ответов не было.
Он напомнил себе, что его родители и сестра лишились жизни ради того, чтобы он оказался здесь. Вместо него могли бы отправить кого-нибудь другого: Перельмана, например, или Пинкаса Шрайва. Они не хуже Блюма научились бегать от немцев. Но почему их не выбрали? Блюм припомнил огонек надежды, мелькнувший в печальных глазах отца во время их последнего прощания. Надежда угасала, потому что оба они понимали, что их пути расходятся, как ветви большого дерева.
И теперь, размышлял Блюм, ему предстояло вернуться обратно ради цели, которая несет скорее смерть, чем надежду. Ради человека, знакомого ему только по имени и по портрету, чье истинное предназначение Блюм, может, так никогда и не узнает. Все это обесценивало его жертву, его отъезд из Кракова. Правда, по словам отца, его миссия была «великой честью». Что, если он положит жизнь там же, где они отдали свои ради его спасения?
Как принять правильное решение? Он пытался найти ответ в суровых глазах генерала. Ты можешь себе представить, насколько это важно для нас… Такой же взгляд был у отца, когда они виделись в последний раз. Но, с другой стороны: Мы даже не уверены, жив ли он.
У операции было слишком мало шансов на успех. Он отчетливо читал это в угрюмых взглядах Стросса и Донована. Оба они очень хорошо понимали, на что обрекают Блюма.
Он потянулся за бумажником и достал фотокарточку. Они с Лизой сидят на подоконнике на даче в Мазурии. Лизе исполнилось четырнадцать, он только начал бриться.
Вспомнил, как они сидели, свесив ноги, на площадке пожарной лестницы в их тесной квартирке на улице Юзефа.
– Я не хочу, чтобы ты уезжал, – призналась она.
– Я и сам не хочу уезжать, – он качнул ногой.
– Тогда не надо, – она умоляюще посмотрела на брата. – Скажи папе, что ты раздумал.
Когда ему было шесть, а Лизе – три, отец взял с него обещание защищать сестру всегда и везде. Он выставил ее, еще совсем малышку, в открытое окно четвертого этажа и крикнул: «Я выкину ее из окна, если ты не поклянешься защищать ее!»
– Клянусь! Клянусь! – завопил Натан, забыв, что под окном был широкий карниз и Лизе ничего не угрожало.
– Я должен ехать, – ответил он. – Это очень важно для храма. С тобой все будет хорошо. Я велел Хаиму позаботиться о тебе, если что.
– Вайсману? Да он идиот, – Лиза презрительно фыркнула.
Ну да, Хаим был напыщенным хвастуном. Но ему не хуже, чем другим, были известны все входы и выходы из гетто, и он всегда находил повод поинтересоваться, как Лиза.
– И все-таки, если начнутся неприятности, ты должна последовать за ним, – Натан посмотрел ей прямо в глаза. – Даже если мама и папа останутся. Это очень важно, Лиза. Ты должна дать мне слово.
Она глянула вниз, на продавца овощей, толкавшего тележку по двору.
– Ты должна дать мне слово, – повторил Натан.
– Ну, хорошо, хорошо, – согласилась она наконец.
Блюм пристально смотрел на сестру.
– Даю честное слово.
– Так-то лучше, – улыбнулся Блюм.
Они посидели молча, потом Лиза спросила:
– Как ты думаешь, мы еще когда-нибудь увидимся?
– Обязательно. Клянусь своей жизнью, – ответил он.
– Увидим. Я не столько беспокоюсь за нас, папа всегда найдет выход, сколько за тебя. Америка – это ведь совершенно другая страна. Ты даже языка не знаешь.
– Это неправда. Я могу сказать: «Руки вверх!» – он изобразил ковбоя из вестерна, сложив пальцы в револьвер и нажав на воображаемый курок.
– Натан, зачем ты дразнишься! Ладно, у меня есть кое-что. Жди здесь, – она слезла с подоконника, ушла в комнату и через минуту вернулась с нотной страницей. Это были ноты до-мажорного концерта Моцарта для кларнета – одного из ее самых любимых произведений. Сестра исполняла его на прошлогоднем выпускном концерте в консерватории. Она вырвала титульную страницу.
– Лиза, не надо!
Сложила ее вдоль и разорвала на две половинки.
– Вот, смотри, – сложила одну половинку до маленького квадратика. – Ты сохранишь свою половинку, а я – свою. Когда мы опять встретимся, мы их сложим вместе. Вот так, – и она развернула квадратик и соединила две части страницы воедино. – Это будет наш пакт, согласен? Ты ведь не потеряешь ее?
– Да я скорей с жизнью расстанусь! – пошутил он.
– Лучше пусть этого не будет, – сестра пристально посмотрела на него. В ее темных глазах стояла тревога и страх неизвестности, нависшей над ними. – Я тоже клянусь! – она обхватила его шею обеими руками. – Я буду по тебе скучать!
– Я тоже, Ямочки!
Она не отпускала его.
– Что бы ни произошло, не прекращай заниматься музыкой. Это твое предназначение. Не позволяй его у тебя отобрать.
– Я не позволю, – она дрожала от страха.
– И помни, если начнется заваруха…
– Да, я иду за Хаимом, – она кивнула, уткнувшись головой ему в грудь. – Как ты сказал.
Блюм достал сложенный нотный листок, который носил с собой все эти три года. «Вольфганг Ама… – было написано наверху. – Концерт для…»
Дальше следовали начальные ноты концерта.
Он закрыл глаза и представил, как Лиза прижимает к себе листок, а в нее летят пули… Он был уверен, что именно так оно и было.
Мимо него быстрым шагом прошли двое рядовых. Блюм поднялся. Оба отдали ему честь: «Сэр!». Он отсалютовал в ответ.
Я думаю, что твой перевод в Форт-Ричи вот-вот будет одобрен, – сказал ему Донован, – если ты так решишь.
Он вспомнил, как на бар мицве в Кракове говорил об алие. Каждый еврей дает обещание однажды вернуться в Святую землю, хотя мало кто его выполняет. Так что, быть может, в этом и заключается его алия? В память о родителях и их гибели. Его наследие. Только это будет не Иерусалим, не Святая земля, а лагерь смерти, затерянный в лесах южной Польши…
Его земля обетованная.
Найти этого человека.
Без обратного билета.
Он сложил Лизин листок и убрал его обратно в бумажник, к фотографии сестры, которую всегда носил с собой. Затушив сигарету, Блюм подобрал фуражку. Пришлось чуть помедлить, прежде чем он смог вернуться в казарму – каждый раз, когда он вспоминал о сестре, на глаза наворачивались слезы.
Через несколько месяцев после того, как он узнал об ужасной участи Лизы, ему сообщили, что в то самое утро, спасаясь от немцев, Хаим Вайсман упал с крыши и погиб.
В тот момент, когда грузовик с немцами въехал во двор дома, и они с криками «Schnell!» начали выгонять всех из квартир, она, должно быть, медлила в ожидании Хаима, потому что дала обещание брату. Спряталась на лестнице. Она надеялась, что тот придет, но немцы обнаружили ее и поволокли вниз по ступенькам.
Он придет, придет, – повторяла она про себя. – Натан так сказал.
Она продолжала ждать, пока их не выстроили в ряд и не открыли огонь.
Глава 14
На следующее утро до начала смены Блюм направился в главное здание и спросил, где найти капитана Стросса. Кабинет помощника Донована оказался тускло освещенным тесным закутком в конце коридора на третьем этаже. Пару секунд он постоял перед дверью, потом снял фуражку и постучал.
Капитан оторвался от карт и донесений и, казалось, был рад появлению Блюма:
– Лейтенант!
Каморка Стросса была полной противоположностью кабинета его начальника. Если не считать редких лучей, проникавших сквозь зашторенное окно, единственным источником света была лампа, стоявшая на стальном столе. Полки на одной стене были сплошь заставлены книгами и папками. На другой висели карты Польши и Европы. На столе Блюм разглядел две фотографии в рамках: темноволосой женщины, скорее всего жены капитана, с двумя маленькими детьми и пожилой пары – мужчины в темном костюме с короткой бородой и женщины в белом платье и шляпке.
Стросс отодвинулся от стола и ждал.
Блюм просто спросил:
– Так когда я уезжаю?
Лицо капитана расплылось в улыбке. Встав, он протянул Натану руку.
– Послезавтра. Для начала в Британию. Сама операция начнется в конце мая – у нас будет целых две недели на подготовку. Вам надо освоиться с местностью и с лагерем. Знать, чего ожидать, когда попадете туда. Придется сбросить пару килограмм. Но при нынешних рационах это не потребует больших усилий.
Блюм улыбнулся.
– Босс будет доволен. Чертовски доволен, – Стросс присел на краешек стола. – Захочет сам вас поблагодарить. Он сегодня на Холме. Покажите мне, пожалуйста, свои руки.
– Руки? – Блюм удивленно повиновался.
Кивнув, Стросс повернул левую руку Натана ладонью вверх.
– Надеюсь, у вас нет проблем с уколами.
– С уколами? – Натан покачал головой. – Нет. А что?
– Так, ничего. Потом объясню. Я понимаю, что события разворачиваются слишком стремительно. Вы хотели бы кого-то проинформировать о своем отъезде?
– Вы имеете в виду здесь, в США? Ну, может, друга. Больше никого. Может быть, еще кузена и его жену в Чикаго. Это они перевезли меня сюда.
– Давайте договоримся, что истинная цель вашего путешествия останется между нами. Как насчет того, что вы получили перевод? Теперь многие меняют место службы. Нет нужды вдаваться в подробности.
– Понимаю.
– Да, и вот еще что, – Стросс потянулся через стол и извлек из папки фотографию. – Не вижу причин, почему бы вам не увидеть вот это.
На снимке был мужчина средних лет, должно быть, пятидесяти с чем-то. Тяжелое, но приятное лицо, обвислые щеки, очки в металлической оправе, седеющие волосы зачесаны набок.
– Вот ваш человек, – сказал капитан. – Сейчас он, наверное, выглядит несколько иначе.
Блюм рассматривал фотографию.
– Не переживайте, к моменту отъезда каждая морщинка на этом лице навсегда врежется в вашу память.
– Как его зовут? – поинтересовался Блюм. Лицо у незнакомца было добрым, но взгляд был внимательным и серьезным. На носу сбоку – родинка. Кто же он такой, думал Блюм, и что он такого знает, если ради его спасения нужно рискнуть своей жизнью?
– Его зовут Мендль. Альфред Мендль. Профессор из Львова. Боюсь, это все, что я могу сообщить о нем на данном этапе.
– Мендль… – повторил вслух Блюм. – А чем он занимается?
– Физикой электромагнитных излучений. Знаете что-нибудь об этом?
– Ну, яблоко падает на землю, если его уронить.
Стросс улыбнулся.
– Я примерно на этом же уровне. Но многие очень умные люди считают, что этот Мендль незаменим. И его надо заполучить любой ценой. Натан, – я надеюсь, что могу вас так называть, учитывая, что в ближайшие две недели мы будем работать бок о бок, – вы должны знать, что эта операция инициирована на самом верху. И не только в этом здании, вы меня понимаете. Все, что я имею право сказать вам, – вы сослужите нашей стране большую службу, согласившись выполнить эту миссию.
– Спасибо, сэр, – кивнул Блюм, ощутив прилив гордости.
– Вчера вы спросили, еврей ли я, – Стросс сел за стол и посмотрел на Натана. – Так вот, мой отец – кантор, – он пододвинул к Блюму фотографию в рамке, изображавшую мужчину в темном костюме и его жену. – Он служит в Бруклине в храме Бет-Шалом. И все его вечно пытают: почему?.. Почему мы бездействуем? Всем известно, что в Европе творятся ужасные злодеяния. Мы не бездействуем, повторяю я ему, но в глубине души знаю, что это не ответ. Ответом будет поскорей покончить с этой безумной войной и свергнуть нацистов. И то, в чем вы согласились участвовать, поможет этого добиться – как ничто другое. Поверьте моему слову. Позвольте… – Стросс протянул руку и с виноватой улыбкой взял со стола снимок Мендля. – Он у меня пока единственный. Не переживайте, до отъезда вы успеете выучить каждую пору на этом лице. Я проинформирую вашего старшего офицера. Полагаю, кто-нибудь сможет вас заменить?
– Моховицкий, – предложил Блюм. – Он из ЕП-4. Хороший специалист.
– В таком случае, – капитан УСС поднялся с места.
Блюм тоже встал.
– Если вы не против, – капитан снял очки, – я хотел бы у вас кое-что спросить.
– Что именно?
– Я думаю мы оба ясно представляем, с каким риском сопряжено это задание. К тому же мы с генералом были не слишком убедительны…
– Вы хотите знать, почему я согласился?
– Да. И учтите, я сам мгновенно подписался бы, если бы моя кандидатура подошла для этого.
Блюм невесело улыбнулся. Он окинул взглядом полки с книгами. Среди толстых папок и скоросшивателей он заметил несколько томов на иврите.
– Я вижу тут Талмуд. А есть у вас Мишна!
Мишна Санхедрин, один из наиболее ранних сводов еврейских законов из Письменной Торы. Сын кантора должен был начать его изучение с первых классов школы.
– Должна быть где-то здесь, – неопределенно кивнул капитан.
– Глава четвертая, стих пятый, – сказал Блюм. – Лучшего объяснения у меня нет.
– Глава четвертая, стих пятый. Я поищу. Что-нибудь еще?
– Нет, сэр.
Стросс отдал честь. Блюм тоже ответил по форме.
– Хотя есть одна вещь, – Блюм уже подошел к двери. – Я кое-чего боюсь.
– Надеюсь, не замкнутых пространств? – ухмыльнулся капитан. – Там, куда мы вас отправляем, местами будет довольно тесно.
– Нет, – улыбнулся Блюм. – Я боюсь высоты.
После ухода лейтенанта Стросс еще долго сидел за столом. Операция «Сом» снова в разработке! Он взбодрился, начал было звонить генералу, чтобы доложить новость, представляя, как тот обрадуется, но вдруг передумал и положил трубку. Встав из-за стола, он подошел к стеллажам, стал искать упомянутый Блюмом том и обнаружил его на самой нижней полке. То, что он вообще здесь нашелся, было удивительно. За последние три года Стросс был в синагоге лишь на Йом Киппур, и то скорее чтобы порадовать отца. Окончив юридический факультет и поступив на военную службу, он отдалился от религии. Отец очень расстроился. Когда сын покидал отчий дом, он вручил ему все эти тома.
Когда-нибудь ты вернешься, сказал отец. Вот увидишь.
Мишна Санхедрин.
Стросс снял с полки книгу в синем кожаном переплете, вернулся к столу и начал ее листать. Глава четвертая, стих пятый.
Это была история Адама. Какой-то неизвестный Строссу школяр оставил свои заметки на полях, отчеркнув отдельные места красным.
Начав читать абзац, который имел в виду Блюм, он не сдержал улыбки.
Он точно знал, о чем пойдет речь. Эту истину ему внушили в школе одной из самых первых. Он подумал о Блюме, о его родных. Они все погибли. Но Блюм чувствовал себя в ответе за них. То, что он собирался сделать, было очень смелым поступком, но не тогда, когда ты все потерял. Все, кроме одного. И это у него осталось. И только это имело значение.
– Удачи нам всем, – пробормотал себе под нос Стросс.
Он прочитал отрывок, слова которого и так знал наизусть:
Адам был создан в единственном числе для того, чтобы научить нас, что крушение одного человека – это крушение всего мира, а спасение одного – спасение всех: для того, чтобы никто не мог сказать никому: «Отец мой лучше твоего»; чтобы доказать, что, хотя и нет двух одинаковых людей, Господь создал нас всех из одного, адамова, теста; чтобы каждый мог сказать: «Этот мир создан ради меня».
Часть вторая
Глава 15
Апрель
Альфред находился в концлагере уже три месяца. Он жил в блоке 36, где, так же как и остальные двести пятьдесят его обитателей, делил одну койку на двоих с другим заключенным. Морозная польская зима уступила место поздней грязной весне.
В первый же день у него отняли все его книги и записи. Их, скорее всего, сожгли как какой-нибудь кухонный мусор. Если бы они только могли представить… И все же осознание того, что эти чудовища не использовали его труды в своих целях, даже приносило ему некое чувство удовлетворения.
Еще в Виттеле он слышал, что немцы достигли определенных успехов в разделении изотопов. Ему было известно, что над этим работали ученые лаборатории в Хайгерлохе на реке Айах, используя тяжелую воду из Норвегии. Но обогащение урана – это только первая стадия сложного процесса. Сначала из урана надо было выделить плутоний, а затем получить радиоактивный изотоп, известный под названием уран-235, из более тяжелого урана-238, который, насколько было известно Альфреду, Энрико Ферми успешно выделил на циклотроне в Чикаго. Существовало несколько методов получения изотопа, ни один из которых не был пока испытан. Например, путем электромагнитного облучения. Лоренс доказал, что атом в магнитном поле движется по окружности, радиус которой определяется его массой. Более легкий уран-235 будет двигаться по меньшей траектории, чем тяжелый уран-238. Но чтобы выделить таким образом нужное количество изотопов, потребуются годы.
Существовал также метод термодиффузии – когда гексафторид урана циркулирует между охлажденной водой и паром, находящимся под высоким давлением.
Исследования, проведенные Альфредом, показали, что самым эффективным был метод газовой диффузии, в ходе которой требуемые изотопы выделялись при прокачивании урана в газообразном состоянии через пористые мембраны – более легкие молекулы проходят через мембраны быстрее, чем тяжелые. Скорость прохождения газа обратно пропорциональна квадратному корню массы атомного ядра. Рано или поздно все они – и немцы, и американцы, и британцы – столкнутся с одной проблемой. До него доходили слухи о том, что Бору удалось выехать из оккупированной Дании через Лондон в Соединенные Штаты, так что союзники могли объединить свои усилия. Но в мире было всего двое ученых, работавших над этой самой проблемой. Второй, Бергстрем, насколько знал Альфред, сотрудничал с нацистами. Для Бергстрема работа всегда была на первом месте – неважно, кто ее финансировал. И еще выживание. Об успехах американцев Альфреду также было известно.
В бараке, набрасывая при уходящем свете формулы, он думал о том, что ему давно следовало уехать. Все подталкивали его к этому.
– Приезжайте в Копенгаген, – убеждал его Бор. – Будете работать со мной. Марта и Люси будут в безопасности.
Но он считал Львов домом, там была вся их жизнь. Два года по Пакту о ненападении они находились под защитой русских, и все было тихо. Но как только русские ушли, путешествовать по Европе стало невозможно. А однажды к нему в кабинет вломились юнцы в форме со свастикой и объявили, что он больше не профессор университета, а всего лишь «большевистский жид». Они поскидывали книги с полок, расшвыряли бумаги (слава богу, самые важные он всегда держал дома) и вытолкали его из здания на глазах у госпожи Зельдович, проработавшей с ним в лаборатории одиннадцать лет. Но Альфреду еще повезло. Многих его коллег вывели на площадь и расстреляли. Вскоре всех евреев согнали в гетто. Ходили упорные слухи о массовых депортациях в концлагеря.
Потом, пару месяцев спустя, его разыскал представитель парагвайского посольства. Они встретились в кафе на тихой улочке, и тот пообещал: «У нас есть возможности».
Альфред думал о том, как они с Мартой и Люси начнут новую жизнь в Америке. Он сможет заняться преподаванием. В Чикагском университете, где сейчас находился Ферми. Или в Калифорнии, воссоединившись с Бетом и Лоренсом. А может быть, даже с Бором. Все они Нобелевские лауреаты. Как теоретик он, конечно, до них не дотягивал, но как только речь заходила об экспериментах, его работа очень ценилась. И вот чем это кончилось… Альфред угрюмо оглядел барак. Изможденные, словно призраки, люди тащились к своим нарам. Те, кому было еще что обменять, с жадностью курили. Сегодня в его смену умерли двое: одного ждала мгновенная смерть от удара по голове, другой упал от изнеможения, и его пристрелили.
Да, он слишком долго медлил.
Марта умерла. Он чувствовал это сердцем, так же отчетливо, как мог представить себе ее прекрасный образ. Она заболела еще в Виттеле. Пока они ехали на поезде, ей стало еще хуже. Эти животные жалеют миску похлебки для таких больных, как она. Он сам до сих пор оставался жив только потому, что говорил по-немецки, как Volksdeutche, что здесь высоко ценилось.
А Люси, его прелестная нежная Люси!.. Наверняка и ее уже не было в живых. Он поздно женился, и она стала для него неожиданным подарком судьбы – это как открыть атомно-молекулярное учение и теорию происхождения видов одновременно. Некоторое время назад товарищ по бараку узнал от своей жены, что Люси заразилась тифом – здесь это было равносильно смертному приговору.
Альфред чувствовал, как с каждым днем убывают его собственные силы. А зачем ему жить? Какие у него причины продолжать держаться, не умирать? Каждый день исчезали сотни людей, целыми бараками. Охранники утверждали, что их отправляли в другие лагеря. В соседний лагерь в Моновице. «Они там счастливы», – говорили немцы. Но заключенные-то все знали. Тяжелый запах, исходивший от здания с плоской крышей у самого входа в лагерь, был достаточно красноречив. А черный дым, валивший от соседнего Биркенау и тучей висевший над их лагерем, служил ежедневным напоминанием. Это называлось «Химмельштрассе». Дорога в рай.
И каждый скоро пройдет по ней.
Они должны были бы назвать это дорогой смерти.
Пару месяцев назад Альфред начал по частям восстанавливать свои работы, записывая их на клочках бумаги, которые ему удавалось достать. Он прокручивал в голове сотни прогрессий, десять лет исследований, начиная с основ. Скорость диффузии газов, уран-235, уран-238… Он расписывал формулы на оборотах этикеток от продуктов, украденных в пищеблоке, или скомканных списках заключенных, подобранных в снегу. Переписывал бесконечные последовательности формул и уравнений. Делал грубые наброски того, как изотопы проходят различные радиоактивные стадии; прикидывал, какими должны быть мембраны, через которые будут идти газы. Отмечал свои соображения по поводу открывающихся возможностей «устройства», как они его называли, с чисто теоретической точки зрения: устройство, которое заключает в себе беспрецедентную взрывную энергию, выделяемую при цепных реакциях, происходящих во время расщепления атомов. В 1935 году на конференции в Манчестере он впервые обсуждал эту возможность с Силардом. Он восстановил в голове большую часть своих выводов, статей для научных журналов, лекций. Вспомнил свою работу с Отто Ганом и Лизой Мейтнер в Институте Кайзера Вильгельма в Берлине. Все десять лет изысканий, все, что он смог вспомнить, было разложено по полочкам у него в голове. По крайней мере, это помогало не сойти с ума. Свои записи он запихивал в жестянку из-под кофе, которую прятал в полу под койкой, если входили эсэсовские охранники или их капо[1]1
Капо – привилегированный заключенный в концлагерях Третьего рейха, работавший на администрацию. – Примеч. ред.
[Закрыть] – зловредный украинец Васько.
Окружающие, должно быть, с жалостью смотрели на старого бормочущего профессора, пребывавшего в своем мире, записывавшего свои бесконечные формулы и доказательства. Чего ради? – усмехались они. Вся эта чепуха все равно скоро умрет вместе с ним.
Но это не было чепухой. Ни единая цифра. Все имело значение. И это надо было сохранить. Жизнь здесь подчинялась бессмысленной и бесполезной схеме: прожить день, поспать и завтра начать все заново. Избегать взглядов охраны и стараться выжить. Schneller. Ускоряйся. Давай быстрей.
Но голова-то продолжала работать. И в этом заключался смысл существования. Даже если это всего лишь доказывало, что его жизнь чего-то да стоит. Или что даже в этом аду все еще оставалась надежда, что среди хаоса есть порядок. Так что каждый день Альфред падал на свою койку, – болели распухшие ноги, натертые грубыми башмаками, – отворачивался от соседа и записывал то, что ему удавалось припомнить. Он хорошо понимал, что в правильных руках эта «чепуха» значила слишком много. Они дорого заплатят за нее. Но с каждым днем он чувствовал, как его воля тает. Из-за его возраста и знания немецкого ему поручали легкие работы, но он не представлял, сколько еще протянет тут. Он знал, что однажды так же спокойно, как многие и многие другие, посмотрит в дуло автомата и сдастся.
– Профессор, – прервал его работу Островский, бывший бухгалтер из Словакии. Он был самым удачливым снабженцем на зоне. – Не желаете ли деликатеса завтра к полднику? Наш повар сильно рисковал, чтобы достать это лакомство.
И Островский протянул Альфреду высохшую сырную корку, обернутую в засаленную тряпицу. Скорее всего, ее стащили из мусорного бака офицерской столовой. Эта корка равнялась здесь банке икры.
– Отдайте ее Франсуа или, может, Вальтеру, – отмахнулся Альфред. Оба, похоже, были на последнем издыхании. – К тому же мне нечего вам предложить взамен.
– Нечего предложить? Да вы шутите, профессор! – отреагировал словак, работая на публику. – Я отдам ее за парочку ваших формул. За целое уравнение я достану вам бифштекс.
Кое-кто из сидевших рядом заключенных ухмыльнулся.
– Е равняется мс квадрат, – ответил Альфред. – Так пойдет? И мне, пожалуйста, средней прожарки.
Окружающие снова засмеялись. Это хорошо, что они еще могли смеяться в этой обстановке, и неважно, что объектом их смеха был он сам.
Внезапно все переменилось: раздались пронзительные свистки, в барак ворвались охранники, громко стуча дубинками по стенам и дверям.
– Все на выход! Из барака, сволочи! Schnell.
У каждого из обитателей барака душа ушла в пятки. Любой свисток, любая неожиданность от немцев – и каждого пронзала мысль, что за ним пришли и это конец.
В бараке появился гауптшарфюрер Шарф, за ним по пятам следовали двое охранников, безжалостный капо Васько замыкал группу. Среди эсэсовцев Шарф выделялся своей жестокостью. Он вел себя так, словно единственной компенсацией за его пребывание в этом жалком лагере было причинение максимально возможных страданий и боли заключенным. Альфред был свидетелем того, как он лично расстрелял двадцать или тридцать человек только за то, что после десяти часов работы кто-то из них выронил лопату, или споткнулся, или отстал, когда Шарф орал свое «Schnell! Schnell!». Васько, уголовник из Смоленска, в лагере превратился в безжалостное чудовище. Он мог забить заключенного на раз-два: сначала наносил удар дубинкой по ногам сзади, а когда зек падал, бил по затылку, чтобы прикончить. Альфред никак не мог поверить, что еврей – неважно, насколько низко он пал – мог так поступать со своими. Рано или поздно всех их ждала смерть, включая капо. Ради чего стоило оттягивать этот момент, издеваясь над другими?
– Aussen! Aussen! – выкрикивали немцы, вон, вон, стуча дубинками по стенам и койкам. – Schnell!
Альфред запихнул свои записки обратно под нары, вернул на место доску, прикрывавшую дырку в полу, и двинулся на выход вместе со всеми.
– Быстрей! Быстрей, грязные твари! – Охранники охаживали заключенных дубинками по бокам. – Бегом! Старик, тебя это тоже касается. Живо!
Несмотря на то, что стоял апрель, воздух по вечерам бывал довольно прохладным. На улице заключенные ежились, пытаясь сохранить тепло, и с тревогой переглядывались. Любое изменение в расписании непременно вызывало у них страх. Они с ужасом ждали приказа строиться и маршировать. Все они знали, куда. Это было делом времени, и они понимали, что рано или поздно их час настанет.
– Строиться! – кричали охранники, подталкивая их дубинками. Все выстроились в шеренгу.
– Ну как вам бифштекс? – тихо спросил Альфред у стоявшего рядом Островского. Словаку пришлось раскрошить сырную корку, высыпать крошки через штаны на землю и затоптать их башмаками.
– Профессор, если честно, жестковат, – ответил словак с заговорщической улыбкой.
Через пару минут стало понятно, что это не конец, а всего лишь проверка. Но тревога не проходила – охранники что-то нашли. Снаружи было слышно, как они потрошат нары, переворачивая кишащие вшами жидкие матрасы, и выстукивают полы в поисках тайников.
– Может, повар проболтался, – прошептал Островский в ухо профессору.
– Не думаю, – ответил Альфред. – Я полагаю, они не еду ищут.








