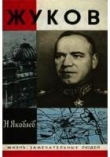Текст книги "Былого слышу шаг"
Автор книги: Егор Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Письмо закончено, а с ним и рассказ о том, как низко нависли свинцовые тучи над молодой Советской республикой. И вдруг неожиданно пробившийся луч солнца, луч радости – им освещен постскриптум письма: «Мне только что принесли новую государственную печать. Вот отпечаток». Самые безрадостные раздумья не могут заслонить пусть и незначительный, но ободряющий факт реальности. Да, все плохо, но социалистическое государство существует; это так же несомненно, как надпись на государственной печати; «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И Владимир Ильич спешит поделиться своей радостью – в этом тоже черта его характера. Он ставит печать в конце письма, скрепляет государственной печатью РСФСР письмо немецкой коммунистке: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Радость познания образа Ленина – в бесчисленности открытий, которые доступны заинтересованному читателю, ждут его. Но порой я спрашивал себя: оправданно ли такое внимание к деталям, пусть и приближающим нас к личности Ленина, но все-таки деталям, штрихам. Отчего не ограничиться знанием теоретических работ Владимира Ильича, его революционной стратегии и тактики, пониманием роли Ленина в создании партии и государства? Штрихи и детали помогают осмыслить облик Ленина-человека в его повседневных решениях и поступках, понять образ жизни Владимира Ильича, который служит примером для каждого из нас, всегда остается актуальным, как всегда актуальны для человечества его высшие нравственные постижения.
Мы часто говорим о современном значении ленинского наследия, а когда хотим проиллюстрировать это, стремимся порой совместить точка в точку прошлое и настоящее, словно накладываем кальку на чертеж. Ленин указывал, например, на необходимость освоения Курской магнитной аномалии – и вот теперь это сделано, говорим мы, подтверждая гениальность ленинского предвидения. Но представим себе на минуту, что эти залежи руды были бы обнаружены не на стыке XVIII–XIX веков, а значительно позже (скажем, как запасы тюменской нефти). Разве это меняет что-либо в существе ленинского подхода – поставить, и как можно быстрее, богатства страны на службу народу? В конце концов, электроплуг – им был увлечен Владимир Ильич и на испытаниях его присутствовал – не получил пока распространения. Но дело же не в судьбе механизма, а в ленинской неустанной поддержке всего нового. И мы вновь возвращаемся к облику человека, к лаборатории ленинского мышления.
Известный офтальмолог М. И. Авербах, который не раз беседовал с Владимиром Ильичем, обращаясь к воспоминаниям о нем, говорил: «Жизненный опыт и изучение биографий великих людей учат, что личной жизнью их большей частью не следовало бы интересоваться. Не часто встречаются люди, которые везде были бы одинаковы – и на трибуне, и у себя дома, у которых общественная и личная жизнь составляла бы одно целое… В громадном большинстве случаев личная жизнь даже замечательных людей оказывается крайне неинтересной или стоит в полном противоречии с той общественной ролью, какую играет этот человек… Но в данном случае, по отношению к Владимиру Ильичу, я смело и, повторяю, с удовольствием стану рассказывать вам о его частной жизни. Я совершенно спокоен, что то, что вы услышите от меня, не только не умалит в ваших глазах его величия, а, наоборот, еще больше возвеличит его в вашем представлении…»
Штрихи и детали помогают нам понять индивидуальность Владимира Ильича, но в ленинской индивидуальности как раз и заключено общее: поступки, нормы отношений с людьми, образ мыслей Владимира Ильича – во всем этом воплощены нравственные идеалы созданной им партии.
«Ленин был не только носителем идеи пролетариата, – утверждает Мартин Андерсен-Нексе. – Он был больше этого. Он сливается воедино с этой идеей. Всемирная история знает очень мало примеров, когда духовное содержание социального класса, классового движения так счастливо воплощается в одном человеке».
Вот почему, говоря словами А. В. Луначарского, «биографическое в нем, интимное в нем тоже имеет огромную, общечеловеческую ценность».
Обращаясь к молодежи, М. И. Ульянова говорила, что учиться надо не только по большому литературному наследству, которое осталось от Ленина, надо знакомиться с Лениным – человеком и коммунистом. «В этом смысле вы можете очень многое для себя взять. Это будет для вас очень полезно, чтобы вырасти стойкими коммунистами, достойной красной сменой нам, старым борцам».
И, казалось бы, совсем непосредственно на наши раздумья отвечает Н. К. Крупская. «Понять Ильича как человека, – пишет Надежда Константиновна, – значит глубже, лучше понять, что такое строительство социализма, значит почувствовать облик человека социали-^ стического строя».
Выходит, что понять Ленина – это понять и почувствовать самих себя? А вместе с тем не от нашей же жизни, а от дел и предначертаний революционеров-демократов надо идти к симбирскому юноше Владимиру Ульянову, читающему Чернышевского. «Все напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строчки, и не один раз», – скажет он позже. Герои Чернышевского были для него жизненным примером. Он не раз, очевидно, обращался к ним, обдумывая свою судьбу, складывая свои представления о дружбе, семье, об отношениях с близкими людьми. «Это вещь, – говорил о романе «Что делать?», – которая дает заряд на всю жизнь».
Понять Ленина – это погрузиться во времена революции, почувствовать неповторимость эпохи не только в ее исторических свершениях, но и в самых обыденных, самых незначительных, казалось бы, мазках. В адрес Ленина приходит телеграмма из Липецка, от служащих Юго-Восточной железной дороги – просят разрешить им поставить иконы накануне пасхи на вокзале и в служебных помещениях. Владимир Ильич пишет, словно продолжая еще раздумывать: «По-моему, на вокзале нельзя». Но и сам еще не успел отвыкнуть от привычного календаря, поэтому указывает в расписке: «Отчет получил. Ленин… Пятница, перед пасхой 1919».
Но это все уже в прошлом. А Надежда Константиновна пишет, что понять Ильича как человека – это понять глубже, что такое строительство социализма, почувствовать облик человека социалистического строя…
Силой своих идейных убеждений и благородством целей, свободой от материальных предрассудков и размахом интеллекта Ленин был и остается человеком из будущего. Подумайте, как грандиозно изменились за последние полвека наши представления о человеческих возможностях, давно и многократно перекрыты все мыслимые, да и немыслимые рекорды. С непостижимой стремительностью раздвигаются рамки информации, доступной человеку. Наши дети все решительнее, а главное, все раньше, нередко вызывая у нас этим тревогу, начинают ориентироваться в мире науки. Между тем ленинский интеллект, объем прочитанного Владимиром Ильичем, запас знаний, которыми он располагал, – и сегодня остается практически недостижимым. И сегодня нельзя не поразиться, что в томах Полного собрания сочинений В. И. Ленина упоминается свыше 16 тысяч книг, брошюр, статей, периодических изданий, документов и других источников. К тому же источники эти – на 20 различных языках.
Понять Владимира Ильича как человека – это представить себе личность, неотделимую от наших дел, от коммунистического строительства, которое мы ведем, осуществляя свободное развитие всех и каждого. Чем больше проходит времени, тем ближе нам облик Ленина-человека. Наше развитие движется от веры к знаниям, от аксиом – к теоремам, от преклонения перед Лениным – к осознанию значения совершенного им. И в стране, где открылись перед людьми мир книги и вселенная знаний, образ Ленина становится все ближе, понятнее. В конце концов, та же скромность в быту Владимира Ильича, очевидно, скорее всего поражает тех людей, кому малознакомы радости духовной жизни, а отказ от возможного обладания вещами был бы действительно подвигом…
Старейший деятель революционного движения М. С. Ольминский пишет: «Познать В. И. Ленина для нас означает познать самих себя», видя в этом «законное оправдание нашего интереса» к ленинской личности. Но отчего потребовалось Михаилу Степановичу подыскивать оправдание, да еще «законное», как подчеркивает он, для нашего, казалось бы, столь естественного интереса к личности Владимира Ильича?
Ольминский считает необходимым изучение всего, что раскрывает нам ленинскую личность, постольку, поскольку это содействует воспитанию новых поколений коммунистов. «Чем больше сделаем мы для ее изучения, тем больше двинем вперед знание истории нашей партии и понимание источника наших успехов и неудач, правильных шагов и ошибок».
Вместе с тем Михаил Степанович сознает, что писать о Ленине, вспоминать о нем можно лишь по-ленински, в точном соответствии с теми представлениями о роли личности в истории, которых (всегда так четко придерживался Владимир Ильич. Нельзя переступать грань реального, за которой вздымается фигура сверхчеловека, – над ним всегда и от души потешался Владимир Ильич.
Но как почувствовать вовремя эту грань, как не допустить нескромности в разговоре о таком скромном человеке, каким был Ленин? О Владимире Ильиче писали и пишут тысячи и тысячи авторов, каждый по-своему решает эти вопросы – кто более, а кто менее успешно. Камертоном же для всех нас могут служить слова Крупской. Они передают то исключительное напряжение духа, в котором находилась Надежда Константиновна, работая над записками о Владимире Ильиче.
«У меня странное чувство бывает, когда я пишу свои воспоминания. С одной стороны, мне кажется, что я должна рассказать рабочим, молодежи все, что помню об Ильиче, а иногда у меня шевелится такое чувство, что Ильич, может быть, был бы недоволен моими воспоминаниями, он так мало говорил о себе».
Репортаж из года восемнадцатого
ПЕРЕДЫШКА
Ленин любил подняться на стены Кремля, взглянуть отсюда на Москву.
Весной восемнадцатого, приехав в Кремль, дважды обошел все стены – совершил долгий путь по этому удивительному проспекту истории государства Российского.
И в день первого советского праздника – 1 Мая восемнадцатого года – с кремлевской стены всматривался в колонны демонстрантов, в город, перепоясанный красными, упругими на ветру полотнищами, а кое-где прикрытый черным крепом – память о героях и мучениках русской революции.
Здесь все в том же восемнадцатом году встречал ранний июльский рассвет. Видел с кремлевской стены, как светлело небо над Замоскворечьем. В робкую свежесть занимавшегося жаркого дня все ощутимей вплеталась пороховая горечь. Уже повсюду была передана ленинская телефонограмма: «Разбитые банды восставших против Советской власти левых эсеров разбегаются по окрестностям. Убегают вожди всей этой авантюры. Принять все меры к поимке и задержанию дерзнувших восстать против Советской власти. Задерживать все автомобили. Везде опустить шлагбаумы на шоссе». Мятеж был подавлен, и затихающим эхом недавней пальбы раздавались кое-где выстрелы.
Любил подняться на стены Кремля, взглянуть отсюда на Москву. Всегда холодная изнутри, старая кирпичная кладка башни. Быть может, это и есть леденящий полумрак минувшего. Стертые ступени, ведущие вверх, а над головой – квадрат неба весенней голубизны… И начинает казаться, что из прошлого поднимаешься к настоящему, продолжая восхождение предшествующих поколении. Плиты старой лестницы или ступени истории перед тобой?..
Ступень за ступенью, и ты выходишь из Сенатской башни в широкий разлет кремлевской стены; здесь не то что часовой – колесница пройдет, ни за что не задевая.
Непривычно, по-иному смотрится город с Угловой Арсенальной, или, как называют ее иногда, Собакиной башни. Словно с неба спущенные огромные прямоугольники зданий скрывают в тени старую Москву. Колышущимся под ветром костром предстает могила Неизвестного солдата, когда смотришь на нее сверху. С Троицкой башни как на ладони видна теснота Калининского проспекта в его старой, не разнесенной от края и до края Воздвиженской части. Вытянулся плоский корпус Ленинской библиотеки, а подле него – затейливая роскошь бывшего Румянцевского музея. С высоты Боровицкой башни открывается Москва-река и невиданные прежде городские просторы.
Наконец, путь вдоль реки – отВодовзводной башни к Благовещенской и дальше минуя Тайницкую и Безымянные – стены здесь на удивление невысокие, кажется, перегнись, протяни руку – и дотянешься до косогора, покрытого травой и изрезанного тропинками. Земля подле самой стены всегда влажная, пахучая, точь-в-точь как у древних стен подмосковных монастырей. А уж как доберешься до угловой Москворецкой башни, и стены и бойницы представляются игрушечными, все начинает казаться маленьким, ненастоящим перед квадратной махиной гостиницы «Россия».
Поражает безукоризненностью своей линия стены, протянувшаяся от Спасской башни до Никольской, вдоль Красной площади, словно натянули веревку и отметили ею прямую полосу. А дальше снова Угловая Арсенальная башня.
Отсюда, со стен Кремля, и начнем, пожалуй, наш репортаж из года восемнадцатого.
С Угловой Арсенальной башни хорошо видна гостиница «Националь». Уходит вверх от нее, горбатится улица Горького. Гостиница «Националь», Моховая улица, дом 17. Теперь этого адреса нет в московских справочниках. Да и сама гостиница на фотографиях восемнадцатого года выглядит весьма обшарпанно.
…Поезд запоздал, и в Москву прибыли в половине десятого вечера. На вокзале – ни оркестра, ни почетного караула, ни речей, ни цветов. Пустынный и темный перрон. Встречал лишь старый партиец Смирнов, он же Фома-питерец. Однако у вокзала дожидались машины – их прислали согласно условной телеграмме. С Николаевского вокзала сразу же поехали на Моховую, в гостиницу «Националь», – Владимир Ильич, Надежда Константиновна, Мария Ильинична.
Вечер, а вернее, немалая часть ночи прошла в беседах. «Нас чисто по-дружески – тогда еще о бюрократизме и комчванстве никто и слыхом не слыхал – посетили сейчас же вечером товарищи по партии, стоявшие в Москве во главе пролетарской революции, – вспоминал В. Д. Бонч-Бруевич. – Мы очень хорошо провели время в обсуждении самых животрепещущих вопросов московской жизни, которая к тому времени далеко еще не утряслась…»
А в это же время, можно предположить, в типографиях Петрограда и Москвы заканчивалось печатание, свежих номеров газет. «Известия ВЦИК» 12 марта 1918 года сообщили (не сразу и найдешь эту крохотную информацию на газетной странице): «Приезд Совета На-родных Комиссаров. Вчера со специальным поездом прибыли из Петрограда в Москву члены Совета Народных Комиссаров, в том числе «Вл. Ульянов (Н. Ленин)…»
Ульяновы поселились на третьем этаже, заняли двухкомнатный номер гостиницы «Националь». Впрочем, в тот же вечер, ночь или уж во всяком случае на следующий день гостиницы «Националь» не стало: ее окрестили Первым Домом Советов. Первый Дом Советов – какое свое, понятное название для тех, кто совершал революцию, и ненавистное, отталкивающее – для тех, кто революцию не принял!
Сохранилось несколько метров кинопленки, снятой в те дни. Идут по Моховой, мимо гостиницы, матросы – в бушлатах и бескозырках, пулеметными лентами перепоясаны, ружья в руках, свободно развеваются клеши. Сегодня, когда видишь подле гостиницы изысканно одетых москвичей, нарядные машины, когда то и дело подъезжают, проглатывая солнце своими зеркальными окнами, экскурсионные автобусы, – эти кадры былого представляются удивительными. И все-таки нечто подобное нам и раньше было известно по фотографиям, картинам, наконец, кинофильмам. А вот людям из года восемнадцатого происходящее на Моховой, надо полагать, представлялось действительно невероятным.
От чопорности дорогой гостиницы в мгновение и следа не осталось. Именитые коммерсанты оставили роскошные, отделанные гобеленами номера. Теперь они и близко подходить сюда не решались: вон как бойко шагают матросы. Выехал, не знаю уж куда, «Нью-Йорк сити банк». Исчез внушительный швейцар в ливрее с галунами подле входных дверей. Оставшись без присмотра, двери мотались из стороны в сторону что было мочи, все громче дребезжали стекла с золотыми вензелями, вот-вот вылетят совсем, и тогда заколотят двери листами фанеры, надежно заколотят, чтобы не дуло.
За все отвечал, повсюду носился, обижал других и обижался сам комиссар Первого Дома Советов Алексей Окулов. Прежде он был комиссаром гостиницы «Астория» в Петрограде и с одним из первых эшелонов прибыл в Москву. Приезжали делегаты ГХ/съезда Советов, днем и ночью появлялись новые постояльцы – все требовали от Окулова крыши над головой.
Приспосабливались к временному жилью члены правительства. Здесь принимали посетителей, проводили совещания. И здесь же решали с женами, чем накормить детей; спрашивали все у того же Окулова, где раздобыть примус. Когда в путь отправляется так много людей, к тому же делается это столь поспешно, не обойтись без инцидентов и недоразумений. Окулову досталось еще в Петрограде, когда занимался отправкой вещей: то схватывался с чьей-нибудь престарелой мамашей – сует без разбора старый скарб, а то оборонялся от наседавшей с претензиями чьей-то молодой жены. Все это, и весьма красноречиво, комиссар опишет в своих воспоминаниях, связанных с переездом правительства в Москву, еще раз подтвердив истину, что на всякое событие каждый смотрит со своей колокольни; в данном случае – глазами хозяйственника. Но без этого взгляда не представить того, как было на самом деле.
Впрочем, в те дни никто не думал о воспоминаниях, за них возьмутся позже, много позже, стараясь восстановить в памяти, передать на бумаге и это время, и этот город…
От Угловой Арсенальной башни к Троицким воротам тянется над Александровским садом кремлевская стена. Узкий проезд между Манежем и Александровским садом. В нем, скорей всего, и появилась в полдень 12 марта 1918 года редкая по тем временам на московских улицах машина, двинулась в сторону Кутафьей башни. «Помню, как Яков Михайлович Свердлов и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич первый раз повезли нас в Кремль смотреть нашу будущую квартиру», – писала много лет спустя Крупская.
Под стены Кутафьей башни и повернула машина. Однако в Кремль ее не пустили, встали на дороге часовые, подошел командир:
– Кто едет?
– Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин.
Машина въехала в Троицкие ворота.
– Вот он и Кремль. Как давно я его не видел… – тихо сказал Ленин.
«Тогдашний Кремль, Кремль 1918 года, – по словам Крупской, – мало походил на теперешний. Все в нем дышало стариной. Около здания «судебных установлений» стоял окрашенный в розовую краску Чудов монастырь, с маленькими решетчатыми окнами; у обрыва стоял памятник Александру II; внизу ютилась у стены какая-то стародревняя церковь».
Ленин полюбит Кремль. В свободные минуты будет охотно прогуливаться подле Большого Кремлевского дворца. Как говорила Крупская, «здесь было глазу где погулять». Станет часто спускаться вниз, к зелени Тайницкого сада, – там тихо, а главное, безлюдно. Вечерами будет листать книги и альбомы, узнавая с обычной для него основательностью об истории Кремля. И уже в первый свой приезд поведет речь о том, как сберечь ценности Кремля, сохранить его своеобразие. Освободить старорусский памятник от наслоений более поздних эпох, вернуть ему историческую достоверность – и это занимало Владимира Ильича.
Узнав, например, что во времена Николая I была заложена кирпичом и превращена в сарай проездная арка собора Двенадцати апостолов, заметил: «Ведь вот была эпоха – настоящая аракчеевщина… Все обращали в сараи и казармы, им совершенно была безразлична история нашей страны…» По его настоянию реставрационная комиссия возьмется за восстановление этой части собора и будут реставрированы фрески Успенского собора.
В первый приезд Владимир Ильич осмотрел свой будущий кремлевский кабинет, побывал и в квартире. «По старой каменной лестнице, ступеньки которой были вытоптаны ногами посетителей, посещавших это здание десятки лет, поднялись мы в третий этаж, где помещалась раньше квартира прокурора судебной палаты, – рассказывала Надежда Константиновна. – Планировали дать нам кухню и три комнаты, к ней прилегавшие, куда был отдельный ход. Дальше комнаты отводились под помещение Управления Совнаркома. Самая большая комната отводилась под зал заседаний… К ней примыкал кабинет Владимира Ильича, ближе всего помещавшийся к парадному ходу, через который должны были входить к нему посетители. Было очень удобно. Но во всем здании была невероятная грязь, печи были поломаны, потолки протекали. Особенная грязь царила в нашей будущей квартире, где жили сторожа. Требовался ремонт».
..И тогда же, в свой первый московский день, отправился Владимир Ильич в путь по стенам Кремля. Шагая от башни Троицких ворот к Боровицкой, наверное, взглянул на здание Румянцевского музея, вспомнил, быть может, как занимался здесь в 1897 году.
Осужденный к трехлетней ссылке, по дороге в Шушенское задержался на три дня в Москве: разрешили встретиться с матерью. И все три дня провел в библиотеке Румянцевского музея – собирал материалы, которые нужны были для работы в ссылке. Просидел бы и дольше, да полицейские чины пригрозили арестом, потребовали немедленно отбыть из Москвы.
В марте покидал Москву, отправлялся в ссылку, в Сибирь, в неизвестное. Провожали всей семьей – мать, сестры, Марк Тимофеевич Елизаров, ехали с ним до самой Тулы.
И той же мартовской порой, но спустя двадцать один год, вернулся в Москву – глава правительства, Председатель Совета Народных Комиссаров.
Где они теперь, те полицейские чины, грозившие арестом, высылавшие из города? Все неузнаваемо изменилось. А заботы Владимира Ильича между тем остались прежними – ему и на этот раз прежде всего требовались книги. Как договориться с библиотекарями Румянцевского музея и университета? На каких условиях можно получать книги? – торопился разрешить Владимир Ильич беспокоившие его вопросы. Попросил об этом секретаря Государственной комиссии по просвещению. Тот поручил своему помощнику В. С. Богушев-скому. Он навел справки и позвонил Ленину. Можно обращаться к главному библиотекарю Румянцевского музея, а в университете – к ректору либо в правление. И Ленин записал на листке:
«1) Проф. Готье
Румянц. музей.
2) Ректору Ун-та
или в правление Ун-та.»
Богушевский между тем продолжал: ему сказали в библиотеке, что Ленин может прислать за бланками и по этим заполненным и подписанным им бланкам будут выдаваться книги для Председателя Совета Народных Комиссаров.
– Ну спасибо, товарищ, – сказал Владимир Ильич, положил телефонную трубку и добавил еще две строки к сделанной прежде записи:
«(сохранить)
выписка книг.»
С просьбой к Богушевскому обратилась и Крупская: не мог бы он дать на время книги из своей библиотеки?
Само собой разумеется, они будут возвращены в полной сохранности.
– Владимир Ильич любит читать между делом стихотворения, особенно любит Пушкина и Беранже.
На следующий день Богушевский передал Крупской томик Пушкина – лирика, песни Беранже, а еще прибавил стихи Блока – это уже по своему разумению. Когда Надежда Константиновна возвращала книги, Богушевский, видно, большой поклонник Блока, не утерпел, спросил, понравились ли Ленину его стихи.
– Нет, – ответила Крупская, – Владимир Ильич не любит новых поэтов…
Он был творцом поразительных социальных перемен и отличался удивительным постоянством по отношению к самому себе: всегда, при любых ситуациях, оставался таким, каким и был. «Без всякой суеты принял он на себя огромную власть, – писала Луиза Брайант, – без суеты встретился лицом к лицу с мировой реакцией, гражданской войной, болезнями, поражениями и столь же невозмутимо относился даже к победам. Без шумихи он отошел на время болезни от дел и так же незаметно снова вернулся к своим обязанностям».
Надо иметь силы никогда не изменять самому себе, чтобы в суете и неразберихе переезда, в гостиничном номере, стены которого никогда не знали книжных полок, держать под рукой томик любимых стихов. Пусть глубокой ночью, после изнурительно долгого дня – а завтрашний, быть может, будет еще труднее – не торопясь открыть, скажем, Беранже, прочесть несколько строк… Такие знакомые, а всякий раз наполняются иным смыслом:
…И вот гляжу: летит Идея,
Всем буржуа внушая страх,
О, как была она прекрасна,
Хотя слаба и молода!
Но с божьей помощью, мне ясно,
Она окрепнет, господа!
…Когда идешь летним днем по кремлевской стене вдоль Москвы-реки, нагретые солнцем грозди рябины касаются лица. Осенью кружится пожухлый лист, укрывая вздрагивающим узором стену, а чуть потянул ветерок – и изменился узор; вдруг зашуршал, заговорил лист и поднялся, понесся вдоль стены… Зимой нещадно метет поземка. В сугробах Тайницкий сад, и одногорбые сугробы натягивает ветер у подножий башен. Здесь ничто не меняется, все остается таким же, как было десять, сто и двести лет назад…
12 марта 1918 года, поднявшись на стены Кремля, Ленин видел Москву-реку, схваченную льдом, и дома, что и сегодня теснятся на другом ее берегу. Думал ли он в тот день, что ждет в ближайшем будущем этот город, москвичей, да и его самого? Не мог не думать…
В кремлевском кабинете Владимира Ильича хранится объемистая книга – «Красная Москва (1917–1920)». На форзаце надпись: «Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину) от Московского Совета Р. К. и К. Д.». Книга эта – в декабре 1920 года ее раздавали делегатам VIII съезда Советов – содержит цифры и факты. В городе жили в те времена два миллиона человек. А в главе «Чем занимается Москва» говорилось, что в 1918 году было зарегистрировано 262 443 безработных – каждый седьмой москвич. Другая глава – «Питание московского населения, по данным специальных обследований 1918–1920 годов». Все это время москвичи получали продуктов на 30 процентов меньше допустимой нормы, и в самые лучшие дни рабочим выдавали фунт хлеба, а остальным – три четверти фунта.
Сохранилось удостоверение, выданное Ленину в январе 1919 года Управлением делами Совета Народных Комиссаров в том, «что Председатель СНК Владимир Ильич Ульянов (Ленин) занимается умственным трудом неограниченное число часов, ввиду чего он имеет право пользоваться продовольственной и хлебной карточкой первой категории».
Еще одна глава книги – «Рост цен и спекуляция». В ней говорится, что цены росли подобно снежной лавине. С 1914 по 1920 год они увеличились: на пшено – в 15 тысяч раз, на ржаной хлеб – в 16 тысяч, на картофель – в 21 тысячу, на сахар – в 28 333 раза, на соль – в 125 тысяч раз.
Но в то же время, полное бед и лишений, московские рабочие вышли на свой первый субботник. И Ленин писал: «Если в голодной Москве летом 1919 года голодные рабочие, пережившие тяжелых четыре года империалистической войны, затем полтора года еще более тяжелой гражданской войны, смогли начать это великое дело, то каково будет развитие дальше…» Вопрос, обращенный к нам…
Вспоминая о первом московском дне Ленина – самом первом, когда все еще было впереди, Бонч-Бруевич писал: «Владимир Ильич внимательно и с видимым удовольствием рассматривал старинный город, в котором он давно не бывал и в котором суждено было ему не только создавать рабочее государство, но и быть тяжело раненным, тяжко, неизлечимо заболеть, умереть здесь, поблизости от Москвы, и быть похороненным на ее исторической Красной площади, у стен седого Кремля».
…Чем ближе к угловой Москворецкой башне, тем лучше виден флаг над куполом Свердловского зала.
…Знаю,
Марксу
виделось
видение Кремля
и коммуны флаг
над красною Москвой.
«Всем Совдепам, городским, уездным и губернским и всем, всем, всем: в понедельник И марта Правительство отбыло в Москву. Всю почту, телеграммы и прочее присылать в Москву Совету Народных Комиссаров», – передавали московские телеграфисты двенадцатого марта восемнадцатого года. Это был первый документ, подписанный в Москве Председателем Совета Народных Комиссаров.
Сверху хорошо видны террасы Мавзолея. За ним могилы: Свердлов, Фрунзе, Дзержинский… Прекрасные это были люди – соратники Владимира Ильича. Из тюрем, ссылок, эмиграции шагнули они к государственному управлению, на многие годы сохранив суровую и простую обстановку жизни революционеров-профессионалов. Умели постоять за свое мнение и спорили друг с другом, быть может, дольше, чем принято обычно в правительственных кабинетах. А отзывы об их работе были самыми противоречивыми.
«Конечно, они не могут удерживать власть постоянно, потому что это на редкость невежественные и недалекие люди, дети в политике, не имеющие ни малейшего представления о тех колоссальных силах, с которыми они играют» – так писала американская «Нью-Йорк тайме» сразу после победы Октября.
А Герберт Уэллс, побывав в революционной России, утверждал: «Большевистское правительство – самое смелое и в то же время самое неопытное из всех правительств мира. В некоторых отношениях оно поразительно неумело и во многих вопросах совершенно несведуще… Но по существу своему оно честно. В наше время это самое бесхитростное правительство в мире».
Вернулся в 1918 году в Соединенные Штаты из России руководитель американской миссии Красного Креста полковник Раймонд Робинс (с ним мы еще встретимся на этих страницах) и заявил, что Советское правительство – это самое образованное правительство в мире.
И тогда же другой американец писал: «…единственная причина огромного успеха большевиков кроется в том, что они осуществили глубокие и простые стремления широчайших слоев населения, призвав их к работе по разрушению и искоренению старого, чтобы потом вместе с ними возвести в пыли падающих развалин остов нового мира…» Это слова Джона Рида. Он похоронен здесь же, у кремлевской стены.
Любуясь ясностью лазури,
На берегу, когда-нибудь,
Вы пожалейте тех, чья грудь
Встречала в море радость бури.
Отдайте честь им! С бурей споря,
В борьбе томительной устав,
Они погибли в бездне моря,
Вдали вам пристань указав…
Как знать, быть может, взгляд Владимира Ильича остановился и на этих строках Беранже в те первые вечера в гостинице «Националь».
Первый московский день Ленина был таким же, как и все последующие, – напряженным, многотрудным, долгим… Так пишу я теперь, обложившись томами, подшивками газет, сборниками документов, – суммирую все, что произошло в этот день. А ты, мой коллега, репортер из года восемнадцатого, писал об этом дне по мере того, как он разворачивался, передавал в газету одну информацию за другой.
Представляю тебя энергичным, подвижным. Ты и мгновения не можешь посидеть на месте. Если размышляешь, то вслух. Или летишь за информацией, или диктуешь ее. (Мне повезло застать в «Московской правде» старого репортера. Он рассказывал, что в те времена, где бы ни находился, как только наступала середина дня – непременно торопился в редакцию: все садились за общий стол, вместе обедали. Хоть и не богато, да вместе.)