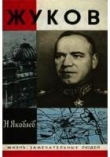Текст книги "Былого слышу шаг"
Автор книги: Егор Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
6 часов утра – сорок матросов Гвардейского флотского экипажа входят в Государственный банк. «Военно-революционный комитет при Петроградском Совете р. и с. д. предписывает вам занять к 6 часам утра главную контору Государственного банка на Екатерининском канале. Председатель Н. Подвойский. Секретарь Антонов».
Около 7 часов – революционные солдаты занимают Центральную телефонную станцию. И в тот же час выполняется приказ Военно-революционного комитета – восстановить движение по Николаевскому мосту. «С корабля на берег был высажен десант матросов, – писал комиссар крейсера «Аврора» А. В. Белышев. – Юнкеры, охранявшие мост, разбежались. Авроровцы свели разведенный пролет моста. Васильевский остров был соединен с центром города. Путь открыт».
Занимают Дворцовый мост – теперь и до Зимнего дворца рукой подать.
«Революция не могла бы произойти… с такой обманчивой обыденностью, – писал свидетель и участник Октября американский журналист Альберт Рис Вильямс, – если бы ей не предшествовала колоссальная подготовительная работа… В самом центре ее был Ленин… Ленин и в самом прямом, буквальном смысле был в центре событий: «рабочий К. П. Иванов», скромно появившийся накануне в Смольном, держал в своих руках все нити восстания».
Среда, 10 часов утра, – А. Ф. Керенский еще в Петрограде. Точнее, именно в этот час покидает восставший город, уезжает под американским флагом, на машине американского посольства. Он не знает еще, что именно в этой стране пройдут последующие годы его поразительно затянувшейся жизни. Министр-председатель все еще верен самому себе, его по-прежнему занимают знаки внимания, оказываемые публикой. И когда трогаются с Дворцовой площади два автомобиля – в первом Александр Федорович, – он следит за тем, как отдают честь военные и приветствуют штатские главу Временного правительства. Правительство между тем уже низложено.
Именно в этот час – «25-го октября 1917 г., 10 ч. утра» – Ленин пишет обращение «К гражданам России!»: «Временное правительство низложено… Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено». Словно обгоняя одна другую, несутся строки. Сорвалось было с пера: «К всему населению». Зачеркнуто – «К гражданам России». Из трех абзацев средний вычеркнут, еще раз перечеркнут. Три слова добавлены в первый абзац, и они соединены с ним вздыбившейся через весь лист стрелой. Ленин взволнован, Ленин торопится.
Казалось бы, пришло время праздновать победу. Но Владимир Ильич, как и прежде, торопит. Правительство свергнуто, а министры пока не арестованы – продолжают заседать в Зимнем. Войска гарнизона на стороне восставших, а во дворце все еще держат оборону юнкера. К открытию II съезда – вся власть в руках Советов, но остается последний оплот Временного правительства – Зимний дворец.
В среду, 24 октября, министр-заместитель Коновалов передает в ставку: «Петроградский Совет рабочих депутатов объявил правительство низложенным, потребовал передачу власти угрозой бомбардировки Зимнего дворца пушками Петропавловской крепости и крейсера «Аврора». Правительство может передать власть лишь Учредительному собранию, решило не сдаваться и предать себя защите народа и армии. Ускорьте присылку войск…» Ускорьте присылку войск… Ускорьте присылку войск… Ускорьте…
Ленин настаивает, категорически требует: как можно быстрее овладеть Зимним. А штурм задерживается.
«Начиная с 11 утра и до 11 вечера Владимир Ильич буквально засыпал нас всех записками, – вспоминал Н. И. Подвойский. – Он писал, что мы разрушаем всякие планы; съезд открывается, а у нас еще не взят Зимний и не арестовано Временное правительство. Он грозил всех нас расстрелять за промедление».
Восставшие готовятся к штурму. «Быстро несет меня катер мимо нахохлившегося Зимнего дворца… к «Авроре», – вспоминал В. А. Антонов-Овсеенко. – На крейсере «все в порядке»… Условливаюсь, что по сигнальному выстрелу Петропавловки «Аврора» даст пару холостых выстрелов из шестидюймовки. Миноносцы из Гельсингфорса прибыли и с рассветом вошли в Неву… Передаю миноносцам, чтоб проникли за Николаевский мост и развернулись для обстрела (по сигналу) Зимнего. Опять в крепость… Еще заверения со стороны коменданта, что все в порядке, и вновь на катере встречать кронштадтцев… 4 часа! Наконец-то! «Кронштадтцы едут». Несколько тысяч молодых стройных парней с винтовками в надежных руках заполняют палубу транспорта. Говорю им краткое приветствие именем Советской власти, указываю цель. Вот Зимний – последнее прибежище керенщины. Его надо взять!»
А штурм задерживается.
«Да, затяжка была большая, – напишет со временем Подвойский. – Сначала было предложено взять Зимний к утру… Сроки взятия Зимнего переносились последовательно на 12 час., на 3 ч. дня, на 6 часов…»
6 часов вечера – членам Временного правительства послан ультиматум: очистить Зимний дворец, сложить оружие, а самим сдаться на милость Военно-революционного комитета.
Из дневниковых записей членов Временного правительства:
«6 часов 30 минут. Пошли обедать наверх в столовую Керенского (суп, рыба, артищоки).
7 часов 10 минут собрались в кабинете Коновалова. Сообщено, что сейчас двумя делегатами от Революционного комитета доставлен ультиматум. Требуется наша сдача – дано 20 минут на размышление, после чего будет открыт огонь по Зимнему с «Авроры» и Петропавловской крепости».
«Ответа на ультиматум не было, – писал Подвойский. – Войска нервничали… Сжатым кольцом судьба дворца уже была решена бесповоротно. Но внутри Зимнего все еще на что-то надеялись, верили в несуществующую силу. В 8 часов во дворец была послана делегация во главе с товарищем Чудновским с последним предложением сдаться».
А штурм задерживается.
«В тревожном ожидании застыли на крейсере грозные шестидюймовые орудия, – писал комиссар «Авроры» А. В. Белышев. – А со стороны Зимнего, осажденного отрядами вооруженного народа, доносилась пулеметная и ружейная стрельба… Связной Военно-революционного комитета передал распоряжение: в 21 час Временное правительство должно сдаться. В случае его отказа с Петропавловской крепости последует условный сигнал. Это будет означать, что «Аврора» должна произвести холостой выстрел, возвещающий начало штурма…»
«Записки Ленина, которые он посылал то мне, то Антонову-Овсеенко, то Чудновскому, – свидетельствовал Подвойский, – становились все более жесткими… Мне рассказывали потом, что Владимир Ильич, ожидая с минуты на минуту взятия Зимнего, не вышел на открытие съезда. Он метался, как лев, по маленькой комнате Смольного».
А штурм задерживается.
«Из Смольного мне несколько раз звонили, указывали на необходимость немедленно начинать… – писал комиссар Петропавловской крепости Г. И. Благонравов. – Непредвиденное и мелкое обстоятельство нарушило наш план: не оказалось фонаря для сигнала. После долгих поисков таковой нашли, но водрузить его на мачту так, чтобы он хорошо был виден, представляло большие трудности».
«Напряжение все усиливалось… – писал об этих же минутах Белышев. – А Петропавловская крепость не давала о себе знать. Уже тридцать пять минут десятого, а сигнала все нет.
– Огонь! огонь! – раздались голоса.
Во мгле за мостом показался багровый огонь. 9 часов 45 минут. Я отдал команду:
– Носовое, огонь! Пли!»
А штурм задерживается.
И после выстрела «Авроры» еще медлят, еще ждут. Так отчего же? Попробуйте хоть однажды пересечь Дворцовую площадь, скажем, от арки Главного штаба к подъездам Зимнего. Немалый путь. А если его надо сделать под пулеметными очередями? Пулеметы установлены в окнах дворца, и мальчишки-юнкера поливают площадь огнем. Случалось, осаждающие подбегали уже к дверям дворца, к воротам ограды и вновь откатывались.
Пальба в ту ночь шла отчаянная. А те, кто рвался к дворцу, хотели и сохранить его. Они так и не открыли по Зимнему прицельный орудийный огонь – он бы сразу подавил сопротивление. Вот запись, сделанная на следующий день после штурма послом Великобритании в России Джорджем Бьюкененом: «Сегодня после полудня я вышел, чтобы посмотреть, какие повреждения нанесены Зимнему дворцу продолжительной бомбардировкой в течение вчерашнего вечера, и, к своему удивлению, нашел, что, несмотря на близкое расстояние, на дворцовом здании было со стороны реки только три знака от попадания шрапнели. На стороне, обращенной к городу, стены были изборождены ударами тысяч пулеметных пуль, но ни один снаряд из орудий, помещенных в дворцовом сквере, не попал в здание».
И все-таки можно предположить, что не одна угроза оказаться под пулеметным огнем, не только соображения тактического характера сдерживали так долго нападавших. Подвойский писал, что затянулась организация сил. Да, но наступил час, когда в Зимнем оставалось менее 2 тысяч человек, а подле него – 12–18 тысяч. А штурм задерживался. Верили, все еще надеялись, что удастся избежать кровопролития: русские же против русских, как же стрелять друг в друга, как же не договориться между собой. И посылали парламентеров, и передавали ультиматумы… Тогда и в стане противника еще далеко не все были готовы к мысли о гражданской войне.
Руководителя кронштадтских моряков И. П. Фле-ровского выстрел «Авроры» застал в кают-компании Миноносца «Амур» вместе с офицерами, которые по требованию революционных матросов привели суда в Петроград. «На к<пот-компанию выстрел «Авроры» произвел ошеломляющее впечатление. Несмотря на долгую привычку к выстрелам, все вздрогнули и бросились к окнам. У командира странно запрыгали губы, как перед плачем или истерикой.
– Не волнуйтесь, господа, это холостой…
Но кают-компания долго не успокаивалась. Разговор затих. Только командир в большой тревоге и оторопелом смущении промолвил: «Выстрел по столице… с русского корабля», и глаза его заблестели подозрительной влагой. Это было в начале гражданской войны, потом господа офицеры привыкли к русским выстрелам по русским городам, делали их с остервенелым наслаждением. Но тогда… тогда это было больно и непонятно».
Еще не пришло, не наступило ожесточение гражданской войны.
Да, Ленин понимал, что штурм неминуем – мирными уговорами во дворец не войти. И он торопил – пока Зимний окружен, пока не подоспело подкрепление; требовал до конца выполнить задачу вооруженного восстания, избежав лишнего кровопролития и разрушения самого дворца. Понимали серьезность момента и те, кто был с Лениным. Оттого и создали три штаба – Смольный, «Аврора», Петропавловская крепость, – случись, враг захватит один из них, действуют остальные. И комиссар Белышев, лишь дав команду о холостом выстреле, сразу же распорядился зарядить орудие «Авроры» боевым снарядом: никто не мог поручиться, какими станут последующие события. Однако то, что стало очевидным для руководителей восстания, еще не было до конца понято всеми его участниками. И нельзя – об этом предупреждал Владимир Ильич – принимать изжитое для себя за изжитое для масс.
«Изучая самым внимательным образом опыт Парижской коммуны, этого первого пролетарского государства в мире, – писала Крупская, – Ильич отмечал, как пагубно отразилась на судьбе Парижской коммуны та мягкость, с которой рабочие массы и рабочее правительство относились к заведомым врагам. И потому, говоря о борьбе с врагом, Ильич всегда, что называется, «закручивал», боясь излишней мягкости масс и своей собственной». Но не арестовали все-таки юнкеров, оборонявших Зимний: просили они отпустить по казармам – спать очень хочется, а следом те же юнкера начали мятеж. Поверили на честное слово, освободили из-под ареста генерала Краснова – он возглавил затем контрреволюцию. Владимир Ильич и это имел в виду, когда говорил: «Мы наглупили достаточно в период Смольного и около Смольного. В этом нет ничего позорного. Откуда было взять ума, когда мы в первый раз брались за новое дело!»
Предстояло пройти самую массовую школу защиты революции, расквитаться за эту учебу кровавыми уроками, чтобы освободиться от иллюзий.
…И только за полночь пойдут на штурм дворца, распахнут створчатые двери подъезда ее императорского величества, рванутся вверх по лестнице.
Из дневниковых записей членов Временного правительства: «И вдруг возник шум где-то и сразу стал расти, шириться и приближаться. И в его разнообразных, но слитных в одну волну звуках сразу зазвучало что-то особенное, не похожее на те прежние шумы, – что-то окончательное. Стало вдруг сразу ясно, что это идет конец… Кто лежал или сидел – вскочили и все схватились за пальто».
«Вдвоем с Чудновским, – писал Антонов-Овсеенко, – мы поднялись в палаты дворца. Повсюду разбросаны остатки баррикад, матрацы, обоймы, оружие, обгрызки. Разношерстная толпа хлынула за нами. Расплываясь по всем этажам, юнкера сдавались. Но вот в обширном зале у ворот какой-то комнаты – их недвижимый ряд с ружьями на изготовку. Осаждавшие замялись. Мы с Чудновским подошли к этой горстке юнцов, последней гвардии Временного правительства. Они как бы окаменели, и стоило трудов вырвать винтовки из их рук. «Здесь Временное правительство?» – «Здесь, здесь, – заюлил какой-то юнкер. – Я ваш», – шепнул он мне. Вот оно – правительство временщиков, пытавшееся удержать неудержимое, спасти осужденное самой жизнью последнее буржуазное правительство на Руси. Все тридцать (только Керенский еще утром сбежал за «помощью») застыли они за столом, сливаясь в одно трепетное, бледное пятно. Арестовываем».
Телефонограмма Петергофскому районному Совету: «2 часа 4 мин. был взят Зимний дворец. 6 человек убито – павловцев…»
В этот час Подвойский торопится в Смольный, дорогой подбирает приличествующие случаю слова, чтобы рассказать Владимиру Ильичу, как был взят Зимний. «Я предвкушал, с каким восторгом будет слушать меня Денин. Но когда я почти вбежал в комнату, где находился Владимир Ильич, то застал его чрезвычайно сосредоточенным».
Книга на коленях, поверх лист бумаги, в руках перо. Ленин занят первыми декретами Советской власти. Молча слушает доклад Подвойского и вновь занимается своим делом. Зимний взят – с этим покончено. Временное правительство больше не существует – к нему потерян интерес, хотя еще несколько часов назад требовал скорейшего ареста, доказывал, что нет ничего важнее этого…
Приказ коменданту Петропавловской крепости: «Согласно решению Военно-революционного комитета, приказываем немедленно распорядиться освобождением под честное слово всех бывших министров-социалистов, сидящих в Петропавловской крепости». Подписи – председатель, секретарь. И дата – 27 октября 1917 года. Уже на следующий день после ареста министры были выпущены на свободу, а вместе с этим открылась перед ними и свобода выбора. Потеряв портфели министров Временного правительства, Бернадцкий и Карташов окажутся в контрреволюционных правительствах Деникина, Врангеля, Юденича… Еще один пример излишней доверчивости в самом начале революции? Нет. Министр юстиции Малянтович станет членом Московской коллегии адвокатов. Будет работать в советских учреждениях бывший министр труда Гвоздев. Продолжит занятие аграрным вопросом и опубликует свои работы бывший министр земледелия Маслов. Бывший военный министр Верховский получит со временем звание профессора, будет преподавать в Военной академии Красной Армии и Академии Генерального штаба, получит назначение начальником штаба Северо-Кавказского военного округа. Станет доктором наук, заведующим кафедрой в Ленинградском институте инженеров транспорта бывший министр путей сообщения Ливеровский, он же примет участие в проектировании Московского метрополитена и будет среди тех, кто налаживал движение через Ладогу по «дороге жизни»…
Все это, однако, произойдет позже, много позже, а в ночь штурма Зимнего, как вспоминает Антонов-Овсеенко, он построил перепуганных министров, повел под конвоем в Петропавловскую крепость, делая все возможное, чтобы уберечь их от разъяренной толпы.
Но это уже были подробности минувшего. Они не могли отвлечь Ленина от дел, ставших для него первоочередными. «В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства». Так все достигнутое, завоеванное, решенное немедля, без антракта, отодвигалось для него на второй план, освобождая место новому действу. Так произошло и в ту ночь, когда был положен конец одной эпохи в истории человечества и начата другая.
В исключительных условиях в полной мере сказалось то, что было нормой жизни революционера Владимира Ульянова, ее правилом, которое может служить примером для каждого коммуниста. Не подчинять свою жизнь томительному ожиданию звездного часа, оправдываясь, будто во имя него и сохраняешь огонь души. Именно сегодня, сейчас действовать в полную меру сил, превращая в звездный час каждое мгновение бытия. Если хватит, конечно, для этого воли, решимости, мужества.
* * *
Листаю воспоминания тех времен и испытываю, бывает, – как бы передать. поточнее, – скорей всего, чувство неловкости, хотя и не знаю, перед кем и за кого. Как это вдруг – Ленин и не имеет возможности беспрепятственно пройти в Смольный!.. На пожелтевших страницах былых журналов встречаются такие, я бы сказал, смущающие подробности. И остаются в памяти, просто так из головы не выкинешь: не оттого ли, что с вызывающей преднамеренностью вступают в пререкание с тем, что стало давно привычным. А быть может, все эти подробности просто излишества – не архитектурные в данном случае, а исторические – на классически законченном фасаде минувшего? Но они же тем не менее существуют, напоминают о себе.
…Временное правительство опечатало типографию большевистских газет. Большевик П. В. Дашкевич получил приказ: открыть типографию. Взял с собой красногвардейцев и отправился на Кавалергардскую. А прибыв туда, обнаружил, что опечатанные двери охраняет… один солдат. Дашкевич скомандовал ему – сдать караул! И сдернул с дверей шнурки с печатью. «Заходите, товарищи наборщики…»
…В ночь со вторника на среду рабочие-латыши разоружили на Забайкальском проспекте нескольких юнкеров, встретили залпом спешившее к ним подкрепление. Как поступать дальше? Надо бы съездить в Смольный. А ну-ка, извозчик, довези… Воспоминания были написаны полвека спустя, но и тогда их автор помнил, сколько запросил в ту ночь извозчик – сорок рублей «керенками»…
…Матрос П. Д. Мальков – вскоре он станет комендантом Смольного, а потом и Кремля – отправляется с отрядом к телефонной станции: приказано отбить ее у юнкеров. Машины нет. Останавливают трамвай. Мальков взбирается на переднюю площадку, встает рядом с вагоновожатым: «Гони, да поживее». А тот и слышать не хочет: «Не поеду, не на тот номер сели, у меня маршрут другой…»
…На «Авроре» ждут не дождутся сигнала с Петропавловки. «Непредвиденное и мелкое обстоятельство нарушило наш план: не оказалось фонаря для сигнала», – так писал, как вы помните, комиссар крепости Благонравов. В конце концов обнаружили обычный фонарь, обвязали его красным платком. Теперь бы поднять фонарь на флагшток, но для этого нужна веревка, а ее тоже нет. Искали веревку долго, как рассказывал канонир Петропавловки В. Н. Смолин, задерживая тем самым выстрел «Авроры»… А потом уже историки установили, что от Николаевского моста, где и стояла «Аврора», фонарь этот, хоть и поднятый на флагшток, просто не виден. На крейсере услышали выстрел крепостной пушки, увидели багровую вспышку, тогда и скомандовали:
«Огонь!»
«…Набережные Невы усыпаны глазеющей публикой, – рассказывал Флеровский о времени штурма Зимнего. – Очевидно, в голове питерского обывателя смысл событий не вмещался, опасность не представлялась, а зрелищная сторона была привлекательна. Зато эффект вышел поразительный, когда после сигнального выстрела крепости громыхнула «Аврора». Грохот и сноп пламени при холостом выстреле – куда значительнее, чем при боевом, – любопытные шарахнулись от гранитного парапета набережной, попадали, поползли. Наши матросы изрядно хохотали над комической картиной…»
…Рабочий, член Военно-революционного комитета К. С. Еремеев, взбежав по дворцовой лестнице Зимнего, старается вместе с Чудновским открыть двери. А они не поддаются – крепко заперты.
– Топор надо!.. Кто бы принес топор? – раздаются голоса.
– Еремеев, нельзя ли топор или лом какой-нибудь? – просит Чудновский. – Поскорей, голубчик!
Еремеев проталкивается сквозь толпу на улицу. Где бы взять топор, лом, какое-нибудь бревно, наконец? Кто-то побежал за топором в соседние казармы – к преображенцам, «но входы там были закрыты, а часовые сказали, что солдаты уже спят, и искать некому», – вспоминает Еремеев…
Все это несколько непривычно. Правда, тот же Рис Вильямс, словно обращаясь к нам, потомкам, предупреждал: «Если вам когда-нибудь доведется стать свидетелем или участником революции, вы поймете, как трудно сразу согласовать с действительностью свои романтические представления о ней». А все равно не перестаешь удивляться этим смущающим подробностям. Они как бы входят в противоречие с героическим началом Октября, словно бы снижают его величие. Почему бы и не ограничиться тем кругом сведений, тем запасом подробностей, которые без труда – так же естественно, как учились двигаться, говорить и читать, – утверждались с самого детства в сознании каждого из нас. И представления о революции давно уже сложились в единый сплав: почерпнутого в учебнике или в кино, прочитанного в мемуарах участников Октября или в романах, написанных по этим воспоминаниям.
И вот уже отчетливо, словно сам был свидетелем, представляешь себе во главе штурмующих Зимний рабочего-большевика Матвеева. Но его же не существовало на самом деле, он лишь одно из действующих лиц художественного фильма «Ленин в Октябре». И роль эту исполнял В. В. Ванин. Помнится, в самые напряженные минуты вынимал расческу и начинал аккуратно приглаживать в общем-то не слишком длинные волосы. И, ворвавшись во дворец, объявив членам Временного правительства об их аресте, вновь взялся за гребешок. Запоминающийся штрих – свой или у кого-то заимствованный?
У Антонова-Овсеенко. Это он носил поэтически длинную шевелюру и, волнуясь, начинал приводить ее в порядок. Так было и в Велой столовой Зимнего дворца, когда написал протокол об аресте министров и хотел было прочесть его вслух. В дневниковых записях членов Временного правительства находим: «Но Антонов, вместо оглашения протокола, снимает шляпу, кладет на стол, вынимает из бокового кармана длинный узкий гребешок, зажимает его между большим и указательным пальцем в правой руке и, не спеша, принимается за туалет. Он сначала начесывает волосы на лицо, которое под длинными волнами исчезает, потом проводит гребешком с помощью левой руки пробор справа и причесывается по пробору справа налево, аккуратно закладывая волосы за уши…»
Пусть было так. Нам же тем не менее навсегда запомнился рабочий Матвеев. Еще с тех времен, когда книг Антонова-Овсеенко не было на библиотечных полках, а в переизданиях поэмы «Хорошо!» исчезли строки:
И один
из ворвавшихся,
пенснишки тронув,
объявил,
как об чем-то простом
и несложном.
«Я, председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное правительство
объявляю низложенным»
…А возможно, и нет ничего худого в том, что существует стереотип наших, достаточно общих представлений о прошлом? И не надо подробностей, излишних деталей, которые хоть в чем-то (могут нарушить сложившиеся представления? В конце концов, стереотип всегда обладает большим запасом прочности, чем все вновь приобретенное. Но писала же Мариэтта Шагинян, обращаясь к образу Владимира Ильича, что со временем человеческое сознание обрастает «коркой» – своеобразными штампами, трафаретами, в которых, в сущности, закупорено остановленное на ходу развитие мысли, и надо стремиться к тому, чтобы снять «катаракту на хрусталике, чтобы с максимумом зоркости и приближения к истине увидеть «живого Ленина».
Иначе не приблизиться и к живой истории Октября, не пробиться сквозь толщу общеизвестного к трепетному, первозданному. И все мысли, высказанные о прошлом, принадлежат не тебе; и все выводы из него сделаны без тебя. А выводы, как известно, лишь венчают путь самостоятельных раздумий, совершить же этот путь вынужден каждый, кто хочет располагать собственными убеждениями. Как иначе ь извлечь из прошлого урок для самого себя, приобрести полезное для твоей сегодняшней жизни?
И неловкие, казалось бы, подробности оттого и предстают такими, потому и вызывают смущение, что никак не удается втиснул их в стереотип, не повредив его. Между тем историю нельзя выправить, как эти, скажем, страницы. Само стремление «перекроить», «переиначить» минувшее свидетельствует об ординарности мышления, которому не дано осмыслить прошлое. И всякий раз, когда решаемся хоть чуть-чуть, хоть немножечко улучшить это прошлое, хотим того или нет, мы неминуемо ослабляем конфликт, существовавший на самом деле.
Извозчики, курсирующие по сходной цене между баррикадами, трамваи, неукоснительно движущиеся по маршруту в разгар вооруженного восстания; зеваки на набережной перед штурмом дворца; долгие поиски веревки, задержавшие сигнал к началу штурма, и топорика – без него никак не открыть двери Зимнего… Обыденность, без которой прошлое будто бы и представляется более значительным. Но, отринув эти подробности, нам не постичь ленинской гениальности, силы его предвидения. Лишь отчетливо увидев беспорядочно бегущие волны той поры, можно в полной мере оценить величие Ленина, проложившего в них пути революции, определившего точку опоры.
Да, к Октябрю семнадцатого и в Петрограде, и в стране перевес сил был на стороне большевиков, но нужно было собрать эти силы воедино, определить тот день, когда привести их в действие. В минутах сумятицы найти мгновение для самой бескровной в истории революции. Помните слова Риса Вильямса «обманчивая обыденность революции». Драгоценная гениальная обыденность, которая спасла, избавила вооруженное восстание от, казалось бы, неминуемых жертв.
…Миновала ночь со среды на четверг. Взят Зимний. Приближается утро.
Едет в Смольный Флеровский. «Улицы Петрограда спокойны и молчаливы. Ни малейших следов революционного восстания. Только на перекрестках больших улиц расположились малочисленные пикеты революционных солдат – греются у костров, автомобиль пропускают без окриков и задержек. На повороте Знаменской площади видим даже пару освещенных трамваев с пассажирами. Словом, никаких следов революции. У Смольного навстречу нам выходят делегаты съезда – первое заседание верховного органа Республики Советов, образованного со сказочной быстротой. Кончено. Можно вернуться на корабль и выспаться».
Совершив небывалое, даже великое, человек возвращается к обыденному…
В Зимнем дворце расставлены караулы – больше здесь делать нечего. Шагает по набережной Еремеев. «Нева мирно несла свои сине-свинцовые волны. Две пары рыбачьих лодок работали на плесе вблизи Петропавловки. Кое-где уже проходили ранние прохожие, верно, рабочие, которые живут далеко от места работы. От этого спокойного вида Невы, от этой утренней пустынности я отдохнул как будто после сна».
Настало утро, и люди, как всегда, спешили на работу – четверг-то день будничный.
И примерно в то же время на первом этаже Смольного, в комнате № 36, где проходило заседание ЦК партии, собравшиеся радовались тому, каким бескровным оказалось вооруженное восстание. Был оживлен, приветлив и Владимир Ильич. Но вдруг стал очень серьезен, сказал: «Не радуйтесь. Будет еще очень много крови. У кого нервы слабые, пусть лучше сейчас уходят из ЦК».
Ленин любил слова Чернышевского: «Исторический путь – не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность».
И, размышляя над этим, Владимир Ильич писал: «Кто «допускает» революцию пролетариата лишь «под условием», чтобы она шла легко и гладко, чтобы было сразу соединенное действие пролетариев разных стран, чтобы была наперед дана гарантия от поражений, чтобы дорога революции была широка, свободна, пряма, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жертвы, «отсиживаться в осажденной крепости» или пробираться по самым узким, непроходимым, извилистым и опасным горным тропинкам, – тот не революционер…»
II
Закончилась вторая ночь Ленина в Смольном – снова провел ее без сна. Лишь в шестом часу утра согласился поехать на Херсонскую улицу к Бонч-Бруевичу – отдохнуть ненадолго.
Перекусили на скорую руку – и спать, спать, спать. А сна нет. Владимир Ильич зажигает свет, подсаживается к столу. Все как и прежде, как бывало много раз: стол, перо, бумага, глухая тишина предрассветного часа. Но пишет не прокламацию, не обличительный памфлет, не заметки публициста, не теоретический труд, не аналитическую статью. Пишет проекты законов, по которым жить России. Революционер, ниспровергатель устоев и основ становится законодателем.
Вот и рассвет подступил, высвечивая новый день – четверг 26 октября.
Позавтракали и отправились в обратный путь. Сперва пешком, потом трамваем доехали до Смольного.
Сколько ни всматриваешься теперь в актовый зал Смольного, никак не удается представить его прежним – во время II съезда Советов. «Я уверен, что когда-нибудь Смольный будет считаться храмом нашего духа и с благоговением войдут в него толпы наших потомков…» – писал в ту пору А. В. Луначарский. Ряды мягких кресел с красной обивкой, ниспадающие складки занавесей на окнах, портрет Владимира Ильича во весь рост. Разве что люстры остались те же: зал был освещен огромными белыми люстрами, вспоминали участники съезда… Толпа, начиная от самых дверей, люди на скамьях, стульях, на подоконниках, на полу, кто-то дремлет, прислонившись спиной к колонне. Воздух сизый от табачного дыма. Зал не отапливается, собравшиеся согревают его своим дыханием – на окнах иней. И лица, множество лиц – «однообразные простые лица, открытые и решительные, лица, почерневшие в окопах от мороза, широко поставленные глаза, большие бороды или иногда тонкие ястребиные лица кавказцев или азиатов из Туркестана, многие с редкими татарскими усиками», – писал Джон Рид.
Ленин трижды выступает на съезде. «С той минуты, когда председательствующий объявил: «Слово предоставляется товарищу Ленину», я не отрывал глаз от крепкой приземистой фигуры человека в поношенном костюме из плотной ткани, человека, который с пачкой бумаг в руке быстро прошел к трибуне и обвел зал проницательными веселыми глазами… – рассказывал Рис Вильямс. – Мне казалось, что ему недостает соответствующей его роли величественности». Не этими ли минутами были навеяны уже знакомые нам размышления американского журналиста о том, как непросто согласовать с революционной действительностью романтические представления о ней?