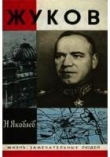Текст книги "Былого слышу шаг"
Автор книги: Егор Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
«В понедельник пришел конец, – оставила воспоминания Крупская. – Владимир Ильич утром еще вставал два раза, но тотчас ложился спать. Часов в одиннадцать попил черного кофе и опять заснул. Время у меня путалось как-то. Когда он проснулся вновь, он уже не мог говорить… Все больше и больше клокотало у него в груди… Я держала его сначала горячую, мокрую руку, потом только смотрела, как кровью окрасился платок, как печать смерти ложилась на мертвенно побледневшее лицо. Профессор Ферстер и доктор Елистратов впрыскивали камфору, старались поддержать искусственное дыхание – ничего не вышло, спасти было нельзя».
21 января 1924 года. 6 часов 50 минут вечера. Мария Ильинична спустилась на первый этаж, позвонила в Москву. И пошла горькая весть по белу свету…
Почернел снег на аллеях парка, возле дома: люди шли и шли – проститься. В почетный караул первыми встали крестьяне местных деревень. Из Москвы еще не успели приехать. Ленин умер в 30 верстах от города, в 5 – от железной дороги, как писали тогда, – в лесной глуши. Поздним вечером на аэросанях добрались до Горок члены Политбюро. И той же ночью вернулись в Москву: в третьем часу утра собрался экстренный Пленум ЦК партии. Начинался первый день без Ленина: в шесть раздались позывные столицы: «Говорит Москва. Кто слушает?» – радио передало сообщение о кончине Владимира Ильича, следом появился экстренный совместный выпуск «Правды» и «Известий».
Вместе с другими работал и мой коллега-репортер. Ему предстояло рассказать о горестных январских днях. Работал, не зная отдыха, забыв о сне, сам глотал слезы, когда писал, как плакали другие. В Горки едут делегаты съезда Советов – и ты вместе с ними. В памяти откладывается строка за строкой, – вернувшись в редакцию, ты продиктуешь их.
«Крутая лестница вверх. Тише! В полутемной проходной, на диване – Надежда Константиновна, жена, друг, вечный бессменный товарищ. Как всегда на своем посту, у раскрытых дверей комнаты Ильича. Так каменно-резки запавшие черты лица, – но крепка большевистская порода, – просто, вежливо и внятно отвечает короткими словами подсевшему, соболезнующему рабочему-другу. Мария Ильинична – та не сидит, а все ходит, ходит прямой твердой походкой по этажам и комнатам осиротевшего дома. Печально, но спокойно и гордо дышится здесь в комнате смерти. Нет ладанного истошного отчаяния, мистики потустороннего мира. Только скорбная простота и неизбежность происшедшего распада материи, организованной в великую субстанцию Владимира Ленина, вождя угнетенных классов человечества.
…Старики. Они понуро уместились внизу на диванчике. Кутаются в шинели, похрустывают, суставами пальцев и ворчливо, перебивая друг друга, все вспоминают. Они очень важные персоны в правительстве великой Советской страны, руководимой Владимиром Лениным. Они начальники больших государственных учреждений. Но сейчас только старики, по-стариковски вспоминают простые, трепетно-живые пустяки. О ленинских шутках, о его упрямстве, широчайшей жизнерадостности, о «шахматном самолюбии», о коньках, о переписке, о беспредельной товарищеской чуткости и милой простоте.
Совсем рассвело. Пора отсюда уходить – Ленину и всем. Красный гроб плывет вниз по лестнице. Молча без песен вынесли. Опустили на землю. Минута невыразимой, невыносимой тоски и горя. Надо закрывать стеклянную крышку. Снежинки падают на открытый лоб и губы Ильича. Накрывают. Плачут. Большевики плачут».
Так писал мой коллега-репортер из двадцатых годов. И не безымянный, не обобщенный на этот раз, а всем известный газетчик. Эти строки принадлежат Михаилу Кольцову.
Минута за минутой – каждое мгновение тех траурных январских дней запечатлено в газетах, снято фоторепортерами, кинооператорами, собрано в книгах. Они сейчас передо мной: «Отчет комиссии ЦИК СССР по. увековечению памяти В. И. Ульянова (Ленина)», «У великой могилы», «Ленину. 21 января 1924» – описание и фотографии всех венков. Да, была издана и такая книга. Всего за дни похорон возложили 821 венок. Их приносили рабочие – 294 венка и крестьяне – 78, два венка были от личных друзей, а 11 – от частных торговцев и промышленников. Перед могилой все равны – был венок и от заключенных таганской тюрьмы: «Личным присутствием доказать преданность твоему учению мы не можем, по причинам вольных и невольных совершенных нами ошибок перед трудящимися, но душой, сознанием и инстинктом мы с тобой и против твоих врагов».
Через Колонный зал, прощаясь с Владимиром Ильичем, прошел почти миллион человек. Мысль о сохранении тела Ленина возникла из многочисленных писем, телеграмм. Они шли потоком отовсюду: дайте срок проститься с Владимиром Ильичем. И началось строительство первого мавзолея. В день похорон – 27 января – на Красной площади не было духовых оркестров – как играть в такой мороз. Собравшиеся пели «Вы жертвою пали». И вызванивали тот же похоронный марш куранты на Спасской башне. На 5 минут остановилась, замолкла страна. «Завтра надо жить – сегодня горе», – писала Лариса Рейснер.
Еще в дни траура комиссия по организации похорон была переименована в комиссию по увековечению памяти Владимира Ильича. Все были охвачены благородным порывом: имя и образ его сохранить для грядущих поколений. Всесоюзный съезд Советов решает переименовать Петроград в Ленинград. Принимает постановление о выпуске сочинений Ленина – это будет ему «лучшим памятником». Образует фонд имени Ленина для организации помощи беспризорным детям… И тогда же со страниц «Правды» Крупская обратилась к рабочим, крестьянам: «Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д., всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим».
Много можно назвать причин того, что уже на пятьдесят четвертом году в сумерках холодного январского вечера оборвалась жизнь Владимира Ильича. Но точнее, исчерпывающе и образней, чем сказал Горькому его старый знакомый, сормовский рабочий, все равно не скажешь: Ленину частенько приходилось держать душу за крылья.
Выражение это запомнилось мне еще со школьных лет, когда впервые прочел горьковский очерк о Ленине, – легло на память без постижения сути.
Не готов я и сегодня однозначно выразить смысл сказанного сормовским рабочим. Держать душу за крылья, – наверное, это когда очень эмоциональная, самобытная натура полностью подчиняет себя воле, рассудку, убеждениям.
Мы восхищаемся той принципиальностью, которой отличались отношения Ленина с окружающими людьми. Но всегда ли понимаем, как давалось то, что восхищает нас?
Обратимся еще раз к полемике Ленина с Плехановым. Противоречия нарастали подобно снежному кому, и, наконец, критикуя позицию, которую займет Плеханов после Декабрьского восстания в Москве – «не надо было браться за оружие», – Ленин напишет: «Плеханов сравнил себя в шутку с римским полководцем, который казнил сына за преждевременный бой. Шутка остроумная. Ну, если бы я был «сыном» в момент решительного боя, когда «силы революции уже переросли силы правительства», я бы, ни секунды не колеблясь, застрелил (или, по-римски, заколол) «папашу», дающего лозунг сделки с реакцией, и спокойно предоставил бы будущим Моммзенам разбираться в том, был ли мой поступок убийством изменника, казнью его или преступлением против чинопочитания».
Дуэль остроумия и сарказма. Хотите узнать, как давалось все это Ленину? Прочтите запись, сделанную Владимиром Ильичем еще в 1900 году, – «Как чуть не потухла «Искра»?». Если не читали прежде, отложите эти страницы, откройте четвертый том ленинских сочинений. Прочтите… В этой записи Ленин делится свои-, ми переживаниями, а это случалось редко. Политический разрыв означал для Ленина прекращение и дружеских отношений – нередко с теми людьми, которых он искренне любил, к кому был привязан на протяжении многих лет. Когда его не станет, Крупская напишет: «…личная привязанность к людям делала для Владимира Ильича расколы неимоверно тяжелыми… Если бы Владимир Ильич не был таким страстным в своих привязанностях человеком, не надорвался бы он так рано».
Держать душу за крылья. Быть может, это касается тех, кто ничего не совершает отстраненно от самих себя, по привычке как бы вхолостую – все оплодотворено мыслью, освещено огнем души, совершается впервые и нет проложенных путей. Дело, которым занят в эту минуту, становится важнейшим, на нем сосредоточиваются мысль и воля, концентрируется энергия, как собирает увеличительное стекло рассеянный солнечный свет в единый, острый, прожигающий все на своем пути луч. И не этот ли дар к сосредоточению мысли и сил позволил Ленину высказать уверенность: «Абсолютно безвыходных положений не бывает»?
Держать душу за крылья. Так, очевидно, поступает тот, кто, познав поэзию мечты, никогда не забывает о прозе жизни, ни в чем не позволяя себе отрываться от ее реальностей.
Было это в феврале 1921 года. Ленин листал книги, изданные в Берлине для Советской России, Принес их Горький. Взглянув на издание древних индийских сказок, Владимир Ильич заметил:
– По-моему, это преждевременно.
Горький:
– Это очень хорошие сказки.
Ленин:
– На это тратятся деньги.
Горький:
– Это же очень дешево.
Ленин:
– Да, но за это мы платим золотой валютой. В этом году у нас будет голод.
Присутствовавший при разговоре литературный критик А. К. Воронский писал: «Мне показалось тогда, что столкнулись две правды: один как бы говорил; «Не о хлебе едином жив будет человек», другой отвечал: «А если нет хлеба»… И после, находясь на стыке между художественным словом и практической работой Коммунистической партии и советских органов, я неоднократно вспоминал об этих двух правдах, и всегда мне казалось, что вторая правда, правда Владимира Ильича, сильнее первой правды».
Так пишет Воронский. Я же думаю о том, как соблазнительно было бы для каждого из нас и как хотелось, наверное, самому Владимиру Ильичу заботиться лишь о том, чтобы не хлебом единым были живы люди. И как трудно, пожалуй, тому, кто в полной мере может оценить прелесть древних индийских сказок, но вынужден возражать против их издания.
И еще одно. Воронский безраздельно склоняется ко второй, как пишет он, правде. Но справедлив ли он, так далеко разводя одну правду от другой? Возражая Горькому, отстаивая свою правду, Владимир Ильич не стремится наложить запрет на то, что защищает Алексей Максимович. Первая ли правда, вторая ли – и та и другая, превращенные в абсолют, становятся абсурдом. Противоборствуя друг с другом, они и существовать не могут одна без другой.
Наконец, последнее: тот сормовский рабочий, по описанию Горького, человек мягкой души, жаловался писателю на тяжесть работы в ЧК. Тогда-то он и сказал:
– Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и – стыдно мне слабости своей.
Беседуя с М. Ф. Андреевой, Ленин говорил: «Что же делать, милая Мария Федоровна? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете: мне тоже не бывает трудно? Бывает – и еще как! Но – посмотрите на Дзержинского, – на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело только бы одолеть!»
Обстоятельства, условия борьбы вынуждали Ленина быть и суровым, и непримиримым, и беспощадным. И он бывал таким, превозмогая в себе доброту. В отличие от тех, кого обстоятельства вынуждают порой становиться и отзывчивыми и добрыми, и они, случается, бывают такими, превозмогая в себе жестокость.
«Должность честных вождей народа – нечеловечески трудна», – писал Горький о Ленине.
…Спустя месяц после Октябрьской революции, в декабре 1917 года, из Парижа в Петроград приехал социалист, член французского парламента Шарль Дюма. Устроившись в гостинице, он тут же сел за письмо к Владимиру Ильичу.
Обращаясь «Дорогой товарищ Ленин!», гость писал: «Я горю желанием Вас приветствовать. Разрешите мне просить Вас, чтобы первый мой визит в Вам рассматривался лишь как визит друга, которому когда-то в Вашем доме в парижском изгнании госпожа Ленина и Вы оказали братский прием, что мною не забыто».
Быть может, поздним вечером в Смольном, спускаясь из своего кабинета в комнату, где жил, Ленин захватил с собой это письмо. О многом напоминало оно Ульяновым: о тягостных годах второй эмиграции, о людях, которых узнали в Париже. Владимир Ильич мог бы и на этот раз произнести свою фразу: «Эх, послушал бы я теперь Монтегюса». Ленин, бывало, напевал его песенку о социалистическом депутате: «Верно, парень, говоришь». В ней рассказывалось о депутате, который ездит по деревням, болтает с крестьянами, раздает обещания, подпаивает их, а получив голоса, положив в карман 5 тысяч франков депутатского жалованья, забывает об интересах избирателей. Но при чем здесь автор письма Шарль Дюма?
Он действительно нанес в Париже визит Ульяновым, когда жили они на улице Бонне. Сидел и рассказывал о своих предвыборных поездках по деревням, о своих беседах с крестьянами. И несколько раз встретились взглядами Надежда Константиновна и Владимир Ильич, чуть сдерживая улыбку: им пришла на память песенка Монтегюса о социалистическом депутате. А гость, скорее всего, описывал свой вояж во всех подробностях, рассказ его затягивался, и Крупская уже с тревогой поглядывала на Владимира Ильича: как бы не стал вновь напевать полюбившийся ему припев – «Верно, парень, говоришь» – так повторяют крестьяне, когда их одурачивает депутат…
Словом, было что вспомнить. И в ответе – он не заставил себя ждать, пришел уже на следующий день – Ленин писал:
«Дорогой гражданин Шарль Дюма!
Мы с женой с большим удовольствием вспоминаем о том времени, когда мы познакомились с Вами в Париже, на улице Бонье…»
Но помнил Ленин и о другом: каким ярым патриотом выступал Шарль Дюма с началом империалистической войны. О его брошюрке «Какого мира мы желаем» Владимир Ильич с презрением отозвался в своей работе «Крах II Интернационала». В ответном письме Ленин писал:
«Я очень сожалею, что личные отношения между нами стали невозможными, после того как нас разделили столь глубокие политические разногласия…
Само собой разумеется, что я пишу это письмо не как член правительства, а как частное лицо.
Примите, дорогой гражданин, наш привет и самые лучшие пожелания от меня и от моей жены».
Шарль Дюма просил в письме, чтобы его первый визит к Ленину – за ним, он полагал, последуют и другие – рассматривался не иначе как визит друга. Видно, отчетливо рисовалась в его воображении картина, как распахнутся двери кабинета Председателя Совнаркома, они встретятся на пороге и уж конечно же обнимутся по-братски…
Частный характер переписки подчеркивает в своем ответе и Ленин, когда говорит о невозможности именно личных отношений… И появляется, как бывало уже не раз во время работы над этой книжкой, желание сравнить – скорее всего, несравнимое: его жизнь и нашу, хотя бы постараться представить себе, приложить к нашей повседневности его нормы. Кому и когда решился бы ты ответить столь же определенно о невозможности личных отношений? И понимаешь, как трудно даже в самом – обыденном и житейском следовать его примеру. А быть может, в самом обыденном и житейском как раз и труднее всего. Очень непросто разделить подобную определенность взглядов, поступков, отношений. А кому-то это просто непонятно…
Кстати, не понял и Шарль Дюма: получил от Ленина ответ, а на четвертый день вновь стал просить о приеме. Но на этот раз Владимир Ильич передал письмо в Наркомат иностранных дел.
БЫЛОГО СЛЫШУ ШАГ

ПОВЕСТЬ О КОНСТАНТИНЕ ПЕТРОВИЧЕ ИВАНОВЕ
I
Штатива не было. Владимиру Ильичу пришлось встать на колени: иначе никак не втиснешься в объектив. Фотограф держал аппарат, опустив его на вытянутых руках. Позади была серая гладь озера, словно та холстина, которую и натягивают за спиной, делая подобные фотографии.
Фотография для удостоверения. «Сестрорѣцкiй Оружейн. Заводъ. Предъявителю сего Константину Петровичу Иванову разрешается входъ въ магазинную часть завода до 1 января 1918 года». 1 января восемнадцатого! Кто мог подумать тогда, предсказать, предвидеть, предположить, кем станет обладатель этого удостоверения спустя полгода – к тому дню, когда истечет его срок…
Впрочем, сам Владимир Ильич был тогда уверен уже во многом. Светлой июльской ночью на берег Разлива пробрался Серго Орджоникидзе. Переправлялся на лодке, осторожно раздвигал камыши, шагал скошенным лугом и все время прислушивался: не привести бы кого за собой. В конце концов оказался подле стога, навстречу вышел незнакомый человек, стриженый и бритый, без усов и бороды. «Что, товарищ Серго, не узнаете?» – спросил Владимир Ильич.
Потом сидели у костра, и Орджоникидзе рассказывал, что пошли в последнее время по Петрограду толки: мол, не позже августа – сентября власть перейдет к большевикам и председателем правительства станет Ленин. Владимир Ильич ответил на это с такой серьезной уверенностью, которая обескуражила его собеседника: «Да, это так будет…» А пока рабочий Константин Петрович Иванов – и никак иначе. Даже от самых близких требует именно такого обращения. Даже письма подписывает: «Привет К. Иванов». А пишет в них о подготовке вооруженного восстания.
Оставив шалаш на берегу Разлива, тайно переехал в Гельсингфорс, оттуда, по-прежнему скрываясь, в Выборг. То и дело напоминает, настаивает: пора возвращаться в Петроград.
3 октября 1917 года Центральный Комитет РСДРП(б) постановил: «…предложить Ильичу перебраться в Питер, чтобы была возможной постоянная и тесная связь». Наконец-то– услышана его просьба – время не ждет.
В Петрограде появился под вечер. На голове парик, картуз, в кармане документы на чужое имя. В доме на углу Лесного проспекта и Сердобольской улицы – на Выборгской рабочей стороне – ожидала конспиративная квартира: адрес скрывался от всех, его не знали и члены ЦК. Последнее его подполье. Но об этом он и сам не знал.
Вошел в квартиру № 41 и остался недоволен. Хозяйка – Маргарита Васильевна Фофанова – оказалась не одна, кто-то вздумал к ней заглянуть. А говорили же русским языком – и не раз, очевидно, – никого быть не должно. Молча прошел в отведенную комнату. В столовой появился лишь наутро. Балкон выходит во двор – прекрасно. Рядом водосточная труба – очень удачно: возможно, и этим путем придется спускаться с третьего этажа. Как стемнеет, неплохо было бы отбить несколько досок в заборе – тоже на всякий случай.
Угроза была велика и совершенно реальна. Третий месяц не могли напасть на его след агенты Временного правительства. «Министр юстиции. П. Н. Малянтович предписал прокурору судебной палаты сделать немедленное распоряжение об аресте Ленина. Прокурор судебной палаты, во исполнение этого распоряжения, обратился к главнокомандующему войсками Петроградского военного округа с просьбой приказать подведомственным ему чинам оказать содействие гражданским властям в производстве ареста», – сообщали газеты. Да и сам Владимир Ильич писал Свердлову: «Меня «ловят».
День за днем в четырех стенах, когда знакомыми становятся каждая половица, каждая выбоина дверного косяка. Во время работы привык ходить из угла в угол – складывал фразу за фразой. Мог бы и здесь – места хватало. Нет, соседи услышат. Хотел было сам растопить печь. Нет, пойдет за дровами на лестничную клетку – кто-нибудь увидит.
Настал день последний.
В столовую к завтраку вышел, как обычно, в парике. Потянулся за свежими газетами. Фофанова предупредила: «Рабочий путь» достать не смогла, говорят, Временное правительство опечатало типографию… Завтра, в среду, открытие II съезда Советов, и правительство – это следовало ожидать – начинает действовать.
«Солдаты! Рабочие! Граждане!
Враги народа перешли ночью в наступление… Замышляется предательский удар против Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Газеты «Рабочий путь» и «Солдат» закрыты, типографии опечатаны…
Дело народа в твердых руках…
Да здравствует революция!
Военно-революционный комитет
24 октября 1917 г.».
Вот и пробил час, к которому готовил партию, себя, о котором неустанно напоминал последнее время.
Фофанова уходит с запиской и приносит ответ. Снова уходит. И опять ответ не устраивает Владимира Ильича: не разрешают выйти из подполья, все еще опасаются.
– Я их не понимаю, чего они боятся? Ведь только позавчера Подвойский докладывал, что такая-то воинская часть целиком большевистская, что другая тоже… А сейчас вдруг ничего не стало. Спросите, есть ли у них сто верных солдат или сто красногвардейцев с винтовками…
Ленин опять пишет записку, и Фофанова – в пятый раз на дню – собирается в Выборгский районный комитет. Владимир Ильич предупреждает:
– Жду вас до одиннадцати часов, а там я волен буду поступать так, как это мне нужно.
Маргарита Васильевна вернулась раньше условленного срока. Квартира пуста. На столе записка: «Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич». На этот раз уже не Константин Петрович, не – как бывало прежде – К. Иванов, а снова – Ильич… На столе тарелки, стаканы с недопитым чаем. Значит, кто-то приходил сюда?
Да, это был связной партии Эйно Рахъя. По дороге к Владимиру Ильичу он слышал начинающуюся перестрелку. «Когда я ему сказал, что Керенский приказал разводить мосты, он вскричал: «Ага, значит, начинает* ся…» Я было не понял его и спросил: «Что начинается?» – «Революция начинается, – пояснил Ильич, – а с ней и революционные бои…» И тотчас заявил мне, что ему надо ехать в Смольный».
Воспоминания Эйно, Рахья – единственное свидетельство о том пути, который они совершили от Сердобольской к Смольному.
В ПЕТРОГРАДЕ НА РАССВЕТЕ
…Спускаюсь на первый этаж, выхожу из подъезда, за спиной гулко хлопает парадная дверь. В тот вечер Эйно Рахья, очевидно первым выглянув на улицу, пропустил вперед Владимира Ильича, придерживая плечом дверь, и бесшумно закрыл ее за собою…
Хочу повторить путь, который прошел Ленин от Сердобольской улицы к Смольному, хочу представить себе, какими были эти места в семнадцатом году, в ту наступающую ночь со вторника на среду, с 24 на 25 октября, конечно же старого стиля, поскольку нашего времени в России еще не существовало… А на пути встает сегодняшний Ленинград, нынешняя жизнь, такая непохожая на ту, прежнюю. Подле дома на Сердобольской – стоянка такси: вытянулась цепочка машин. Как знать, быть может, прежде так выстраивались извозчики – были и у них свои стоянки. Но не на Выборгской рабочей стороне. Осенью семнадцатого здесь и буржуазные газеты не решались продавать. А Ленину просто необходимы были именно эти издания – с них начинал просмотр газет. И Фофанова ранним утром отправлялась за ними в долгий путь на Петроградскую сторону.
Владимир Ильич и Эйно Рахья вышли на Сердобольскую улицу, сразу же свернули, к Большому Сампсониевскому… Бывший Сампсониевский – теперь проспект Карла Маркса. Протянулся над проезжей частью, поднялся на быках железнодорожный мост. Был он, скорей всего, и прежде. Прошелестела по мосту электричка – нет, это не годится. А вот засвистел локомотив, втянул за собой нескончаемую череду товарняка, грохочут вагоны, гудит мост под их колесами. И в тот вечер все могло быть точно так же.
Сегодня полно повсюду людей, трамвайные вагоны с большими, залитыми голубоватым светом окнами. Но так ли важны эти детали, само стремление представить себе все именно так, как было в семнадцатом? Уже седьмое десятилетие пролегло между Октябрем и нами. Но меня занимает не хроника событий и даже не опыт борьбы – хочется понять людей, свершивших революцию, ту решимость, которая владела ими в ночь со вторника на среду, с 24 на 25 октября. И как бы ни разнилась одна эпоха от другой, здесь нет барьера времени…
Нет, история не повторяется. Но великое, свершившись однажды, живет и существует в обыденном. В революционном прошлом черпаем мы критерии для оценок сегодняшних наших поступков, всей жизни.
«Точно так же, как историки разыскивают малейшие подробности о Парижской Коммуне, так они захотят знать все, что происходило в Петрограде в ноябре 1917 г., каким духом был в это время охвачен народ, каковы были, что говорили и что делали его вожди». Так писал Джон Рид и был прав.
Ленин и Рахья дошли до угла, когда их нагнал пустой трамвай. «Владимир Ильич предложил вскочить в него. Я согласился с условием, что Ильич ни с кем не будет разговаривать. Кондуктором была женщина. К моей досаде, Владимир Ильич начал спрашивать ее, куда она едет, почему и т. д. Она сперва было отвечала, а потом говорит: «Вот чудак, откуда ты только выискался? Неужели не знаешь, что в городе делается?» Владимир Ильич ответил, что не знает. Кондукторша его упрекнула: «Какой же ты, – говорит, – после этого рабочий, раз не знаешь, что будет революция. Мы едем буржуев бить!..» К моей досаде, Ильич начал рассказывать ей, как надо делать революцию, а я сидел как на иголках…»
* * *
Измерить шагами путь от Сердобольской к Смольному нетрудно и сегодня. Но тогда опасность была повсюду, неожиданности поджидали на каждом шагу.
Трамвай доехал до утла Боткинской и Нижегородской, отсюда свернул в парк. А Ленин и Рахья пошли к Литейному мосту. Там патрули – солдаты, рабочие. Рахья отговаривал: лучше к ним не подходить. Но Ленин быстро двинулся вперед, смешался с людьми, толпившимися подле моста. «Я шепчу Ильичу, чтобы он не вступал в разговор, а то, мол, пропадем. Смотрю: он бочком, бочком – и быстро зашагал через мост, а я за ним…»
Спустились с моста, вышли на Шпалерную, здесь их застиг разъезд юнкеров. «Вдали показались верхами два юнкера артиллерийского училища. Они направлялись к нам, видимо собираясь о чем-то нас расспросить. Сказав Владимиру Ильичу, чтобы он шел вперед, я сам остался для разговора с юнкерами… Подъехавшему юнкеру, спросившему у меня пропуск, я вызывающим тоном ответил, что еще, мол, за пропуск им нужен. Он тоже повысил голос. Владимир Ильич тем временем зашагал дальше. Я решил, что, если только юнкера погонятся за Владимиром Ильичем, я буду стрелять. К счастью, мне удалось отвлечь их внимание от Ильича своим вызывающим поведением. Один из них хотел было вытянуть меня нагайкой, но, видимо, не решился, так как я напустил на себя слишком независимый вид. Поговорив о чем-то, они дали шпоры своим лошадям и умчались…»
Да, представить этот путь в доподлинности того времени теперь не просто. Кондукторша, которая едет буржуев бить… Скачет во весь опор разъезд юнкеров… Быстрым шагом уходит по Шпалерной беззащитная в своем одиночестве фигура – это Ленин…
Наш мир совсем иной – мир налаженных дел, установившихся привычек, предсказуемых, чаще всего, поступков каждого из нас. И этот спокойный осенний вечер, когда не спеша миную Литейный мост, выхожу к улице Воинова – она и была прежде Шпалерной, – этот вечер не редкость, один из многих в моей жизни: есть сегодня, будет и завтра. Ощущение личной безопасности стало привычкой, неведомо чувство постоянной угрозы, и, обращаясь к прошлому – будь то время войны или эпоха революции, особенно отличаешь личное мужество участников этих событий, бесстрашие в решении собственной судьбы.
«Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил…» – отправился ночью в путь. А нельзя ли было отложить до утра? Прибыть в Смольный, не подвергая себя риску? Дождаться, наконец, «ста верных солдат или ста красногвардейцев с винтовками», о которых поминал Владимир Ильич. Кто-нибудь, очевидно, так бы и сделал, кто-нибудь и повременил, не подвергая себя риску. Ленин поступил иначе…
Не раз и не два приходилось ему сталкиваться со смертельной опасностью. Уходил в эмиграцию по льду Финского залива. А лед был ненадежен, не оказалось и знающих проводников. Нашлись в конце концов двое подвыпивших финских крестьян, с ними и пошел. Ночью, в темноте, лед стал уходить из-под ног, хлынула черная вода, и успел лишь подумать: «Эх, как глупо приходится погибать». Скрывался от преследования Временного правительства, «…если меня укокошат, я Вас прошу издать мою тетрадку: «Марксизм о государстве» (застряла в Стокгольме). Синяя обложка, переплетенная… Условие: все сие абсолютно entre nous!» – писал в те дни. Наконец, выстрелы на дворе завода Михельсона – три, в упор. Тяжелое ранение. «Со всяким революционером это может случиться», – заметил в тот раз.
И вот уже решимость по отношению к самому себе, именно личное мужество революционера Владимира Ульянова начинает представляться всеопределяющей чертой характера, доминирующей стороной его воли. Но обратимся к записям современников Владимира Ильича – революционеров, которые шли с ним одной дорогой. Им тоже случалось заглядывать смерти в лицо, провожать друзей на казнь, самим ожидать смертного приговора.
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам.
Отдайте им лучший почет:
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед…
– известная песня той поры была для этих людей не образом, не иносказанием, а выводом жизни, правдой однажды и навсегда избранного пути. У них были свои представления о мужестве. Из них и исходил старейший большевик П. Н. Лепешинский, когда писал о Ленине:
«Сила и характер его мужества очень ярко выявлялись не столько в тех эпизодах, когда ему случалось смело и спокойно глядеть в глаза смерти, сколько в моменты выполнения им наиболее ответственных революционных ролей… Мужество Ильича носит характер совершенно исключительного явления. В нашу героическую эпоху немало ведь было людей, которые, не моргнув глазом, шли гордо навстречу верной смерти и даже лютым мучениям.
Но далеко не часто встречается в истории такой пример особого рода мужества, какой был выявлен Ильичем в дни октябрьского переворота. Взять на себя всю ответственность за один из величайших актов в революционной истории человечества, поставить на карту тысячи и тысячи дорогих пролетарских жизней, дать сигнал к столкновению двух миров, чреватому невероятно огромными последствиями… – вот это и есть то особое мужество, которое присуще бывает лишь великим титанам духа и воли».
Лепешинский писал эти строки, возвращаясь мысленно к временам, которые пережил: небывалому прежде социальному взрыву, первой социалистической революции, переменившей жизнь всех его соотечественников, буквально каждого человека, да и всего мира.
Известно, жизнь меняется в общем-то медленно. Чаще события проносятся волнами над ней, не затрагивая и малой толики ее пластов… Кстати, скрываясь в квартире на Сердобольской, Владимир Ильич попросил разыскать для него работу экономиста А. П. Людоговского. Фофанова обнаружила нужную книгу у букиниста, и стоила она по тем временам больших денег. Правда, Маргарите Васильевне пообещали в лавке: освободится том – примем за ту же цену. Ленин прочел работу, нужды в ней больше не было, и Фофанова вновь отправилась к букинисту. Вернули деньги сполна, как договорились. Только в промежутке между ее первым и вторым визитом произошла Великая Октябрьская социалистическая революция…